Текст книги "Критика политической философии: Избранные эссе"
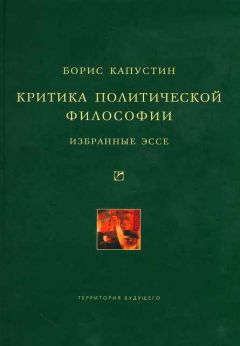
Автор книги: Борис Капустин
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Дело в том, что мораль – одна. Это – мораль достоинства человека как спонтанно (свободно) действующего субъекта истории. По Сорелю, пролетариат утверждает эту мораль для себя в той же мере, в какой пробуждает (или надеется пробудить) ее у своего противника. Насилие, таким образом, есть не противоборство разных видов морали, а борьба за общую мораль против общей для обеих сторон аморальности «механической системы» (хотя, как говорилось, эта аморальность воспринимается одной из них с удовлетворением, другой – с возмущением). Разница между Троцким и Сорелем именно в том, что у первого этика борьбы является односторонней, т. е. она присутствует только на стороне пролетариата (этически борьба возвышает только его, и только его возвышение имеет значение), тогда как у второго она предстает двусторонней. То же самое можно передать иначе. Для Троцкого мораль – «служебный и преходящий продукт классовой борьбы» (см. указ. соч.). Для Сореля она (как мораль достоинства человека) – самоцель.
Чевертое. Сореля часто обвиняли в «культе насилия». Если под этим подразумевается упоение разрушительным действием силы, то в отношении него такое обвинение – вопиющая и, думается, сознательная ложь. Она очевидна каждому хоть немного внимательному читателю его книги, который, конечно же, не может пройти мимо прямого разъяснения автором смысла «доктрины насилия»: она призвана объяснить рабочим, что для их борьбы «совершенно не представляется необходимым, чтобы значительно развита была жестокость и чтобы кровь лилась ручьями» (указ. соч., с. 100).
Но теоретически интереснее другое. Если насилие – все же не обнаружение животной витальности (подобно нашествию Атиллы или походам ранних викингов), а этико-политическое явление, то у него не может не быть внутренних границ, которые оно кладет само себе, а не вследствие сопротивления своего объекта. У него должны быть такие границы уже в силу его природы как разумного явления, поскольку разум вообще может существовать, лишь отличая себя от неразумия и тем самым ограничивая себя. Каковы же границы насилия при понимании этики борьбы как односторонней и двусторонней, точнее, какие принципы в том и в другом случаях определяют такие границы?
Для уяснения этого вновь сравним концепции Троцкого и Сореля. Для первого это – вопрос о том, какие средства допустимы в классовой борьбе. После достаточно банального высказывания о том, что «борьба на жизнь и смерть немыслима без военной хитрости», Троцкий пишет: «Допустимы и обязательны те и только те средства. которые сплачивают революционный пролетариат, наполняют его душу непримиримой враждой к угнетению, научают презирать официальную мораль и ее демократических подголосков, пропитывают его сознанием собственной исторической миссии, повышают его мужество и самоотверженность в борьбе. Именно из этого вытекает, что не все средства позволены». За этим следует эффектный выпад в сторону сталинизма, т. е. пример вождизма как «недопустимого средства», применение которого подрывает самосознание пролетариата в качестве самодеятельной исторической силы (указ. соч.).
Таким образом, селекция Троцким «допустимых средств» проводит границу насилия. Но она полностью соответствует односторонней этике борьбы, выражающей тот убийственный и, как показывает история, самоубийственный классовый эгоизм, который может быть умерен лишь ницшеанским эстетическим добродушным презрением к противнику. К противнику, согласно Троцкому, оправдано применить самые чудовищные средства подавления, если они не подрывают боеспособность пролетариата. Но что понимать под «боеспособностью»? Входит ли в нее уверенность в нравственной правоте своего дела, которая – по определению – возможна лишь тогда, когда оно понимается в качестве общего дела человечества, а не служения собственному эгоизму? Противоречие односторонней этики борьбы, не замеченное Троцким, приводит к тому ее слиянию с «вопросами революционной стратегии и тактики» (указ. соч.), которое делает их «стратегией и тактикой» исторического поражения. Трагическая судьба большевизма – наглядное тому свидетельство[112]112
Этику насилия Троцкого, даже принимая его отвержение «общечеловеческой», «абсолютистской» морали, можно критиковать с иных позиций, чем те, с которых критиковал ее я. С точки зрения прагматизма это показал Джон Дьюи. Для американского философа проблема заключается не в оправдании средств целью (иного оправдания, согласно прагматизму, они не могут иметь), а в «абсолютистской», нерефлективной увязке Троцким цели, каковой является освобождение, со средством, понимаемым как классовая борьба. С точки зрения Дьюи, дефект рассуждений Троцкого состоит, во-первых, в том, что он не показал вариабельность связи освобождения со средствами его достижения, лишь одним из которых (в зависимости от характера ситуации) может быть классовая борьба, тем паче – те ее формы, которые описаны Троцким. Во-вторых, имеет место непонимание взаимозависимости цели и средств: цель заставляет искать подходящие средства, но в зависимости от того, какие из них имеются в наличии, происходит корректировка цели как ориентира действий. См. Dewey,J. Means and Ends: Their Interdependence, and Leon Trotsky’s Essay on «Their Morals and Ours» / Dewey, J. The Political Writings. Ed. D. Morris and I. Shapiro. Indianapolis: Hackett Publishing Co, 1993, p. 230–233. Как таковой подход Дьюи к пониманию связи целей и средств вполне оправдан. Но применение его в полемике с Троцким, выражающееся в интерпретации классовой борьбы лишь как одного из возможных средств политики, резко снижает степень остроты и значимости дискуссии. Чтобы не девальвировать ее этический смысл, нам следует понимать под «классовой борьбой» не специфически марксистское ее описание, тем более – не конкретное описание ее Троцким, а конфликтную, «агональную» (от греческого слова, обозначающего борьбу) природу любой политики вообще.
[Закрыть].
Сорель тоже ограничивает насилие: оно «может быть опасно для нравственности, если переходить известную границу» (указ. соч., с. 99). Что делает эту границу «известной»? Все то, что было сказано ранее о «великой цели» субъектного возрождения на обеих сторонах отношения насилия. Ведь само оно есть, в конце концов, «вмешательство разумной воли в действия, механических причин» (указ. соч., с. 92. Курсив мой. – Б. К.). Разумная воля, чтобы не отрицать себя, не должна переходить через границу, отделяющую ее от неразумия. Применение всех тех методов и средств насилия, которые могут воспрепятствовать обретению буржуазией свойств спонтанно действующего субъекта, не допустимы.
Да, такая формулировка принципа ограничения насилия не содержит точных и неизменных предписаний относительно того, что можно, а что нельзя делать, и уж совершенно ясно, что она не исключает априори физического насилия. На все вопросы можно ответить лишь в контексте конкретной ситуации. Это кажется слишком ненадежным ограничением насилия? Это смущает отсутствием гарантий от его чрезмерности? Это слишком туманно? Но в истории вообще нет гарантий, и единственной надеждой, что насилие все же будет эффективно ограничено является сама разумность воли, его применяющей. Или разум способен справиться с конкретной ситуацией, в которой ему приходится действовать, и тогда насилие останется подконтрольным, или он бежит от нее в моралистическую болтовню о неизменно-абсолютных «разрешено-запрещено», и тогда насилие превратится в ничем не обузданную чистую деструкцию. С осознанием этой дилеммы Сорель и работает с проблемой насилия.
В заключение попытаемся подытожить ответ на поставленный в самом начале вопрос: почему получается так, что политическая философия вроде бы постоянно говорит о насилии и в то же время (как считают многие, в том числе сами политические философы) все никак не может сказать о нем что-то дельное, во всяком случае – создать его развитую теорию?
Если проделанная нами работа может дать какой-то внятный вывод, то он состоит в том, что оппозиция Разум – Насилие – это не выдумка моралистов, хотя моралисты могут превратить ее в ту выдумку, которую мы рассмотрели, разбирая третий тип определений насилия. Разум, понятый в смысле гегелевского «объективного духа», т. е. как рациональная организация жизни людей в обществе, есть подавление насилия – преступлений, незаконных вожделений, необоснованных притязаний, словом, хаоса, который несет необузданная стихия частных эгоизмов. Философия как артикуляция Разума способна дать (с той или иной степенью достоверности) теорию его развития и строения, т. е. того, как происходит подавление насилия. Но в этой теории подавления насилие всегда будет лишь чем-то вытесняемым, предполагаемым и в то же время ускользающим.
Жак Деррида придумал очень удачное выражение, чтобы уловить этот феномен – «конституирующее Другое». Без подавляемого насилия само существование Разума не оправдано и не понятно, и в этом смысле Разум зависит от насилия и конституируется им. Но Разум может существовать только так, что насилие оказывается его Другим, находящимся «по ту сторону» от него. Хотя «по ту сторону» означает не разграниченную рядоположенность, а скорее обратную сторону или изнанку. Если же посмотреть на взаимоотношение Разума и его Другого в его динамике, т. е. в истории, то нам понадобится иной образ – что-то вроде петли Мебиуса, двигаясь по которому Разум и Другое будут меняться местами, чередуясь в плане положений «вверху-внизу». Но в истории к тому же будет еще меняться и их содержание.
Однако всякий раз Другое, т. е. насилие, будет чем-то вытесняемым и ускользающим относительно того, что в данный момент «вверху», и потому оказывающимся Разумом. Говорить – не только посредством философской артикуляции, но через право, устройство экономики, легальную политику и т. д. – может только Разум. В этом смысле Ханна Арендт права, обозначая насилие как молчание, как действие силы без слов. Ее книга о насилии – тоже не о насилии, а о том, как насилие разрушает то, что она отождествляет с политикой. В этом смысле Арендт строго воспроизводит модальность репрезентации насилия всей классической философией: оно обозревается не само по себе, а через «косвенные» признаки его присутствия в другом – в политике ли, как у нее самой, в праве ли (в форме «неправа»), как у Гегеля в «Философии права», или в чем-то другом. Так и современная физика «обозревает» неуловимый электрон по признакам его прохождения через действительно наблюдаемые объекты.
Но все же возможно ли как-то иметь с насилием дело «напрямую», как-то теоретически ухватить его? То, что с достойной постмодернизма неопределенностью называется «постмодернизмом», кажется, только этим и занимается. Способом достичь улавливания насилия выступает деконструкция самого Разума (под какими бы наименованиями он не выступал в тех или иных версиях постмодернизма). Таким образом удается, конечно, открыть всеприсутствие насилия и его конституирующую роль в отношении всего – от языка до любого общественного института, но эффект вытеснения и ускользания остается и даже, так сказать, удваивается. Не только насилие оказывается «трансцендентным» по отношению ко всему актуально сущему, но и ранее обозримый и теоретически описываемый Разум как ненасилие превращается из «сущности» всего лишь в «телос насилия»[113]113
См. Деррида, Ж. Насилие и метафизика / Деррида, Ж. Письмо и различие. СПб.: Академический проект, 2000, с. 147, 161 и др.
[Закрыть]. Последнее, впрочем, было ясно и до постмодернизма и даже неплохо описано в историзированных версиях связи Разума и Неразумия (будь то у Гегеля или Ницше).
Есть ли другие возможности уловить насилие?
Я полагаю, что да, и пятый тип определений насилия, пожалуй, свидетельствует об этом. Такая возможность открывается, когда Разум сопрягается не с ускользающим Насилием, а с покоящимся Господством. Такое сопряжение позволяет рассматривать Насилие, во-первых, в форме ложно претендующего на разумность Господства, что и делает эту форму доступной для критикующего ее Разума, во-вторых, в форме действия самого Разума против Господства, доступной Разуму в виде самопознания. Но такое сопряжение Разума и Господства никак не может быть осмыслено умозрительной философией, стремящейся стоять на «точке зрения вечности». Оно создается таким специфическим контекстом, как революции нового времени, и познается в форме герменевтики революций[114]114
В этих рассуждениях я во многом опирался на критику хабермасовского «коммуникативного разума» и его отношения к действительности, которую развивает П. Коннертон. См. Connerton, P. The Tragedy of Enlightenment: An Essay on the Frankfurt School. Cambridge: Cambridge University Press, 1980, p. 107 ff.
[Закрыть]. Абрис ее и дает Сорель. Умонастроения же правого или «лево-разочарованного» консерватизма, а также морализирующего либерализма, относящиеся к этим событиям как к музейным экспонатам, а не к живому в настоящем или достойному жить в настоящем прошлому, делают герменевтику революций невозможной. А без нее в очередной раз наступает «конец истории», названный или не названный так по имени. В условиях же такого «конца» насилие ускользает окончательно и обнаруживает себя только в совершенно дегенеративных формах террора и контртеррора, преступности низов и коррупции верхов.
Политические смыслы «цивилизации»
Одним из важных проявлений переориентации общественного сознания, вызванной завершением холодной войны, концом «биполярной модели» и утверждением капитализма в качестве «безальтернативной» политико-экономической реальности, стало продвижение «цивилизационной» проблематики к центру широких общественных дебатов. Они вышли далеко за рамки собственно академического ее обсуждения. 2001 год ознаменовался чудовищными террористическими актами 9 сентября и в то же время был объявлен ООН «годом диалога между цивилизациями». Он стал своего рода вехой процесса превращения «цивилизации» в одно из центральных понятий, при помощи которых многие пытались постичь состояние и перспективы «нового мирового порядка».
Предметно-тематическая и институциональная экспансия понятия «цивилизация», его внедрение в обсуждение тех тем, которые до того находились за рамками «теории цивилизаций» и его укоренение в словарях тех практик и институтов (прежде всего СМИ, органов политической власти и международных организаций), которые раньше его не акцентировали или не использовали совсем, привела к появлению двух дискурсов о «цивилизациях». Один дискурс, назовем его «большим», существует преимущественно в рамках академических институтов и является носителем той богатой культуры обсуждения проблематики «цивилизаций», которая накопилась за столетия, прошедшие после «изобретения» «цивилизаций» в эпоху Просвещения. Второй дискурс, вышедший далеко за рамки академических институтов, мы назовем «малым» – по той причине, что он, будучи конъюнктурной реакцией на «злобу дня», представляет собой систематическое обеднение «теории цивилизаций» и непосредственную идеологическую ее адаптацию к функции того, что Клиффорд Гирц именовал «культурной моделью политического действия»[115]115
Geertz, C., «Ideology аs a Cultural System», in The Interpretations of Culture. NY: Basic Books, 1973, p. 219.
[Закрыть].
«Малый дискурс» в решающей мере задан обсуждением двух сюжетов, обычно воспринимаемых как тезис и антитезис, – «столкновения цивилизаций» и «диалога цивилизаций». Первый ассоциируется с консервативным подходом к современной политике, второй – с либеральным и даже «гуманистическим». Цель данной статьи – показать не только сопоставимое теоретическое убожество обоих этих тезисов, но и их функциональную взиамодополнительность – в плане сохранения статус-кво и блокировки возможностей его демократического обновления[116]116
В данной статье эти тезисы рассматриваются в том виде, в каком они выступают в «мировом» дискурсе о «цивилизациях». Их проявлениям в отечественном «цивилизационном» дискурсе посвящена другая моя публикация. См. Капустин Б. Г. «Цивилизация» как идеологический конструкт / Русский журнал, 2008, № 3.
[Закрыть].
Различия между «большим» и «малым» дискурсами, конечно, нельзя понимать таким образом, будто первый являет собою «чистую теорию», отстранившуюся от политической злобы дня, тогда как второй – некую сумму идеологических верований (или внушений), оторванных от теоретического познания действительности. Разумеется, и академическая теория «цивилизаций» является ценностно – и в этом смысле идеологически – ориентированной и отнюдь не свободной от влияния «интересов», формируемых политической практикой, и «малый дискурс» в той или иной мере использует категориальный инструментарий (отчасти заимствованный из той же академической теории) и не лишен элементов понятийной рефлексии. Различия между ними точнее описать при помощи парсонсовской концепции «вторичной селекции», при помощи которой идеология (в смысле, соответствующем манхаймовским «частным идеологиям») акцентирует или опускает проблемы и явления, представляющиеся значимыми для теории, как она существует в данное время[117]117
См. Parsons, T., «An Approach to the Sociology of Knowledge», in Sociological Theory and Modern Society. NY: The Free Press, 1967, p. 153.
[Закрыть]. Таким образом меняется баланс между функцией объяснения явлений и функцией конструирования их «смыслов» (превращения их в «понятные»), присущих любой концепции социальных наук: в «малом дискурсе» вторая функция полностью доминирует, тогда как первая превращается в сугубо вспомогательную, тогда как в «большом дискурсе» она имеет самостоятельное значение.
Помимо прочего, это ведет к депроблематизации самой категории «цивилизация» – ее внутренние противоречия, накопленные всей ее историей, исчезают, и она превращается в шаблон, который непосредственно накладывается на «действительность», уже скроенную в соответствии с ним. Ведь депроблематизация любой категории включает в себя устранение механизмов рефлексивного контроля над ее связью с действительностью, т. е. она служит «лекалом» действительности до того, как становится ее мерилом. Поэтому для «малого дискурса» о «цивилизациях» – в отличие от «большого» – в действительности нет непознанного, и его функция, строго говоря, состоит не в познании, а в оглашении Истин. Равным образом, он не знает саморефлексии как вопрошания себя о собственной состоятельности (о границах своих эвристических ресурсов, о возможных логико-методологических дефектах, об обоснованности посылок и допущений и т. д.). По этим признакам и можно различать идеологию и теорию – без какого-либо наивного отождествления последней с «объективным», «беспристрастным», эмпирически верифицируемым (или фальсифицируемым), логически строгим и т. д. знанием.
Данная статья стремится выявить различия в тематической и концептуальной организации «большого» и «малого» дискурсов о «цивилизациях», а также то, как и почему эта организация меняется при переходе от первого ко второму. В задачи статьи не входит ни исследование истории понятия «цивилизация», которая, собственно, и задает организацию «большого дискурса», ни критика отдельных концепций, относящихся к «малому дискурсу», в которых толкуются сюжеты «столкновения цивилизаций» и их «диалога». По обоим этим вопросам существует богатая и отличная литература[118]118
По первому вопросу см. Arnason,J. P., Civilizations in Dispute. Leiden: Brill, 2003 (в особенности главы 1–4); Mazlish, B., Civilization and Its Contents. Stanford (CA): Stanford University Press, 2004 (главы 1–4); Starobinski, J., «The Word Civilization», in Blessings in Disguise, or, The Morality of Evil, tr. A. Goldhammer. Cambridge: Polity Press, 1993; Braudel, F., «The History of Civilizations: The Past Explains the Present», in On History, tr. S. Matthews. Chicago: The University of Chicago Press, 1980 и др. По второму вопросу см. Said, E., «The Clash of Definitions», in Reflections on Exile and Other Essays. Cambridge (MA): Harvard University Press, 2000, pp. 569–590; Said, E., «The Clash of Ignorance», in The Nation, October 22, 2001; Senghaas, D., The Clash Within Civilizations: Coming to Terms with Cultural Conflicts. L. – NY: Routledge, 2002, chapter 7; Azmeh, A. Al-, «Civilization, Culture and the New Barbarians», in International Sociology, vol. 16, no. 1 (2001); Dallmayr, F., Dialogue among Civilizations: Some Exemplary Voices. Houndmills, Basingstoke (UK): Palgrave /Macmillan, 2002; Межуев, В. М. Диалог между цивилизациями и Россия. В кн. От диалога цивилизаций к сотрудничеству и интеграции. Под ред. С. С. Сулакшина. М.: Научный эксперт, 2006 и др.
[Закрыть]. Мы же будем стремиться раскрыть организацию дискурсов как (относительных) целостностей. Цель – выявить то, каким образом конфликтные интерпретации «цивилизации» в рамках «большого дискурса» обусловливают его историческое развитие в качестве «сущностно оспариваемого понятия»[119]119
См. Gallie, W. B., «Essentially Contested Concepts», in Philosophy and the Historical Understanding. NY: Schocken Books, 1968.
[Закрыть]. Напротив, мы покажем, как в «малом дискурсе» мнимо противоречивые подходы, представляемые «столкновением цивилизаций» и «диалогом цивилизаций», тиражируют по сути одинаковое истолкование «цивилизации». Этим закрывается возможность его теоретического развития. Данным сюжетам посвящена первая часть настоящей статьи.
Но целью статьи выступает и выяснение того, какая именно реальность являет себя в концепциях «малого дискурса» о «цивилизациях». Задача их критики не сводится к показу того, что они скрывают вследствие своей идеологической природы. Напротив, критика должна увидеть то, что они обнаруживают благодаря своей идеологической природе и даже благодаря своим теоретическим слабостям. Более конкретно – необходимо понять, «культурной моделью» (по Гирцу) каких действий выступают концепции «малого дискурса» о «цивилизациях» и в рамках чьих политико-идеологических проектов такие действия осуществляются. Тезис, доказательству которого будет подчинена вторая часть данной статьи, состоит в том, что эти концепции являются «культурными моделями» проектов авторитарной гегемонии, характерных для нынешнего периода «безальтернативного» господства глобального капитализма.
Два дискурса о «цивилизациях»«Большой дискурс» о «цивилизациях» вращается вокруг четырех основных осей, и его отличия от «малого дискурса» прослеживаются по тому, как при переходе к последнему изменяются смыслы понятия «цивилизация» по каждой из этих осей. Речь идет об осях, полюсами которых являются трактовки «цивилизации», во-первых, как (духовной) «культуры» и, напротив, как материальных и институциональных «технологий» организации человеческой жизни, во-вторых, как стадии и / или формы всемирной истории и как, по определению, локального явления с необходимо связанным с этим представлением о множественности «цивилизаций», в-третьих, как предельно объемлющей и широкой (за исключением рода человеческого) общности людей, характеризующей макроуровень их бытия, и как протекающих на микроуровне процессов становления людей «цивильными» существами, в-четвертых, как цельного и однородного образования и как чего-то внутреннего противоречивого, чья разнородность синтезируется в относительное и потенциально хрупкое единство благодаря историческим свершениям (кем-то и когда-то осуществленным), а не предопределена «природой вещей». Рассмотрим каждую из этих четырех осей.
1. В «большом дискурсе» о «цивилизациях» отождествление «цивилизации» и «культуры» сталкивается с их принципиальным противопоставлением. Вследствие этого вопрос о том, каким образом «цивилизация» и «культура» материализуется в институтах соответствующего общества, становится по сути дела центральным. Так, вся «социология религии» Макса Вебера и ее бесчисленные ответвления в современных «цивилизационных» дебатах пронизаны этим вопросом. Именно он выступает смысловым центром определения «цивилизации» Шмуелем Эйзенштадтом в качестве «попыток сконструировать общественную жизнь в соответствии с онтологическим видением, которое соединяет концептуальные представления о космосе, о поту– и посюсторонней реальности, с регуляцией основных сфер общественной жизни и взаимодействия между политикой, авторитетом, экономикой, семейной жизнью и т. д.»[120]120
Eisenstadt, S. N., Jewish Civilization: The Jewish Historical Experience in a Comparative Perspective. Albany (NY): State University of New York Press, 1992, p. 13.
[Закрыть].
Однако у этого вопроса есть вторая сторона: каким образом функционирование и эволюция общественных институтов влияют на «культуру», включая и тот ее уровень, который Эйзенштадт называет «онтологическим видением»? Сама постановка этой проблемы заставляет мыслить «цивилизацию» в качестве исторического образования, все уровни которого претерпевают изменения. И сколь бы ни различались темпы и модели таких изменений на разных уровнях «цивилизации», ее уже нельзя представить как нечто статичное или неуклонно следующее внеисторическим законам циклического движения (в духе Шпенглера), как нечто, фиксированное во времени и пространстве и предопределенное неизменными культурными «архетипами». Более того, как подчеркивал Альфред Кребер, изучение параметров, моделей и векторов исторического изменения «цивилизаций», которые определяются им в качестве «ансамбля культурных стилей и образцов, имеющих специфические рисунки развития», становится по существу главным делом «цивилизационного анализа»[121]121
См. Kroeber, A., «Flow and Reconstitution within Civilizations», in An Anthropologist Looks at History. Berkeley (CA): University of California Press, 1963. Наглядным примером противоположности подходов к проблеме исторического характера «цивилизаций» является оппозиция взглядов Альфреда и Макса Веберов. Для первого «цивилизация» была кумулятивным и универсальным процессом, тогда как «эманациям» «культуры» (религии, в первую очередь) он приписывал статичный и неизменно партикулярный характер. Макс Вебер, напротив, преодолевая саму дихотомию «цивилизации» и «культуры», стремился раскрыть динамические свойства мировых религий и формы их взаимодействия с общественными институтами. Об этом см. Arjomand, S. A. and E. A. Tiryakian, «Introduction», in Rethinking Civilizational Analysis, ed. by E. A. Tiryakian. L.: Sage, 2004, p. 3.
[Закрыть].
В противоположность этому отличительной чертой «малого дискурса» о «цивилизациях» является не столько само по себе отождествление их с «культурой»[122]122
Хантингтон не осознает теоретическую проблематичность и дискуссионность такого отождествления и делает его столь наивно и бездоказательно, что это уже вызвало иронию комментаторов. См. Schafer, W., «Global Civilization and Local Cultures: A Crude Look at the Whole», in International Sociology, vol. 16, no. 3 (2001), p. 304 ff.
[Закрыть], сколько то, каким образом такое отождествление производится. Делается же это так, что институты при определении «цивилизации» просто выносятся за скобки. К примеру, для понимания «индуистской цивилизации» не имеет значения то, что в Индии бурно развивается капитализм и что она превращается в одного из лидеров мировой экономики, что в ней давно существует устойчивая парламентская демократия и т. д. Но равным образом для постижения «западной цивилизации» не имеет значения, в каких институциональных формах в ее рамках существовало и изменялось «верховенство закона» или разделение светской и духовной власти, как, впрочем, и все остальное, что Хантингтон и его сторонники относят к отличительным чертам данной «цивилизации».
Вынесение институтов за скобки прежде всего тем и достигается, что некоторые из них, идеологически отобранные сторонниками «столкновения цивилизаций» и «диалога цивилизаций», изображаются в качестве ценностей, тогда как другие институты, в реальной истории сыгравшие не меньшую роль для развития тех или иных «цивилизаций», предаются забвению. Те же «верховенство закона» или «разделение светской и духовной власти» возникли, исторически изменялись, принимали многообразные формы, конечно же, именно как определенные институты и как результаты достаточно хорошо известных событий, конфликтов и процессов. Если в ходе истории они post factum предстали в определенных срезах общественного сознания в качестве «ценностей», то именно это, т. е. эта сторона взаимодействия институтов и «культуры», и должна быть изучена. Ее не следует затемнять фиктивной телеологией истории, отправляющейся от извечных или непонятно откуда взявшихся «ценностей» и направленной на их «материализацию» в организации жизни общества. Но уж если «верховенство закона» или «разделение светской и духовной власти» считать отличительными институциональными чертами «западной цивилизации», то почему бы к числу таких черт не отнести, скажем, колониализм, классовую эксплуатацию, патриархальное угнетение женщин, милитаризм и многие другие институты? Без них «западная цивилизация», несомненно, не могла бы быть тем, чем она является сейчас. И в свое время многие из таких институтов тоже представали в качестве «ценностей»!
Но описание «цивилизаций» в рамках «малого дискурса» оказывается, если воспользоваться понятиями Зигмунда Баумана, продуктом «законодателя», а не «интерпретатора»[123]123
См. Bauman, Z., Legislators and Interpreters: On Modernity, Post-Modernity, and Intellectuals. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1987.
[Закрыть]. «Законодатель» присваивает себе право решать, какие институты считать «ценностями», а о каких умолчать, где провести границу между добром и злом[124]124
Лишь один небольшой пример этого. У Хантингтона разделение «западного христианства» на католичество и протестантство трактуется в качестве еще одной отличительной черты «западной цивилизации», наделяемой, как и все остальные, позитивным смыслом (см. Huntington, S. P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. NY: Simon & Schuster, 2003, p. 70). Для тех, кто жил (и выжил) в период этого разделения, для выдающихся умов по обе стороны разлома «западного христианства», это было огромной трагедией, угрожавшей самому его существованию. Но, отвлекаясь от всего этого, хорошо было бы понять, почему у Хантингтона один раскол христианства – между католичеством и протестантством – стал отличительной чертой единой «западной цивилизации», а другой – между католичеством и православием – прочертил границу между разными «цивилизациями»?
[Закрыть], кто достоин того, чтобы появиться на арене большой политики и считаться ее «действующими лицами», а кто – нет, и т. п. При этом прерогативой, но и важнейшим условием, такой деятельности «законодателя» является сокрытие собственного авторства всех этих решений и изображение их в качестве оглашений истин, заданных самой «природой вещей». Такое натуралистическое изображение того, что принадлежит истории и политике, начиная с представления институтов, всегда являющихся событиями и процессами (сколь угодно устойчивыми и долговременными) в виде неизменных «ценностей», кончая продуктами собственной деятельности «законодателя», подаваемыми в качестве «объективных истин», есть одна из главнейших характеристик и свойств идеологии. Что лишний раз подтверждает и иллюстрирует концепция «цивилизаций» Хантингтона[125]125
Самым наглядным образом вынесение Хантингтоном институционального аспекта «цивилизаций» за скобки его анализа проявляется в том, как он списывает со счетов большой политики все конфликты – политические (sic!), экономические, идеологические, – которые коренятся в институтах и объяснение которых предполагает в первую очередь институциональный анализ общества. По Хантингтону, после холодной войны все их заслоняют или на их место встают конфликты по поводу «идентичности», обусловленной принадлежностью к разным «цивилизациям» (см. Huntington, S. P., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, pp. 21, 28). Конфликты «идентичностей» не требуют у Хантингтона никакого объяснения, кроме указания на различия базовых «ценностей» различных «цивилизаций». Почему такие различия вообще должны вызывать конфликты, остается не объясненным (даже чисто логически «разница» не есть обязательно «противоречие»). Трагикомический парадокс теории Хантингтона состоит в том, что ее главный сюжет о «столкновении цивилизаций» в теоретическом плане повисает в воздухе и остается концептуально никак не обоснованным (об этом см. Senghaas, D., Op. cit., p. 73).
[Закрыть].
«Диалог цивилизаций», выдающий себя за альтернативу хантингтоновских идей, полностью принимает тот строй идеологических фикций, который образует смысловой каркас концепции «столкновения цивилизаций». Принимается прежде всего представление о том, что миру угрожает, или в мире уже происходит, столкновение именно «цивилизаций», и что такое столкновение имеет «экзистенциальный, а не структурный характер», если пользоваться терминологией описания «преступлений 90-х годов» в докладе «Преодолевая барьеры»[126]126
Преодолевая барьеры. Диалог между цивилизациями. М.: Логос, 2002, с. 42.
[Закрыть], созданном под эгидой ООН. Такое противопоставление конфликтов «экзистенциального» и «структурного» типов, являющееся ложным в отношении причин таких «преступлений 90-х годов», как гражданские войны на Балканах, геноцид в Руанде, так называемые этнические конфликты на территории бывшего СССР и т. д., тем не менее показывает, с какой полнотой (и некритичностью) «диалог цивилизаций» перенимает хантингтоновское игнорирование институционального измерения «цивилизаций». Еще более наглядным это делает объявление важнейших структурных противоречий современного мира (между Севером и Югом, развитыми и развивающимися странами, глобализацией и партикулярностю «национальных культур» и т. д.) «ложными противопоставлениями» (sic!!)[127]127
Преодолевая барьеры. Диалог между цивилизациями, с. 47.
[Закрыть].
Близость концептуальных посылок «столкновения цивилизаций» и «диалога цивилизаций» проявляется и в другом аспекте. Неспособность Хантингтона объяснить то, почему из различий духовного строя «цивилизаций» должны вытекать столкновения между ними (см. сноску 10), оборачивается в «диалоге цивилизаций» фантастическим отнесением «экзистенциальных» трагедий XX века на счет неких иррациональных фобий, именуемых «страхом многообразия» и «восприятием многообразия как угрозы»[128]128
Там же, с. 33.
[Закрыть]. Откуда берутся эти фобии? Почему они сохраняются? Все это остается загадкой для «диалога цивилизаций». Но оправдание своей значимости он видит именно в том, чтобы в духе наивного просветительства бороться с такими фобиями методами демонстрации их необоснованности и развития взаимопонимания у представителей разных «цивилизаций». Но все это ограничивается лишь «обменом информацией» друг о друге и ни в коем случае не должно вести к убеждению или переубеждению участвующих в «диалоге» сторон[129]129
См. там же, с. 57.
[Закрыть]. Ведь само собой предполагается, что они представляют разные и неизменные «цивилизации», а потому любое переубеждение равнозначно насилию над их «идентичностями».
Главное же, что различает «диалог цивилизаций» и «столкновение цивилизаций», в «концептуальном» отношении также базируется на сходстве между ними. Дело в том, что Хантингтон отнюдь не отрицает наличие тех «общих универсальных ценностей», того «общего знаменателя» различных «культур», на котором строится вся идея «диалога цивилизаций»[130]130
См. Huntington, S. P., The Clash of Civilizations, p. 56. См. Преодолевая барьеры, с. 37.
[Закрыть]. Он даже считает мысль об общих ценностях «глубокой». Все отличие его позиции от «диалога цивилизаций» заключается в том, что «общие ценности» как константы не позволяют объяснить историю, которая ведь и состоит в изменениях поведения и действий людей. Поэтому от такого «общего знаменателя» можно абстрагироваться при рассмотрении политики и сосредоточиться на том, что разделяет человечество на основные «цивилизационные» группы[131]131
См. Huntington, S. P., Ibid.
[Закрыть]. Таким образом, и «столкновение цивилизаций», и «диалог цивилизаций» «концептуально» согласны в признании существования «общих ценностей». Но они постулируют разное значение таких «общих ценностей» для истории и политики: в «диалоге цивилизаций» им приписывается то, что можно назвать эффектом «прямого действия» на политику и историю, тогда как Хантингтон именно такое их «прямое действие» отрицает.
Однако ни та, ни другая сторона даже не ставят теоретический вопрос – каким образом ценности «входят» в политику и историю, как они могут (или почему не могут) производить исторические и политические следствия[132]132
Аналитически это – совсем другой вопрос, чем тот, которым мы вопрошаем о наличии (или отсутствии) «фундаментальных ценностей» и об их характере. Если даже «глубинная феноменология» удостоверяется в наличии таких ценностей и неким образом их содержательно описывает, то это еще не говорит нам о том, как именно они воздействуют на поведение людей. Суть спора состоит в том, являются ли «фундаментальные ценности» непосредственными детерминантами действий людей или нет. См. подробнее Senghaas, D., Op. cit., p. 118, note 2.
[Закрыть]. Поэтому вся полемика по данному вопросу имеет чисто декларативный и откровенно идеологический характер. Тот же аргумент Хантингтона о возможности абстрагироваться от «общих ценностей» может быть легко обращен против него самого: почему мы не можем абстрагироваться от константных «ценностей» каждой отдельной «цивилизации» при объяснении ее истории? И, напротив, если константные «ценности» могут объяснить историю одной «цивилизации», то почему они не годятся для объяснения всемирной истории?
2. Полюсами второй оси «цивилизационных» дискуссий выступают «унитарно-стадиальная» интерпретация «цивилизации» как этапа всемирной истории и «плюральная» ее трактовка, призванная отразить синхроническое и диахроническое множество локальных «цивилизаций»[133]133
Подробнее об этом см. Arnason, J. P., «Civilizational Patterns and Civilizing Processes», in International Sociology, vol. 16, no. 3 (2001), p. 387 ff.
[Закрыть]. Главной проблемой здесь является именно взаимопроникновение этих, казалось бы, противоположных версий «цивилизации», которое в той или иной форме обнаруживается практически во всех ее теориях.
Понятие «цивилизация» (в отличие от прилагательного «цивилизованный») возникает в Западной Европе в эпоху Просвещения и выступает важной формой и способом саморефлексии и самоутверждения нового буржуазного общества. Решение этих задач, точнее, двух сторон одной задачи предполагало фиксацию отличительных черт этого нового общества по сравнению как с тем, что было до него, так и с тем, что существовало одновременно с ним, но было другим. Вместе с тем – в логике самоутверждения – таким отличиям придавались нормативные значения, которые сливались в идее превосходства этого общества над Другим, как исторически более ранним, так и одновременным, но иным[134]134
Подробнее об этом см. Mazlish, B., «Civilization in a Historical and Global Perspective», in International Sociology, vol. 16, no. 3 (2001), pp. 293–296. Развивавшаяся практически одновременно со становлением этого «цивилизационного» самосознания нового общества его критика – от Руссо и Фергюсона до ранних романтиков – была не отрицанием его уникальности и беспрецедентных достижений, но выявлением сопровождавших их и вызванных ими «пороков» и противоречий. Тем самым она по-своему тоже служила рефлексивному самоутверждению этого общества. То же в принципе можно сказать о начавшемся с Канта различении «цивилизации» (как «внешней пристойности») и «культуры» (и ее ядра в виде морали). (См. Кант, И., Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане / Соч. в 6 томах. Т. 6. М.: Мысль, 1966, с. 17). Разумеется, политической подоплекой разведения этих понятий были противоречия между центром и периферией тогдашней «западной цивилизации», столь ярко отраженные критикой французского Просвещения немецким романтизмом.
[Закрыть].
Таким образом, «стадиальная» версия «цивилизации» является унитарной лишь с той своей стороны, с которой она претендует на описание высшей ступени всемирно-исторического процесса. Но сама логика такого описания предполагает противопоставление «цивилизации» тому, что ею не является, – историческому и современному Другому. Другому «цивилизация» придает, так сказать, темпоральную двумерность: оно находится в настоящем вместе с «цивилизацией» и одновременно с этим воплощает прошлое, которое еще только должно быть оставлено позади продвижением человечества к «цивилизации» как стадии всемирной истории. Но наделив «нецивилизованное» Другое такой темпоральной двумерностью, «цивилизация» необходимым образом принимает ее на себя. Ей еще только предстоит стать универсальной стадией всемирной истории в будущем, и в этом превращении она зависит от Другого (только его изменение способно наделить «цивилизацию» качеством универсальности). Вместе с этим «цивилизация» уже в настоящем есть эта высшая стадия развития как нечто осуществленное. В этом качестве она не зависит от Другого, но, напротив, ведет его за собой.









































