Текст книги "Критика политической философии: Избранные эссе"
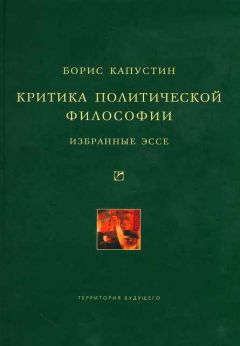
Автор книги: Борис Капустин
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Явления, подводимые под рубрику «столкновение цивилизаций», столь разноплановы, что при первом приближении у них трудно обнаружить что-либо общее помимо окраски в риторику цивилизационно-культурной идентичности и самобытности. В самом деле, что еще объединяет, к примеру, терроризм «Аль-Каиды» или воинствующий фундаментализм афганских талибов с борьбой Сингапура или Малайзии за место под солнцем глобальной экономики, разворачивающейся под знаменами исконных «азиатских ценностей»[161]161
См. Zakaria, F., «Culture Is Destiny: A Conversation with Lee Kuan Yew», Foreign Affairs, 1994, vol. 73, no. 2. Подробнее об этом см. Huat, Chua Beng, «Multiculturalism in Singapore: An Instrument of Social Control», in Race and Class, vol. 44, no. 3 (2003). См. Mohamad, M. bin, The Way Forward. L.: Wiedenfeld & Nicolson, 1998, особенно глава 5.
[Закрыть]? Что все это имеет общего с попытками религиозно-консервативных сил в Индии навязать бесконечно многообразной стране мифическую гомогенную «индуистскую цивилизацию» и тем самым – по западному образцу! – создать централизованную «нацию-государство»[162]162
См. подробнее Gupta, A., «Are We Really Seeing the Clash of Civilizations?» in «The Clash of Civilizations»? Asian Responses, ed. S. Rashid. Dhaka: The University Press Limited, 1997, p. 67.
[Закрыть]? Или со стремлением современной России добиться реального членства в клубе сильных мира сего под флагом апелляций к «идентичности российской цивилизации» и многополярности мировой политики[163]163
См. Громыко, Ю., «Центральный пункт диалога цивилизаций: жизнестратегия против стратегии смерти» / http:/mmk-mission.ru / polit / ideo / 20070 422-kult-pr. html (сайт посещен 10.11.07).
[Закрыть]? Политическая экономия всех этих явлений, логика их развития, движущие силы, динамика их взаимоотношений с «Западом»[164]164
Последнее особенно важно, ибо все рассуждения о «столкновении цивилизаций» эксплицитно или имплицитно подразумевают «столкновения» «незападных цивилизаций» с «Западом». В логике «столкновения цивилизаций» характерным образом не осмысливаются, к примеру, кровавый конфликт сингалов и тамилов на Шри Ланке, который легко было бы представить в качестве «столкновения» буддистской и индуистской цивилизаций, или то вспыхивающая, то затухающая борьба исламских правителей Судана с христианами и анимистами Юга страны.
[Закрыть] и т. д. разнятся настолько, что, казалось бы, делают невозможной какую-либо их общую рубрикацию. Однако при более внимательном рассмотрении некоторые общие признаки все же обнаруживаются.
1. В нормативном плане эти явления легитимируются (с разной степенью последовательности и настойчивости) посредством апелляции к «традиционным ценностям», которые эссенциалистски представляются в качестве «истинного основания» культурной или цивилизационной идентичности. Такие «традиционные ценности» есть продукты современного отбора некоторых элементов культурного наследия и их властно-политической фиксации в качестве «истинных оснований» в рамках определенных политических проектов[165]165
Выпуск в Сингапуре в январе 1991 г. парламентской Белой книги об «общих ценностях» является крайним случаем такой официозной фиксации «истинных оснований» «цивилизации» (см. Wee, C.J. W.-L., «Framing the ‘New’ East Asia: Anti-Imperialistic Discourse and Global Capitalism», in «The Clash of Civilizations»? Asian Responses… p. 90). Но обращение официальных идеологий разных стран, включая западные, к «истинным ценностям» является скорее общим правилом.
[Закрыть]. Но ни это, ни нацеленность легитимируемых ими проектов на техно-экономический «прорыв в будущее» (как в случаях Сингапура или Малайзии) не меняет антимодернистский характер данных явлений. Ведь если в нормативном отношении Современность конституируется саморефлексией, самоинтерпретацией и самообоснованием (генерированием собственных принципов из себя самой)[166]166
См. Habermas,J., The Philosophical Discourse of Modernity, tr. F. Lawrence. Cambridge, MA: MIT Press, 1987, pp. 7, 19, 31, 55 ff.
[Закрыть] и тем изменением статуса традиций, при котором они «вынуждены объяснять себя, становиться открытыми для вопрошания и дискурса»[167]167
Giddens, A., Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics. Cambridge: Polity Press, 1994, p. 5.
[Закрыть], то нормативно эссенциализированные «основания» «цивилизаций» представляют собою нечто, прямо противоположное этому. Ведь «традиции» при таком подходе не «объясняют», а постулируют себя в качестве «истинных оснований», и режимом такого постулирования выступает именно их закрытость для «вопрошания и дискурса».
2. Режим постулирования «ценностей» и «оснований» сам по себе предполагает, что в центре рассматриваемых «цивилизационных» явлений лежит идея порядка, а не свободы. Точнее, и порядок, и свобода оказываются при таком постулировании антимодернистскими, т. е. противоположными специфически современной идее порядка, основанного на свободе[168]168
Мы не можем в данной статье рассматривать вопрос о том, насколько эта противоположность может быть объяснена как преходящая черта модернизационного процесса, через который проходят, к примеру, страны Юго-Восточной Азии, и который якобы должен привести к утверждению политической культуры и структур, по своим основным «современным» параметрам схожих с европейскими аналогами. См. Senghaas, D., Op. cit., pp. 94 ff.
[Закрыть]. Возражения против «прав человека», исходящие от защитников самобытности «незападных цивилизаций», есть лишь частное проявление антимодернистской идеи порядка. Это проявление вытекает из неприятия идеи и практики коллективной автономии как самоопределения и самоконституирования «мы» (каков бы ни был масштаб такого» мы»), т. е. из неприятия «позитивной свободы». Это ведет к дефициту «негативной свободы», к слабости или отсутствию механизмов защиты индивидуального «я». Эти механизмы обычно ассоциируются с «правами человека»[169]169
Не углубляясь в дебаты о соотношении «позитивной» и «негативной свободы», лишь выражу солидарность по этому вопросу с Чарльзом Тейлором. См. Taylor, C., «What’s Wrong with Negative Liberty», in The Idea of Freedom, ed. A. Ryan. Oxford: Oxford University Press, 1979.
[Закрыть]. Подавление коллективной автономии делает фигуру Законодателя Истины, о которой шла речь выше, каковы бы ни были ее институциональные воплощения, центральной для всех рассматриваемых явлений, что и придает им характер практик и проектов авторитарной гегемонии[170]170
Если гегемония как таковая является необходимым моментом и формой конституирования «действующих лиц» политики и их взаимоотношений, то, несомненно, огромное значение имеет различие между ее авторитарными и демократическими практиками. См. Laclau, E. and C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, tr. W. Moore and P. Cammack. L.: Verso, 1985, pp. 58 ff.
[Закрыть].
3. Структуры авторитарной гегемонии, легитимируемой «ценностями идентичности», возникли в результате определенных политико-идеологических конфликтов и остаются (потенциально или актуально) включенными в них, т. е. открытыми для оспаривания. Реакцией на такие конфликты являются подчас радикальные реинтерпретации «традиционных ценностей» самими носителями и защитниками авторитарной гегемонии или споры между ними о том, какова именно «цивилизация», «основания» которой они артикулируют и отстаивают. Сам дискурс о «ценностях идентичности» и даже демонстративные акты «столкновения цивилизаций» предназначены прежде всего для «внутреннего потребления» – для ослабления позиций и дискредитации носителей альтернативных (демократических) политических проектов и для укрепления гегемонии над «ведомыми», т. е. для более «эффективной мобилизации масс» как исполнителей авторитарных проектов[171]171
Так, есть основания видеть в террористических актах «9 сентября» гигантскую провокацию, направленную на то, чтобы вызвать «возмездие Запада» и тем самым представить наиболее воинственные течения исламизма в качестве «естественных защитников» всех мусульман. Именно отсутствие заметных политических успехов радикального исламизма после его первого подъема в конце 70-х – 80-х годах делало такую провокацию целесообразной для его вождей. Подробнее см. Kepel, G., Jihad. The Trial of Political Islam. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002, p. 4 ff.
[Закрыть].
4. Во многих из рассматриваемых нами явлений вопросы социально-экономической справедливости оказываются вторичными по сравнению с вопросом культурной идентичности. Справедливость подается как нечто, производное от «цивилизационной идентичности». В рамках «органического единства», насаждаемого авторитарной гегемонией, отстаивание социальных прав как прав представляется индивидуализмом и эгоизмом частных лиц и их групп, подрывающих «естественную» солидарность. Меры же политики доходов и социального обеспечения – там, где они имеют место, – исполнены в логике патронажа и вознаграждения за вклад в «общее дело», а не удовлетворения прав, завоеванных и гарантированных борьбой трудящихся. Иными словами, такая социальная политика выступает составляющей стратегии консолидации авторитарной гегемонии.
5. «Цивилизационные» проекты можно представить как разновидность «политики идентичности» и борьбы за признание (отличая ее от «политики перераспределения» и борьбы за социально-экономическую справедливость), хорошо известную и из современного «мультикультурального» опыта Запада. Она отличается от другого вида борьбы за признание, присущего классическим (гегелевско-марксовским) проектам освобождения, тем, что направлена на защиту или экспансию существующей идентичности, а не на ее отрицание в пользу новой нравственно более богатой идентичности, обретаемой в борьбе с угнетателями. Поскольку «цивилизационные» проекты не имеют перспективы снятия нынешней идентичности в пользу завтрашней, постольку в них нет тенденции универсализации, предполагающей «включение Другого» в те новые форматы «взаимного признания», которые становятся возможными благодаря обретению новых идентичностей обеими конфликтующими сторонами. Поэтому в таких проектах нет потенциала создания будущего. Они выражают абстрактное – в гегелевском смысле – особенное[172]172
Абстрактное особенное тем и характеризуется, что мнит себя абсолютным, а свои границы – естественными и неизменными. Такое понимание особенного блестяще передает сам Хантингтон: «В прежнем Советском Союзе коммунисты могли стать демократами, богатые могли стать бедными, а бедные – богатыми. Но русские не могут стать эстонцами, а азербайджанцы – армянами. В классовых и идеологических конфликтах ключевой вопрос был „на чьей ты стороне?“, и люди могли выбирать и в действительности выбирали и меняли стороны. В конфликтах цивилизаций вопрос заключается в том «кто ты?». И это – данность, которая не может быть изменена» (Huntington, S., «The Clash of Civilizations?», p. 27). Этим он удачно подчеркивает противоположность между конкретным особенным (в виде класса), которое несет в себе универсалистские тенденции самотрансформации, опосредуемой политически свободой самоопределения («на чьей ты стороне?»), и абстрактным особенным, которое порабощает неизменной заданностью своих определений (безвариантное «кто ты?»). Такая неизменность обусловлена авторитарным характером тех «цивилизационных» проектов, которые имеет в виду Хантингтон под именем «цивилизаций». «Цивилизационные» проекты, имевшие характер демократической, а не авторитарной гегемонии, предусматривали, напротив, возможность изменения «идентичности» сторон конфликта. Махатма Ганди, к примеру, писал о возможности «индианизации англичан» как об альтернативе их изгнанию из Индии. (См. Gandhi, M., «Hind Swaraj», in Hind Swaraj and Other Writings, ed. A.J. Parel. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, p. 73). Но при этом и индийцы должны были трансформироваться настолько, чтобы стать способными к самоуправлению («свараджу»).
[Закрыть], в котором всеобщее (глобального капитализма) присутствует лишь как грубая необходимость, принуждающая такие партикулярности выживать в борьбе друг с другом без перспективы достижения более высокого нравственного синтеза. Борьба «цивилизационных» проектов оказывается в историческом и нравственном смысле «зряшной»: она – лишь функция воспроизводства самого статус-кво и в то же время – форма, в которой закрепляется абстрактность абстрактных партикулярностей, не совместимых с нравственным универсализмом (что, конечно, не делает ее «зряшной» с позиций господ «цивилизационных» проектов).
Чем объяснить эту происходящую под знаменами «цивилизаций» антимодернистскую архаизацию дискурсов и практик, столь разительно контрастирующую с тем, что наблюдалось в двадцатом веке, точнее, в течение того, что Эрик Хобсбаум назвал «коротким двадцатым веком», границами которого стали 1914 и 1991 годы[173]173
См. Hobsbawm, E., Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991. L.: M. Joseph, 1994.
[Закрыть]?
Вероятно, самым лаконичным ответом на этот вопрос будет то, что «короткий двадцатый век» завершился остановкой истории, наступлением периода «после диалектики», как удачно выразился Горан Терборн[174]174
См. Therborn, G., «After Dialectics: Radical Social Theory in a Post-Communist World», in New Left Review, 2007, no. 43, p. 65 ff.
[Закрыть]. Остановка истории – это утрата альтернативы статус-кво, закрытие горизонта качественно иного – в нравственно-политическом плане – будущего. Это – дегенерация истории в эволюцию, в которой технико-экономический рост отсоединяется от нравственно-политической трансформации, а место будущего занимает пролонгированное и приумноженное настоящее.
Фукуямовский «конец истории» и хантингтоновское «столкновение цивилизаций» – не антагонистические[175]175
Как их пытался представить сам Хантингтон и как их воспринимают те, кто ему поверил. См. Huntington, S., The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, p. 31 ff; Преодолевая барьеры, с. 25.
[Закрыть], а взаимодополняющие концепции, если смотреть на то, что, а не как они выражают. Предсказанный Фукуямой глобальный триумф либеральной идеологии, разумеется, не произошел и не произойдет в будущем. Но конфликты, развернувшиеся в мире «после диалектики», действительно, оказались лишены трансформационного потенциала и осуществляются в соответствии с описанной Хардтом и Негри «формой правила» воспроизводства глобального «порядка» (правила, которым в условиях новой «Империи», описанной ими, стала война)[176]176
См. Hardt, M., and A. Negri, Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. NY: Penguin, 2004, pp. 13, 30–37.
[Закрыть]. Если слом нравственно-политической диалектики был условием торжества глобального капитализма (и в этом заключается правда фукуямовского «конца истории»), то практическим следствием этого могла стать только «натурализация» тех форм, в которых предстают действующие на арене «постистории» силы. «Естественности» и безальтернативное™ капитализма строго соответствует «естественность» и без-альтернативность «цивилизационных» или «культурных» форм, которые принимают находящиеся в его пространстве силы. Поэтому недоуменный вопрос Хантингтона, обращенный к его оппонентам и зафиксированный в названии одной из его статей – «Если не цивилизации, то что?» (см. сноску 42), вполне оправдан. В мире без диалектических нравственно-политических смыслов[177]177
См. Laidi, Z., A World Without Meaning: The Crisis of Meaning in International Politics, tr. J. Burnham and J. Coulon. L.-NY: Routledge, 1998.
[Закрыть] могут быть смыслы только «метафизические», «эссенциалистские», типа тех, которыми осеняют себя разные «цивилизационные» проекты авторитарной гегемонии[178]178
Вновь подчеркнем, что «эссенциалистский» и «метафизический» характер этих смыслов есть продукт политического их конструирования в рамках проектов авторитарной гегемонии, а не нечто «первозданное» и имманентно им присущее. Соответственно, период «после диалектики» не может быть понят в качестве «возвращения на классическую территорию истории, на которой разворачиваются этнические и религиозные конфликты» и кипят связанные с ними «древние и первозданные страсти» (см. Gray, J., Enlightenment’s Wake. L.-NY: Routledge, 1995, pp. 31–32. Курсив мой. – Б. К.). Период «после диалектики» есть нравственно и политически выхолощенная Современность, а не откат к «досовременному» прошлому.
[Закрыть]
В общем виде политическая логика и идеологические «технологии» «эссенциализации» идентичностей достаточно хорошо изучены – в наше время капитализм далеко не впервые применяет этот прием, хотя раньше его применение выглядело скорее частным регрессивным случаем, а не «формой правила» функционирования капитализма.
Известным примером такого частного случая «эссенциализации» идентичностей стало изобретение «расы» в США после Гражданской войны[179]179
В моем изложении этого примера я следую его анализу Уолтером Майклсом. См. Michaels, W. D., «The Souls of White Folk», in Literature and the Body, Essays on Populations and Persons, ed. E. Scarry. Baltimore – L.: The Johns Hopkins University Press, 1988, особенно с. 187–193.
[Закрыть]. Произведенный ею слом открытых правовых и экономических структур рабства, вследствие своей легальности нуждавшихся не более чем в патриархальной идеологии «благодетельности рабства» для самих черных, вызвал необходимость радикальной «ренатурализации» отношений господства и подчинения. Новизна идеи «расы» в том и заключалась, что она прямо апеллировала к физическим (и приравненным к ним психическим) различиям, которые находятся (как бы) по ту сторону любых классовых, региональных, политических и экономических определений. Такие различия не устранимы никакой исторической практикой, и при этом они являются исходными и детерминирующими для идентичности людей и отношений между ними[180]180
Параллельность этого хода мысли хантингтоновским рассуждениям о первичности «цивилизационно» – культурной идентичности по отношению к любым идеологическим, политическим, экономическим различиям самоочевидна и не нуждается в комментариях.
[Закрыть]. «Самоочевидность» и «естественность» «расовых» различий выводили их из сферы политики и права и делали их «недоступными» для юридической регуляции (в отличие от классического рабства). Это и зафиксировало решение Верховного суда США по делу Plessy v. Ferguson (1896 г.), которое узаконило расовую сегрегацию при формально-правовом равенстве «рас»: «расовые» различия не обусловлены правом (оно признает равенство всех перед законом), но отражаются правом в качестве «естественной реальности»[181]181
См. «Plessy v. Ferguson», in The South since Reconstruction, ed. T. D. Clark. NY: Bobbs-Merrill, 1973, р. 159.
[Закрыть].
Такая «натурализация» «расы» и «расовых отношений» есть грубый, но в то же время эффективный прием консолидации угнетения, когда оно становится невозможно в прежних открытых формах. Эффективность этого приема в том и состоит, что угнетенные они заключаются в такую «онтологическую» рамку, которая сообщает им идентичность, затрудняющую их самовыражение в качестве угнетенных. Соответственно затруднена и политическая репрезентация протеста против условий угнетения. В качестве представителя «расы» угнетенный может потребовать «уважения» к своей «расовой» идентичности (в логике «политики признания»). Но он должен выступить не как «представитель расы», но в качестве «рабочего», «социалиста», «антиглобалиста» или в каком-то ином классовом, идеологическом, политическом качестве, чтобы протестовать против капиталистической эксплуатации. Ведь консолидация последней и сконструировала его «расовую» идентичность. Но политическую артикуляцию этих качеств подавляет «эссенциализированная» «расовая» идентичность, изображаемая в качестве определяющей и первостепенной. Заключение в «эссенциалистскую» рамку идентичности, препятствующую самовыражению угнетенных и их организации сопротивления угнетению, есть специфический вид политический несправедливости[182]182
В качестве такой несправедливости заключение в «ложные рамки» («misframing») убедительно описывает Нэнси Фрейзер, аналитически отличая ее как от несправедливости распределения ресурсов («maldistribution»), так и от несправедливости неадекватного политического представительства общественной группы, которая тем не менее политически признана в своих «истинных» рамках («misrepresentation») (см. Fraser, N., «Reframing Justice in a Globalizing World», in New Left Review, 2005, no. 36, особенно с. 76 и далее).
[Закрыть]. Ее и обеспечивают «цивилизационные» проекты.
В этой же логике формировалась «цивилизационная» «эссенциализация» трудящихся масс на всем пространстве глобализующегося капитализма, хотя в различных его зонах этот процесс отличался своеобразием форм и используемых идеологических инструментов. Она стала реакцией на тот пик демократической и освободительной борьбы, который пришелся на 60– 70-е годы XX века. Этот период ознаменовался крушением колониальных империй и образованием гораздо более плюралистичного и демократичного, чем когда-либо ранее, миропорядка, а также серьезной трансформацией капиталистического способа производства в направлении декоммодификации рабочей силы и социализации государства[183]183
О категориях «коммодификации» / «декоммодификации» рабочей силы см. Esping-Andersen, G., Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990, особенно глава 2. Об институциональных формах процесса декоммодификации и его демократическом и освободительном значении см. Castel, R., «Emergence and Transformation of Social Property», in Constellations, vol. 9, no. 3 (2002).
[Закрыть]. Попятное движение – к установлению структур неоимпериалистической гегемонии на мировой арене, десоциализации государства и рекоммодификации рабочей силы – предполагало, помимо прочего, деконструкцию тех политических и политико-экономических идентичностей, благодаря которым ранее формировались силы освобождения и демократической трансформации капитализма.
«Цивилизационно» – культурная «эссенциализация» была, конечно, не единственным приемом проведения этой операции, но приемом, широко применяемым и эффективным. Его особая ценность – с точки зрения проектов правоавторитарной гегемонии – заключалась в том, что этот прием эффективно разрушал те «универсалистские» или «универсализуемые» формы идентичности, на базе и в рамках которых возможно развитие широких движений антиимпериалистической и антикапиталистической солидарности. Разве не показательно в этом отношении то, что нынешняя распространенность антивоенных настроений в США и Западной Европе (прежде всего, в связи с войной в Ираке) не выражается ни в чем, хотя бы отдаленно напоминающем мощь антивоенных движений периода войны во Вьетнаме и американских интервенций в Центральной Америке в 60– 70-е годы? Не объясняется ли это в значительной мере тем, что силы иракского сопротивления интервенции США и их союзников в культурном отношении выглядят непривлекательными для «прогрессивных» антивоенных коалиций на Западе[184]184
Коммунистические идеалы Вьетконга тоже не разделяло большинство участников тогдашних антивоенных протестов, но такое политическое несогласие не приводило к нынешнему культурному отторжению от иракского сопротивления, сделавшему антивоенную солидарность практически невозможной.
[Закрыть]? Но важно и то, что открытую солидарность с иракским движением сопротивления (в отличие от солидарности с Вьетконгом!) сделала невозможной твердость «цивилизационной» и «патриотической» установки большинства[185]185
О деградации антивоенного движения на Западе под этим углом зрения см. Cockburn, A., «Whatever Happened to the Anti-War Movement?» in New Left Review, 2007, no. 46.
[Закрыть]. Но с некоторыми поправками то же самое можно сказать о разложении демократической и классовой солидарности трудящихся, которое сделало возможным нынешний натиск капитализма, – реставрацию на глобальном уровне многих характерных черт, казалось бы, ушедшей в прошлое модели капитализма «свободного рынка», а также стабильный, начиная с 80-х годов прошлого века, и почти повсеместный рост социально-экономического неравенства. И все это – без подъема сопротивления трудящихся масс[186]186
Подробнее об этом см. Silver, B.J., Forces of Labor: Workers’ Movements and Globalization since 1870. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 176 ff.; Therborn, G., Op. cit., p. 65; Giraud, P-N., «An Essay on Global Economic Prospects», in Constellations, vol. 14, no. 1 (2007), pp. 33–38.
[Закрыть].
В свете этого правомерен вопрос Фредрика Джеймисона о том, остается ли у понятия «Современность», если оно применяется к такому демодернизированному состоянию общественной жизни, какое-либо значение, не сводимое к «капитализму». Ведь «современность» – при всем множестве ее трактовок – всегда предполагала открытость непредопределенному будущему и несводимость общественной жизни к логике капитализма, сколь бы важен для нее он ни был. Если будущее, во всяком случае – в рамках периода «после диалектики», закрыто, если капитализм смог не только «колонизовать» защищенные от него ранее участки социального пространства, но и создать регрессивные «эссенциализированные» культурные формы, в которых подавляются силы исторической альтернативы, то не разумно ли заменить понятие «современность» понятием «капитализм»[187]187
См. Jameson, F., A Singular Modernity. Essays on the Ontology of the Present. L.-NY: Verso, 2002, pp. 214–215. Другой интересный подход к проблеме демодернизации Современности, сфокусированный на утрате способности к «автономным» коллективным действиям и рациональному целеполаганию на макроуровне общественной жизни в сочетании с продолжающейся рационализаций ее функциональных подсистем, был предложен Клаусом Оффе. См. Offe, C., «The Utopia of the Zero Option: Modernity and Modernization as Normative Political Criteria», in Modernity and the State: East, West. Cambridge, MA: MIT Press, 1996, pp. 15 – 16.
[Закрыть]? Возможно, это – то условие политической и теоретической трезвости, которое необходимо для поиска новых перспектив освободительной борьбы.
Что это значит для понимания того дискурса о «цивилизациях», которому была посвящена первая часть данной статьи? Понятие «цивилизации», как оно сложилось, трансформировалось, обрело многозначность, выявило свои противоречия по всем четырем осям «большого дискурса» о «цивилизациях», было характерным продуктом Современности. Концептуально обедненный и нравственно и политически стерилизованный «малый дискурс» о «цивилизациях» есть столь же характерный продукт нынешней демодернизации Современности. Теоретическое развенчание «малого дискурса» необходимо само по себе. Но при этом следует помнить, что его эффективная критика может быть только практико-политической – как критика действием тех структур капиталистической правой гегемонии, идеологической функцией которых он является.
О предмете и употреблениях понятия «революция»
Моей Наташе
Цель данного эссе – способствовать прояснению предмета понятия «революция». Это возможно только в контексте полемики, в котором это понятие существует. Непосредственным полемическим контекстом для настоящего эссе служит недавно опубликованный сборник «Концепт „революция" в современном политическом дискурсе»[188]188
Концепт «революция» в современном политическом дискурсе. Под ред.
Л. Е. Бляхера, Б. В. Межуева, А. В. Павлова. СПб.: Алетейя, 2008.
[Закрыть]. Я начну с «предварительных замечаний», в которых в тезисной форме обозначу собственную позицию по рассматриваемому вопросу. Далее – в полемике с авторами сборника и, разумеется, другими участниками современной теоретической дискуссии о «революции» – я попытаюсь обосновать изложенные в «предварительных замечаниях» тезисы, затрагивая следующие темы: «многозначность понятия революции», «революция и Современность (modernity)», «онтология непредсказуемости революций», «революция как политическое событие». Итогом работы, хотя скорее политическим, чем теоретическим, можно считать заключительную часть параграфа о «революции как событии».
Под прояснением предмета понятия «революция» я не имею в виду достижение такого его определения, которое – вследствие его логического и концептуального совершенства – «окончательно» бы устранило разночтения «революции». Более того, я считаю сами попытки двигаться в этом направлении бесперспективными и неплодотворными. Аргументация в пользу такой точки зрения будет приведена ниже, а сейчас укажу на следующее. «Окончательное» определение революции возможно только в рамках и в качестве продукта универсальной теории революции, которая потому и может считаться универсальной, что схватывает некую неизменную сущность революции (своеобразно обнаруживающуюся в разных революционных явлениях). Такую сущность можно описывать по-разному: методами философии истории, («ортодоксального») исторического материализма, общей социологической теории революции или иначе, но универсалистская претензия на познание причинной обусловленности «эмпирических» явлений революции ее сущностью от этого не изменится.
Я солидарен с теми, кто сомневается в целесообразности и даже возможности построения универсальной теории революции[189]189
Объяснение таких сомнений, впрочем, весьма отличное от того, которое далее дам я, см. Skocpol, T. (with M. Somers), «The Uses of Comparative History in Macrosocial Inquiry», in Social Revolutions in the Modern World. Cambridge: Cambridge University Press, 1994, p. 90.
[Закрыть]. Если, как я постараюсь показать ниже, революции есть особый вид историко-политической практики – с атрибутами «случайности», «свободной причинности» (в смысле прекращения или приостановки действия некоторых причинно-следственных детерминаций, определявших дореволюционный статус-кво), спонтанного появления дотоле неизвестных форм идентичности и субъектности коллективных акторов, то революции не могут мыслиться в качестве проявлений предпосланных им и как бы существующих «до» них и независимо от них сущностей. Они сами в своих конкретных проявлениях и есть свои «сущности».
Это, с одной стороны, есть лишь парафраз ницшеанского возражения против философского «удвоения мира» (в данном случае – против «удвоения» революций на их сущность и проявления последней). Но, с другой стороны, это есть тезис против общей теории революции, ее претензий на способность объяснять и предвидеть революции, пусть и «в общих чертах», на уровне «закономерностей», а не конкретных деталей и точных дат[190]190
Объяснение и предвидение являются сторонами одного и того же спекулятивно-теоретического синдрома, и они невозможны одно без другого. Ведь объяснение, исходящее из метасобытийной сущности или закономерности, есть и предсказание того, как эта сущность или закономерность будут, или не будут, проявлять себя в других событиях в будущем. Гегелевская философская сова Минервы, разумеется, вылетает только в сумерки, но то, как она апостериорно и сущностно объяснила Французскую революцию, стало в то же время предсказанием «конца истории» и невозможности подобных событий в будущем.
[Закрыть]. Соответственно, этот тезис направлен и против возможности «окончательного» определения понятия «революция». Если тезис верен, то мы останемся с понятиями (во множественном числе!) революций как продуктов теорий конкретных событий, находящихся в компетенции исторической политической социологии[191]191
В духе того ее варианта, который сформировался в американской исторической социологии и который называется «социологией событий». Репрезентативные примеры такого подхода см. Abrams, P., Historical Sociology. Ithaca (NY): Cornell University Press, 1982, особенно стр. 190–226; Sahlins, M., «The Return of the Event, Again», in Clio in Oceania: Toward a Historical Anthropology. Washington, DC: Smithsonian Institution Press, 1991; Abbot, A., «From Causes to Events», Sociological Methods and Research, 1992, vol. 20, no. 4; Griffin, L., «Temporality, Events, and Explanation in Historical Sociology», in Sociological Methods and Research, 1992, vol. 20, no. 4; Sewell, W. H.,Jr., «Historical Events as Transformations of Structures», in Theory and Society, 1996, vol. 25, no. 6 и др.
[Закрыть], а отнюдь не спекулятивной «метаисторической» теории того или иного вида. Но, как мы увидим дальше, и этим плюрализм «концептов революции» не ограничивается.
Что же тогда остается на долю «общего» понятия «революция», и как тогда можно прояснить его предмет? Отказывая общему понятию «революция» в способности схватить «сущность» революции (толкуют ли ее как некие «обязательные» следствия революции, ее «характерные» движущие силы, «типичные» методы – вроде «революционного насилия» – или иначе), мы все же можем признать, что оно в состоянии фиксировать некие общие условия, благодаря которым происходят события, именуемые революциями. Эти условия не предопределяют то, что и как в революциях происходит. Но они устанавливают их практическую возможность и, соответственно, их теоретическую мыслимость[192]192
Практическая возможность и теоретическая мыслимость необходимо взаимосвязаны. Роберт Дарнтон показывает то, как наш политический словарь возникает из усилий революционных практик осмыслить себя. «Вначале был опыт, затем – концепт», – резюмирует Дарнтон свое рассуждение. См. Darnton, R., «What Was Revolutionary about the French Revolution?» in The French Revolution in Social and Political Perspectives, ed. PJones. L.: Arnold, 1996, p. 19.
[Закрыть].
Я полагаю, есть три таких важнейших условия. Первое – общий контекст современности, понимаемой, разумеется, не в смысле «происходящего в настоящее время», а в качестве культурной и политико-экономической динамики, в которой находится наш мир где-то с XVII–XVIII веков и которая в свою очередь «запущена» возникшими примерно тогда же и не поддающимися «окончательным» решениям проблемами[193]193
Более подробно о таком понимании современности я писал в другой работе. См. Капустин, Б. Г Современность как предмет политической теории. М.: РОС-СПЭН, 1998, с. 11–36.
[Закрыть]. Второе условие – событийный характер революций, имея в виду под «событием» не просто любое случающееся нечто, а именно определенную форму протекания исторических практик с присущими ей разрывами эволюционного континуума, приемами «денатурализации» того, что Пьер Бурдье называл «doxa», и соответствующих структур подчинения[194]194
Под этим имеется в виду «подъем более-менее значительной части доксы до уровня эксплицитных высказываний», что открывает возможность теоретического и практического оспаривания дотоле принимавшихся за самоочевидное элементов «картины мира» и легитимируемых ими (опять же – в качестве «естественных», т. е. безальтернативных) структур господства. «Денатурализация» доксы, согласно Бурдье, является важнейшим условием и аспектом политической борьбы. См. Bourdieu, P., PascalianMeditations, tr. R. Nice. Stanford (CA): Stanford University Press, 2000, pp. 184 ff.
[Закрыть], ролью в них «свободной причинности» и т. д. Третье условие – способность коллективных акторов выступать в качестве политических субъектов. При этом под «субъектом» мы будем подразумевать обусловленную историческими обстоятельствами и определенным образом организованную силу, способную своей деятельной волей менять (до некоторой степени) сами обстоятельства своего образования, а не излюбленную мишень деконструктивистской критики – фантастического «философского (или „метафизического") субъекта»[195]195
Логика проводимого мной противопоставления «исторического субъекта» и «философского субъекта» близка к той, которой следует Винсен Декомб, обосновывая противоположность «suppositum» (субъекта действия) и картезианско-кантовско-фихтеанского «субъекта философии субъекта» и показывая политическую иррелевантность деконструктивистских борений с последним. См. Descombes, v., «A propos of the „Critique of the Subject" and of the Critique of this Critique», in Who Comes after the Subject? Ed. E. Cadava, P. Connor and J.-L. Nancy. L.: Routledge, 1991.
[Закрыть].
С учетом этих трех условий революции мы можем дать общее ее определение: революция есть современное событие, определяемое возникновением и (последующим) исчезновением политической субъектности. Данное определение является в содержательном отношении бедным и абстрактным. Оно может иметь только служебную роль – давать исходную ориентацию теоретическим исследованиям конкретных революционных практик. Оправданность его зависит от того, насколько такая ориентация способна содействовать плодотворности подобных исследований. Логико-теоретическая состоятельность и надежность предложенного определения должны постоянно проверяться посредством его полемического «трения» о другие определения революции, возникшие в иных концептуальных форматах. Именно так, а не через наивное его сопоставление с «реальными фактами», может производиться его корректировка.
По этой причине для настоящего эссе важен сборник «Концепт „революция"…». Конечно, он не содержит всю карту современного дискурса о «революции». Однако он представляет богатую палитру взглядов на понятие «революция». Более того, он содержит размышления о революции на уровнях и ее общей теории, и концепций конкретных революционных практик (Французской революции, европейской «весны народов» 1848 года, русских революций 1905 – 1907 и 1917 годов, недавних «цветных революций» и т. д.). Это делает его для нас вдвойне полемически интересным.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































