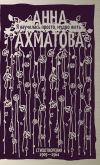Текст книги "Анна Ахматова. Я научилась просто, мудро жить…"
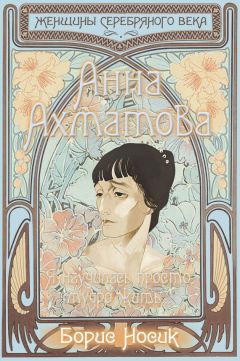
Автор книги: Борис Носик
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
А ты хохочешь,
Ты все хохочешь,
Почти что голая
В такой мороз…
Хороводишься с кем захочешь…
О Липшице мы, впрочем, в ту пору старались вообще не говорить, чтоб не портить Андрею настроение, потому что последние лет двадцать американские наследники Липшица старались Андрея, как не самого законного наследника, из дорогой кошачьей виллы выжить, чему и сам Андрей, и гуманная французская юстиция противились, как могли; потом сдались все же, уж больно долго шла тяжба – у старого зэка оказались и долгий век, и железное здоровье, так что пришлось ему освобождать виллу отчима еще при жизни…
Позднее, впрочем, Андрей пересказывал мне кое-какие материнские воспоминания, противоречившие отчасти прочим воспоминаньям – но ведь все рассказы о Модильяни противоречивы.
Он говорил, что ночное это вторжение Модильяни и чтение стихов Вийона произошло у них в квартире на улице Монпарнас, 54, где жило много художников. Являясь туда, Модильяни обычно свистел во дворе, и мать спускалась, чтобы открыть дверь, не то он дом переполошит… Было это в конце войны. Вот тогда Липшиц, желая помочь Моди, и заказал ему семейный портрет – свой и жены, вместе. Модильяни сказал, что будет с них брать по десять франков в час, и чтоб была непременно бутылка вина. Но писал Модильяни быстро, кончил за два сеанса, и Липшиц, видя, как мало тот заработал, предложил ему поработать еще. Но Модильяни отказался «портить портрет». Он никогда не дописывал, а писал сразу… Историю эту я знал по мемуарам Липшица, но мне нравилось выслушивать ее в Андрюшином исполнении – всегда вспоминалось при этом, какое там прекрасное лицо у его матушки, молодой русской поэтессы, на этом портрете Модильяни… В замечательную историю о ночном визите Модильяни, рассказанную Липшицем, Андрюшины уточнения по поводу запертой двери парадного и криков во дворе вносили необходимую точность. Сам-то Липшиц рассказывал, что «однажды, далеко за полночь, часа в три, наверно» их с женой «разбудил бешеный стук в дверь»:
«Модильяни, изрядно пьяный. С трудом ворочая языком, он кое-как сумел мне объяснить, что он видел у меня на книжной полке томик стихов Вийона, и что он хотел бы его взять. Я зажег керосиновую лампу и стал искать тот томик, надеясь его утихомирить и снова уснуть. Как бы не так. Напрасная надежда. Он сел в кресло и стал читать вслух своим звучным голосом… Дом был сплошь заселен рабочим людом. Вскоре соседи начали стучать в стены, в пол и потолок моей комнаты, кричать «Прекратите шум!».
Как сейчас вижу эту сцену: маленькая комнатка, среди глубокой тьмы – таинственный дрожащий огонек керосиновой лампы, пьяный Модильяни, сидящий в кресле, как привидение, и читающий Вийона, все громче и громче, по мере того, как нарастал аккомпанемент шума вокруг нашей кельи. Продолжалось это несколько часов, пока он не выбился из сил».
Ах, поэт Липшиц. Они ведь все любили писать, эти гении «горячих деньков Монпарнаса», о которых нынче столько говорят и пишут. Описания пьяного Модильяни, танцующего, как медведь, под фонарем на площади или читающего стихи, описания призрачной ночной жизни «Улья» оставили и Кокто, и Шагал, и Цадкин, и Леже, и Шапиро… Нам к профессиональному описанию остается домыслить совсем немногое. Разве что это смятение молодой женщины, шепчущей смущенно в постели: «Когда же он уйдет?». Любопытные глазки маленького Андрюши… «Я все помню…» – говорит он.
Вот и конец моего первого отступления на тему о невидимых связях и развилках судьбы. А вот еще и второе, тоже недлинное – ближе к Сутину, но не к сути…

Улей – знаменитый парижский фаланстер начала XX века, созданный в 1902 году меценатом и скульптором-любителем Альфредом Буше
Моя мамочка, ее сестра-двойняшка, ее два брата и ее мама, то есть моя бабушка, родились в том же самом местечке Смиловичи, что и Хаим Сутин. Прочитав в вышедшей недавно в новом французском переводе послевоенной книге американского этнографа (а по совместительству агента НКВД) Марка Зборовского умиленные строки о том, что еврейское местечко было подобно книге, лицом повернутой к Богу, я был озадачен. Гораздо более правдоподобными показались мне свидетельства о том, что Хаим Сутин никогда не хотел вспоминать про местечко, да и слышать о нем не желал. Мои-то ведь тоже удрали из местечка и из очерченного им властями загона «черты» при первой возможности; на беду, возможность эта совпала не только с русской революцией, но и с Октябрьским переворотом… Про местечко они вспоминали с ужасом, а слово «местечковый» было для них уничижительным синонимом невежества, узости, жлобства. А ведь бедолаге Сутину досталось куда горше, чем моим. Он был одиннадцатый ребенок в семье нищего портного и вырвался из местечка чудом. Родительские рассказы о Смиловичах не вдохновляли меня на поездку по весям «исторической родины», и все же, земную жизнь пройдя до середины и исколесив всю страну, я решил побывать и в Белоруссии; она же, в зависимости от того, в какой энциклопедии ты станешь искать эти места, называется и Литвой, и Польшей. Двинувшись поутру из Минска на попутке, я вышел на шоссе близ местечка, и первым, что я увидел у дороги, было кладбище. Оно было христианское, католическое, и все надписи на крестах были польские. Тут-то я только понял, почему в первую же свою поездку в Варшаву я так быстро заговорил на тамошнем языке – я его просто-напросто «вспомнил», и почему тамошняя пища так мучительно-сладко напоминала мне бабушкину кухню. Вспомнив, что и в речи моих родителей было много польских слов, я подумал, что Хаим Сутин, наверное, все понимал в Вильне, куда его занесло из Минска. Пройдя местечко, я вышел на окраинную улочку, где стояли крошечные деревянные домишки в два-три окна. В таком вот домике ютилось обширное семейство портного Сутина. В таком жили и наши. От улицы начинался пустырь заброшенного еврейского кладбища. На нем валялся мусор, паслись козы, но, знай я древнееврейский, я смог бы, вероятно, отыскать надгробные камни Сутиных или своих Русиновых. На одном памятнике, самом большом, новом и недавно только побеленном, была надпись по-русски. Она сообщала, что в одно недоброе октябрьское утро 1941 года фашисты, войдя в местечко, расстреляли все его еврейское население – две тысячи человек. Мои москвичи-родители избежали этой участи, но в толпе детей и женщин, падавших в тот день под пулями карателей, у них были десятки родственников. Наверняка были там и многочисленные Сутины. Художник Хаим Сутин жил в то время в Париже, прятался от облав и особо патриотичных французов, старался не выходить из дому. Симона Синьоре вспоминает, что она покупала для него краски, так как ему опасно было появляться даже у знакомого торговца. Кто знает, что обострило старую его болезнь – прежнее пьянство или новые страхи? Он умер в парижской больнице в 1943-м, пережив на двадцать с лишним лет своего друга-тосканца, главного героя нашей истории, к которому нам с вами пришло время вернуться…
Для двадцатипятилетнего Амедео этот год перед встречей с молодой русской поэтессой (1909–1910) был годом особенно напряженного поиска и труда. То ли влиянье африканского его увлечения, то ли знакомство с соседом по Сите Фальгьер, румыном Бранкузи, укрепило в нем желание продолжать занятия скульптурой. Не только Бранкузи поддерживал Моди в этом намерении, но и русские его друзья-скульпторы – Осип Цадкин, Оскар Мещанинов, Жак Липшиц, Надельман. Конечно, и скульптура его должна была стать открытием, на меньшее он был не согласен. Ясно, что творенья его не будут глиняными моделями, отдаваемыми на доделку подмастерьям, как у какого-нибудь Родена или старика Буше, – он сам будет как каторжный бить по камню. Перед ним маячили африканские и тихоокеанские примитивы, шедевры европейской ранней готики, загадочные лики Древнего Египта. И вот они с друзьями до хрипоты спорят теперь о путях современной скульптуры. Но и живопись он не бросает. Просто он по возможности скрывает от живописцев, что всерьез занялся скульптурой, а скульпторам не рассказывает о своих поисках и находках в живописи: среди них ведь еще есть соперничающие, а порой и вовсе враждебные группы. Труды его требовали много времени, помещения, материалов, денег; есть легенда, что ему доводилось в то время красть камни со стройки. Ну и притом разоряло ведь еще неизбежное кафе «Ротонда», этот приют художников, маршанов-торговцев, натурщиц, литераторов, монпарнасской богемы, разоряли губительные вино и гашиш… Летом 1909-го друзья уговорили его, вконец отощавшего, поехать домой отдохнуть. Увидев своего обтрепанного, как нищий, и изможденного Дэдо на пристани в Ливорно, мать всплеснула руками и, пряча слезы, принялась за хлопоты – откормить, приодеть, приласкать, успокоить… О, с ним было нелегко, с нынешним Дэдо, вернувшимся в отчий дом из дебрей «Улья» и Монпарнаса. Ножницами он сам кое-как подкоротил рукава у нового, заказанного ею костюма, оторвал подкладку у купленной ею шикарной шляпы… И все же он был дома, и мать была счастлива. Она написала о своей радости невестке Вере, жене социалиста Эммануэле. Вера приехала тоже, и Дэдо написал ее портрет. Он встретил в Ливорно двадцатидвухлетнюю Биче, вместе с которой когда-то учился в школе, и немедленно сел за ее портрет. У нее была такая длинная, такая прекрасная шея, у этой юной Биче… Мать была счастлива. Как знать – может, он женится, останется дома… Приехала тетушка Лора Гарсен, и они с Дэдо засели писать статьи об искусстве. Потом Дэдо пропадал в ателье у друга, потом пытался достать камень для скульптуры, потом писал какого-то нищего, а потом… Потом он вдруг снова уехал в этот свой неотвязный Париж.
Доктор Поль Александр нашел в почтовом ящике записку Моди: «Дорогой П., я уже неделю в Париже. Зашел к тебе на Малаховское, но напрасно. Очень хочу тебя видеть. Привет. Модильяни». Моди не терпелось показать своему почитателю и меценату (очень еще небогатому, впрочем, меценату) новое полотно – «Нищий из Ливорно». В Салоне Независимых в тот год, год его знакомства с Анной, он выставил шесть картин и этюдов, в том числе три написанные в Ливорно. Восторженный его поклонник, доктор Александр считал, что своим этюдом «Виолончелист» Моди «превзошел Сезанна».
Засучив рукава, он упрямо принимается за скульптуру, не оставляя, впрочем, и напряженных своих поисков в живописи, в области портрета. Конечно, по-прежнему не хватает денег, приходится менять жилье – тогда, как и сейчас, стоившее дорого в Париже. Даже такой дотошный его биограф как Жанна Модильяни не смогла установить с точностью, когда и в какой из своих многочисленных квартир он жил в эти годы, – когда в «Улье», когда на Монпарнасе, дом 39, когда на бульваре Распай, 216, когда на улице Сен-Готар, когда в проезде Элизэ де Бозар, когда в монастыре Птиц, когда в знаменитом Бато-Лавуар, когда на улице Дуэ… Похоже, что к 1911-му он водворился уже в мастерской в Сите Фальгьер… Но зима 1909-1910-го еще была нелегкой.
А весной 1910-го в Париж приехала Анна. Точнее, приехали молодожены, муж и жена Гумилевы…
Первая встреча
Итак, поздней весной, в самом начале июня супругов Гумилевых можно увидеть на парижской улице. Вот они выходят из отеля после завтрака, замерли на мгновенье на тротуаре, и мы с вами тоже – давайте остановимся на мгновенье и приглядимся к ним обоим на этой идиллически беспечной и праздничной улице довоенного Парижа: до страшной европейской катастрофы, увлекшей за собой в бездну миллионы жизней и целую Россию, до выстрела сербского террориста в злосчастном Сараеве оставалось еще целых четыре года.
Начнем, конечно, с нее…

В черноватом Парижа тумане,
И наверно, опять Модильяни
Незаметно бродил за мной.
У него печальное свойство
Даже в сон мой вносить беспокойство
И быть многих бедствий виной.
А сам он «…И стыда и лиха хлебнул».
(Анна Ахматова. Из чернового варианта «Поэмы без героя»)
Она очень высокая, с царственной походкой и неповторимым, нисколечко не русским профилем – этот точно срезанный, отнюдь не маленький, безусловно царственный нос: профиль ее ни с чьим не спутаешь, и на этом отчасти основаны нынешние сенсационные открытия. Так как повесть наша – документальная, предоставлю слово тем, кто ее видел в те годы. Н. Г. Чулкова встречала Аннушку на парижской улице, где и мы с вами сейчас стоим, невидимые и никем не узнанные, так что свидетельство г-жи Чулковой для нас очень существенно:
«Она была очень красива, все на улице заглядывались на нее. Мужчины, как это принято в Париже, вслух выражали свое восхищение, женщины с завистью обмеривали ее глазами. Она была высокая, стройная и гибкая… На ней было белое платье и белая широкополая соломенная шляпа с большим белым страусовым пером – это перо ей привез только что вернувшийся тогда из Абиссинии ее муж – поэт Н.С. Гумилев».
Здесь беглый портрет: Анна словно отражена здесь в глазах прохожего-парижанина, и напрасно требовать от мимолетного этого наброска словесной точности. Ибо что значит «очень красива»? Даже влюбленные в нее мужчины говорили (чуть позднее, впрочем, еще через пять и через десять лет) не о красоте ее, а о чем-то ином, «даже большем, чем красота». Вот как влюбленный в нее эстет, литературовед и писатель Николай Недоброво писал о ней 27 апреля 1914 года своему другу-художнику, мозаичисту Борису Анрепу: «Попросту красивой назвать ее нельзя, но внешность ее настолько интересна, что с нее стоит сделать и леонардовский рисунок, и гейнсборовский портрет маслом, и икону темперой, а лучше всего поместить в самом значащем месте мозаики, изображающей мир поэзии…». Забегая далеко вперед, напомню, что портретов ее писали уже в те годы множество, а мозаику Борис Анреп сделал для Лондонской Национальной галереи сорок лет спустя… Ну а тогда, после получения этого письма от друга, он сделал самое прекрасное, хотя, вероятно, и не самое долговечное и высоконравственное из всего, что может сделать художник, – полюбил прекрасную госпожу Гумилеву, и был ею любим.
Объективности ради приведем свидетельство и другого литератора, поэта и критика Г. Адамовича, чье мнение трудно счесть пристрастным, ибо страсть в нем зажигали, как правило, не женщины, а мужчины:
«…Нет, красавицей она не была. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо и весь облик которой повсюду, среди любых красавиц, выделялся бы своею выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание…».
Добавим к этому, что она была ясновидящая, русалка, ворожея, ведунья, колдунья – или считала себя таковой, а это почти то же самое, что она была «настоящий поэт» – или уже считала себя таковым, что она была загадочная «русская аристократка» из загадочной страны России. Загадками этими заинтриговали Францию Тургенев, Толстой и Достоевский, над Монпарнасом уже витал тогда романтический образ «монпарнасской мадонны» Марии Башкирцевой, и, может, поэтому новые русские эгерии одерживали почти без труда свои блистательные победы на Монпарнасе – Гала, Эльза, Майя, Лидия, Дина. О них нынче много написано – о них, но не об Анне, ибо Анна – вообще совсем иное, Анне они все, конечно, не ровня…
Ну, а спутник ее, что стоит в этот весенний день 1910 года на тротуаре рядом с растерянной женой, оглядывая хорошо знакомую, даже, можно сказать, привычную для него парижскую улицу, – Николай Степанович, Николай Гумилев, Коля, – что он, каков на вид? Так мало говорят нам все эти его бледные фотографии и дагерротипы начала века, что предпочтем снова предоставить слово его современникам, мужчинам и женщинам. Вот, скажем, как описывает тогдашнего Гумилева Сергей Маковский: «Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке, с очень высоким, темно-синим воротником (тогдашняя мода) и причесан на пробор тщательно. Но лицо его благообразием не отличалось, бесформенно мягкий нос, толстоватые бледные губы и немного косящий взгляд (белые точеные руки я заметил не сразу). Портил его и недостаток речи. Николай Степанович плохо произносил некоторые буквы, как-то особенно заметно шепелявил…». Совсем юному царскоселу Николаю Оцупу тоже запомнились «сильно удлиненная, как будто вытянутая вверх голова, косые глаза, тяжелые медлительные движения, и ко всему очень трудный выговор…». Женщины, впрочем, к внешности Гумилева куда более снисходительны: женщинам он умел внушать симпатию и даже любовь. По описанию жены его брата, он был «высокий, худощавый, очень приветливый, с крупными чертами лица, с большими светло-синими, немного косившими глазами, с продолговатым овалом лица, с красивыми шатеновыми, гладко причесанными волосами, с чуть-чуть иронической улыбкой, с необыкновенно тонкими, красивыми белыми руками. Походка у него была мягкая, и корпус он держал чуть согнувши вперед. Одет он был элегантно». Оригинальность и подчеркнутую элегантность его костюма отмечали, впрочем, все – и лиловые носки при лимонной феске и русской рубахе на даче (по описанию дачной соседки госпожи Неведомской), и оленью доху с белым рисунком по подолу, ушастую оленью шапку и пестрый африканский портфель зимой в Петербурге (по описанию ученицы его на ниве поэзии Ирины Одоевцевой; как многие недоучившиеся люди, преподавать и учить он очень любил). Обе упомянутые нами в скобках женщины были, по свидетельству Ахматовой, возлюбленными Гумилева, а последняя из них была даже, по выражению той же Ахматовой, его «неофициальной вдовой», так что он пользовался несомненным успехом у бесчисленных дам; зачем нужно ему было столько дам, разговор у нас пойдет дальше. Одоевцева, описывая полвека спустя его внешность (ах, доведется ли нам, милый читатель, описывать внешность былых своих возлюбленных еще и полвека спустя? Спеши, медицина, спеши и падай!), подчеркивает как главные ее черты «особенность» и «некрасивость»: «Трудно представить себе более некрасивого, более особенного человека. Все в нем было особенное и особенно некрасивое…». А госпожа Неведомская, не уступая знаменитой поэтессе в изяществе слога, судит о былом возлюбленном помягче, вспоминая, что у него было «очень необычное лицо: не то Би-Ба-Бо, не то Пьеро, не то монгол, а глаза и волосы светлые. Умные, пристальные глаза слегка косят. При этом подчеркнуто церемонные манеры, а глаза и рот слегка усмехаются…».
Таков портрет молодого супруга Анны… В нем уже угадывается подчеркнутая манерность, непрестанная игра – «игра в роли», ставшая второй натурой. Роли, маски, литературные его герои срастались с этим странным юношей, и в упорстве своем он переделывал самую свою природу. Он был хилым и не слишком героическим персонажем от рожденья, но он срастался мало-помалу с персонажами своей «конквистадорской» поэзии и становился бесстрашным, рвался в бой, проявил героизм на войне и обрел среди многих прочих, впрочем, таких же, как он, ни в чем не повинных, славную, мученическую смерть под пулями большевистских убийц. Последнее слово – не метафора, а единственное приходящее мне в голову точное обозначение профессии, любимого занятия, склада характера и самого направления деятельности тех, кому судьба дозволила семь десятилетий обагрять кровью мою бедную родину, кажется, снова заскучавшую уже по тирану, спаси ее Господь…
Можно догадаться, глядя сейчас на молодую пару, стоящую на парижском тротуаре, что, наряду с молодой радостью от встречи с весенним солнечным утром и этим желанным для всякого русского прославленным городом, оба испытывают душевное смятение от того, каким тяжким оказалось совместное постоянное житье, как оно противоречит всем их представлениям об ослепительном счастье, которое должно было свалиться на них от этого соединения под одной крышей, как трудно обоим, гордецам и своевольникам, отказаться хоть в малом от своей «постылой свободы», как непохожи ночные неловкие их, зачастую попросту унизительные усилья на то восхитительное бесконечное забвенье страсти, о котором они столько читали, столько слышали и даже писали уже в своем нетерпенье открыть миру глаза. Можно предположить, что наш влюбленный конквистадор слишком сильно робел для того, чтобы заявить о своем праве старшего и мужчины – да и существует ли такое право? Она же, полная мыслей и воспоминаний о читанном, выдуманном, полуиспытанном, вряд ли могла его поощрить, подбодрить, научить чему-либо. Невольно должна была посещать ее, да, наверно, и его тоже мысль о том, что с другим (с другой) было бы иначе, было бы по-настоящему. После стольких богохульственных гипотез отважусь также на предположение, что ей, слишком много думающей и воображающей, и вообще не суждено было познать во многих ее любовных поисках этого счастливого самозабвенья, без труда сниспосылаемого счастливой пейзанке из степей Украины или из африканских зарослей. Перефразируя бедного Чехова, возьмем на себя дерзость предостеречь потенциальных женихов, сохраняя, конечно, юмор и надлежащую дистанцию: «Упаси вас Боже жениться на актерках, поэтессах, режиссерках, литературоведках…». Отсюда, может, и вечный ее поиск; более поздние ее браки, возможно, и были бы, впрочем, более долговечными, не прими к той поре истинно американский размах деловитый большевистский отстрел интеллигенции. Однако мы слишком далеко забегаем вперед, добросовестно, но неделикатно залезая в тайны чужой брачной ночи – для обшей пользы, конечно, не из праздного любопытства, а все же… Уподобимся пока просто поверхностным праздным прохожим на тротуаре и воскликнем, имитируя по возможности этот невозможный акцент: «О ля-ля, кель нана! Что за фемина! Да и мужик с ней рядом забавный… Откуда их только к нам занесло? Куда идут?». Тут бы нам с вами впору отправиться вослед молодоженам на прогулку по улицам, площадям и скверам несравненного Парижа – Латинский квартал, Большие Бульвары, Елисейские поля, Опера, Маре, остров Сите, Пасси, Монпарнас, Трокадеро, – но, боюсь, прогулка эта затянется страниц на триста, так что отложим ее до следующей книги, а пока скажу только, что, показав молодой супруге упомянутые выше красоты прославленного города, конечно уж, привел ее Гумилев на Монпарнас – в знаменитую «Ротонду», что и ныне красуется вывеской, былой славой и новой дороговизной на углу бульвара Распай, улицы Вавэн и бульвара Монпарнас – памятный для русских на протяжении чуть не трех десятилетий угол. Думаю, что именно тут, в «Ротонде», и увидели впервые друг друга Анна и Амедео. Это, как выражаются люди с высоким образованием, гипотеза, потому что должного отражения в «источниках» (тоже высокого полета слово) этот момент не получил. Как и все прочие сцены, нами не подсмотренные лично, и все нами не подслушанные диалоги, эта сцена все же опирается на другими виденное, слышанное и записанное, так что она тоже в определенной степени документальна. Итак, «Ротонда»…

«Счастье – это ангел с печальным лицом».
(Амедео Модильяни)
Ко времени приезда нашей героини в Париж окончательно сложилась репутация Большого Монпарнаса, а крошечное кафе «Ротонда» обзавелось красивым залом (точность сообщения – на совести Анри Раме и его записок «Тридцать лет Монпарнаса»). Впрочем, очень скоро и в этом зале стало тесно, шумно и накурено, как в каком-нибудь английском пабе. В самые бойкие часы, с пяти вечера до полуночи, здесь нелегко было найти место за столиком. Одни со стаканами в руках стояли вокруг стойки, оживленно о чем-то споря, другие деловито пробирались между спинами, стараясь не расплескать ненароком свои и чужие стаканы. Были тут заезжие новички-иностранцы, но по большей части все же были свои, завсегдатаи – художники, скульпторы, поклонники искусства, они же зачастую и торговцы-маршаны, поэты, актеры и актрисы, будущие знаменитости («будущих» вообще было много), журналисты, манекенщицы и прочий богемный люд, «монпарно». Конечно, попадались также разных стран и национальностей политики, тоже пока мало кому известные, – скажем, бывал Лев Троцкий с мексиканским другом своим, кубистом Диего Риверой, которому суждено было стать у себя в Мексике большой знаменитостью. Интересно, что чувствовал поэт и ясновидец Гумилев, сталкиваясь у стойки с одним из будущих своих палачей – Троцким? Да и сам-то Троцкий мог ли разглядеть очертания будущей российской своей карьеры и страшного своего конца – да уже и не в России, а в Мексике его друга Диего Риверы, разглядеть в веселой гомонящей толпе у стойки тех, кто предаст его другому бандиту из их шайки? Куда там… никто ничего не почувствовал, не разглядел, на дворе стояла еще только весна 1910-го, славная предвоенная весна мирного Парижа. Вон доказывает что-то кому-то острый на язык молодой Эренбург, человек, который позднее то ли обманул судьбу, то ли разменял талант. А вон пришел уже преуспевающий испанец Пабло Пикассо и с ним неизменный Ортис де Зарате. Вон и скульптор Осип Цадкин пришел с верной своей спутницей, огромной собакой Калуш, – загоняет собаку под стол, чтоб не злить добрейшего хозяина «Ротонды», весьма, впрочем, снисходительного к художникам. Вон и еще два скульптора, тоже русские, – Оскар Мещанинов и Жак Липшиц, и Мария Васильева с ученицей, и поэт Марк Талов. А вон и еще обитатели «Улья» – лихой то ли индеец, то ли ковбой Грановский, рубаха-парень (до самого нацистского крематория дотянет на Монпарнасе), и знаменитый «Кики», Кислинг, монпарнасский завсегдатай, по нему утром можно часы ставить – в шесть Кислинг идет из бара; но писать все же успевает и уже вошел в моду. Рядом с Кислингом – мулатка Айша, манекенщица, его и многих верная подруга, экзотический цветок Монпарнаса. Есть и вторая, Кики, еще ярче звездочка, хотя и беленькая. В один прекрасный день она сама взялась за кисть, и оказался талант – кто ж сомневался? Потом написала мемуары. Потом стала певицей. Говорят, что потом фашисты ее расстреляли «по подозрению…» – таланты и у красных, и у коричневых на подозрении. Вон старики пришли – Андре Дерен, Отон Фриз, Шарль Герен. Японец Фужита с серьгой в ухе, важный, молчаливый, изредка перекинется двумя-тремя словами с денди в фетровой шляпе и красном шарфе, тосканцем Модильяни. Этот последний, с неизменным своим синим блокнотом, пока трезв, говорил мало – все время рисует. Иногда вдруг остервенело рвет прелестный рисунок, чем-то не дотянувший до ему одному известного уровня. Ищет глазами новую модель, потому что без контакта с человеческим лицом, душой, фигурой писать не может. Для него нет ничего в мире, кроме этого венца творенья – человека. Огляделся вокруг – и вдруг замер изумленно… Лицо… И какое лицо… Молодая женщина… Откуда? Женщины тут вообще редки, но такие – и вовсе… Она ощутила этот взгляд. Подошла, села напротив. Они заговорили… Где был в это время Гумилев? Может, отошел взять кофе, рюмку вина. Когда вернулся, он все понял и пришел в ярость: этого он ждал, этого опасался все время…
Она-то сразу, как вошли, заметила этого красивого человека в красном шарфе. Через полвека рассказывала об этом мгновенье многим – всякий раз по-разному, уже шло мифотворчество. Рассказывала и писала, что он «был совсем не похож ни на кого на свете»; не слишком оригинальная фраза для влюбленной женщины, хотя бы она и была великая поэтесса, и хотя бы со дня их встречи прошло 54 года! Рассказывала, что «все божественное» в нем «только искрилось сквозь какой-то мрак». Рассказывала, как впервые заметила красивого, бледного человека в красном шарфе… Рассказывала, что ее поразил его голос, о котором она потом столько раз писала в стихах. По-разному вспоминала. Скажем, так: «Думаю, какой интересный еврей… А он думает, какая интересная француженка…» – это уже из поздних, повторявшихся, но часто противоречивших друг другу рассказов, из тех, что подруга Надя называет «пластинками», и это, конечно, была выдумка. Ведь только год спустя, по ее собственному свидетельству, он впервые сообщил ей, что он еврей – сообщил, чтобы вдруг не подумала, что скрывает. Что ж до того первого раза… Он ведь и не похож был на еврея, особенно в космополитической толпе «Ротонды». Она к тому же не знала, скорей всего, кто это такой – сефард… Что же до него, то он тоже вряд ли принял ее за француженку – слишком яркое лицо, иная смесь кровей…
Может, их представил тогда друг другу кто-нибудь из русских – скажем, Мария Васильева или Осип Цадкин. Это не так важно, в конце концов. Теперь нужно было заговорить. Кто заговорил первый? Она вспоминает, что его поразило ее умение читать мысли, уменье, о котором «все знали»; где знали – в Царском Селе, в Киеве? Может, и правда поразило… Когда женщина нравится, в ней все поражает.
Ну, а что там она угадала, какие мысли? Была ведь еще совсем молоденькая… Наверно, сказала: «Как только вы можете работать в таком аду?». А он отозвался – он часто так говорил, и Леопольд Сюрваж даже записал в свой блокнот эту его жалобу: «Да, вы угадали… Здесь тяжело… Моя страна Италия, где все дышит искусством… Флоренция… Или родной мой город Ливорно… Меня тянет туда. Счастье там, и там здоровье… Но живопись сильнее… А только в Париже я могу работать. Страдать, быть несчастным, но работать…».
Он не сказал – погибнуть, но слово это могло прийти ей в голову. Какое сердце не дрогнет при такой исповеди? Она взглянула на его стакан, и он кивнул, сказал с вызовом: «Алкоголь отгораживает от всего… Уводит внутрь самого себя… Я пью не для веселья. Это тоже для работы…».
Он оборвал линию в блокноте. «Покажите», – сказала она. Она так хотела увидеть, что там. К ее ужасу, он вдруг стал с остервенением рвать лист, выдернув его из блокнота. «Да, да… – сказала она вдруг, – мои старые стихи… Я тоже…» Он поднял голову, и она поняла, что слово «стихи» для него не безразлично. «Мой муж поэт», – сказала она гордо. Но он даже не повернул голову к подошедшему Гумилеву. Гумилев сказал по-русски, что пора уходить из этого сарая. Что и так уж они слишком…
Точнее, она слишком… Модильяни вдруг заговорил, ни к кому не обращаясь. Голос у него стал обиженным, сварливым. Он сказал, что это низость – говорить при нем на языке, которого он не знает. Что ни один из его русских друзей так бы не поступил. Что он никому не позволит… На них теперь смотрели с любопытством. Все знали, что когда у Моди такой голос… «Нам надо идти», – сказала она, поспешно вставая. Гумилев улыбался – он-то знал, что этим кончится. Моди вдруг притих. «Мне нужен ваш адрес, – сказал он с отчаяньем, – я все объясню. Вы ничего не поняли…» – «Я принесу адрес, – сказала она. – Я еще зайду…»

Я женщиною был тогда измучен,
И ни соленый, свежий ветер моря,
Ни грохот экзотических базаров —
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?