Текст книги "Доктор Вера. Анюта"
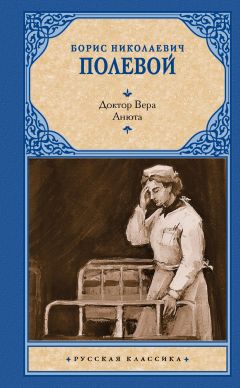
Автор книги: Борис Полевой
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Нет, эту занозу надо вынуть. Вынуть сразу. Просто пойти к Сухохлебову и спросить. И сделаю я это сейчас же. Немедленно.
Встала. Оправила халат. Заглянула в стеклянную дверь шкафчика, служащую мне зеркальцем, и вдруг поймала себя на том, что прихорашиваюсь. Этого только не хватало! Рассердилась. Решительно шагнула за порог. Но Сухохлебов, как всегда, был не один – из-за ширмы торчали старые, подшитые валенки Ивана Аристарховича. Слышалось его взволнованное частое кхеканье.
– …Отказался, наотрез отказался, Василий Харитонович. Ишь что придумал! Так я ему и сказал: «Забудь и мыслить об этом. Советскую власть исповедую, работаю, сил не жалею, но чтоб такое – нет. Нет и нет!»
Ну вот, опять. О чем они? Почему старик так встопорщился? Что ему ответил Сухохлебов, слышно не было. Но Иван Аристархович продолжал с прежним запалом:
– И вам, Василий Харитонович, отвечаю: нет, нет и нет… «Для пользы дела…» Вот мои руки – возьмите. Вот моя башка, надо будет – берите башку… А совесть – нет. Совесть – это мое, никому имени своего на старости лет марать не дам. Русский человек Иван Наседкин в гитлеровских начальничках ходить не станет. Ишь придумали… Да если это за фронт, до дочерей моих дойдет! Нет… Да жена б, Василий Харитонович, на порог меня не пустила, поганой метлой из собственного дома выгнала бы…
– Ну как знаете, Иван Аристархович, к такому делу неволить никто не может, – произнес Сухохлебов, и это я расслышала. – Что ж делать, так и ответь.
– И ответил уж так, именно так и ответил… кхе… кхе… – Скрипнула койка, над ширмой показалась седая голова Наседкина. Он прошел было мимо меня, но вернулся. – Вас, Вера Николаевна, простите за вопрос, немцы не вербовали? Ну, там, у коменданта, когда вы эти штуковины, «аусвайсы», что ли, получать ходили? Вы ведь, Мудрик говорит, и у коменданта были…
У меня даже колени похолодели. Ну вот, и обвинение готово: оставалась у немцев, водила дела с штадткомендатурой, знакома с комендантом.
– Да нет же, нет! – закричала я. – Ланская свидетельница. Просто она затащила меня к нему поскорее оформить «аусвайсы».
Потом мы сидели с Иваном Аристарховичем на клеенчатом диванчике в уголке приемного покоя. Он был все такой же встопорщенный, смятенный, испуганный.
– А меня вот вербовали. Этот комендант и еще там какой-то маленький, похожий на суслика в пенсне. Сначала заговорили о наседкинских домах, мельнице. Вон куда метнули… Дескать, вас большевики обобрали, избирательных прав лишили. А потом… кхе-кхе… потом… кхе-кхе… – От волнения он прямо давился этим кхеканьем. – Потом предложили стать заместителем бургомистра по здравоохранению и санитарии… Вон как! Ваш род, мол, в городе помнят и уважают… Род! Видали! По-ихнему вышло, раз батька твой четверть века назад мукой торговал, так я родину продавать буду. Кхе-кхе-кхе…
Старик опять захлебнулся в кхекании.
– Отказались?
– Ну, а как же… Так и сказал: «Русская совесть не товар, господа хорошие. Она не продавалась, не продается и продаваться не будет…» Но немцы – черт с ними! Откуда им историю нашу знать. Ведь и наш-то один человек, вы его не знаете и знать вам его не надо, тоже говорит иди, мол, Иван Аристархович, делай вид, что им служишь. Для дела, мол, для победы нужно. Для победы? Жизнь отдать для победы – это одно. А имя, честь – другое. Это они видали? – И он показал большой волосатый кукиш, не поймешь уже и кому.
Иван Аристархович всегда у нас воплощенное спокойствие. Никогда таким я его не видела. Яростно дергая кончики моржовых усов, он совал их в рот, покусывал и все не мог успокоиться.
– Заместитель бургомистра. Этого самого подлеца Севки Раздольского, вон чей заместитель. Ну-ну… Дожил. Всю жизнь мне перемололи папашины мельницы…
Старик кипятился до самой двери, пока я его провожала. Волнение его передалось мне, и, чтобы успокоиться, я прошлась по палатам. Тут обычная жизнь: в углу, расположившись возле гладильной доски, выздоравливающие грохотали костяшками, забивая козла: из-за ширмы Сухохлебова доносились голоса Стальки и Домки – там возились с елочными украшениями. Антонина – на дежурстве – тихонько напевала свои частушки…
Мой госпиталь, мои раненые. Свои. Мне среди них легко. Но все-таки почему на мне лежит какая-то тень недоверия? Даже вот в последнем разговоре Иван Аристархович сказал: «Вы его не знаете, да и знать вам его не надо». И не назвал имени. Тут, где-то рядом, идет какая-то скрытая от меня жизнь, действуют таинственные силы, о которых мне, оказывается, и знать не положено… Нет, хватит с меня этого комплекса неполноценности. Сегодня я ему так и скажу.
Дождалась, когда уснули ребята. Затих госпиталь. Тетя Феня сменила Антонину на санитарном посту, принялась нашептывать свои молитвы. Но по расплывчатому световому пятну на потолке я знала – картонная плошка еще светится за ширмой у Сухохлебова. Вот сейчас и поговорим. Тихо ступая, я подошла к его койке. Он лежал на спине, заложив за голову руки. Задумчиво бормотал про себя:
– М-да… Ну что ж… Что тут, Васька, можно сделать?.. Как повернет… Ничего, обойдется… Да, да, да.
Решительно постучала пальцем о стойку ширмы.
– Как, вы? – Мне показалось, что вопрос этот прозвучал не только удивленно, но и радостно.
– Василий Харитонович. – Я изо всех сил старалась говорить решительно и твердо. – Почему вы все мне не доверяете?
– Не доверяем? – Мне показалось, что это произнесено несколько искусственно. Он, должно быть, сам почувствовал это.
– Да, да, – напирала я, не позволяя себе растаять в ласковой теплоте его серых, широко расставленных глаз. – Не доверяете, что-то скрываете, прячете… Эти ваши переглядывания, недомолвки, умолчания… Почему? Почему вы с Мудриком откровеннее, чем со мной? Почему даже Наседкин знает больше, чем я?
От обиды у меня перехватило горло. Чувствую, что еще немного – и разревусь, как дура.
– Вот так раз! Может быть, доктору Вере принять валерьяночку?
– Не отшутитесь, я не маленькая. Думаете, не вижу… Ну почему? Потому, что у меня сидит муж? Да знаете ли вы, какой человек мой муж! – Задыхаясь от обиды, я лезу за пазуху, вынимаю клеенчатый мешочек, в котором ношу на груди документы, бросаю ему на одеяло паспорт. – Вот видите, без минусов. Можете убедиться. Нужны характеристики – спросите у Марии Григорьевны, у Федосьи…
Я понимаю, что перехлестываю через край, но уже не могу остановиться. Голова Сухохлебова беспокойно ерзает по подушке.
– Только не говорите, что я это все выдумала! – прокричала я, и слезы побежали по щекам.
– Нет, доктор Вера, вы не выдумываете, – вдруг произнес он. Взял мою руку, стал тихонько поглаживать. – Вам действительно кое-чего не говорят.
Я попыталась выдернуть руку, но он удерживал ее мягко и вместе с тем крепко.
– Да почему, почему? Побегу и все расскажу немцам? Так?
– Вам уже сказано было, правильно сказано: пчелы делают все, чтобы сохранить матку от любой, слышите, от любой опасности. Чтобы не погиб весь рой. – Он опять погладил мне руку. – На ваших плечах сейчас такая тяжесть, что, если к ней что-нибудь добавить, вы не выдержите…
Это звучало в общем-то правдиво. Но мне казалось – он лжет. И мне стало так горько, что, спрятав лицо в ладони, я разревелась, как девчонка, как дура. Он гладил мне волосы, а я ревела еще пуще. Тогда он заговорил, будто беседуя не со мной, а с самим собою:
– Ну хорошо, давайте рассуждать. Вот я кадровый военный, с самой гражданской форму не снимал. Полковник. Командир дивизии. И вот в разгар войны лежу на койке, как гнилое бревно. И где? Тут вот, в городе, оккупированном гитлеровцами. Это же почти плен. А что может быть для кадрового военного позорнее плена? Что должен сделать командир Красной Армии, коммунист, оказавшись в гитлеровском плену? Уничтожить себя? Правильно. Честно вам говорю, доктор Вера, я ведь хотел застрелиться. Но это не поздно никогда. И я подумал: а может быть, большевик Сухохлебов может еще сделать что-то полезное для нашей победы. Ну хоть самую малость… И мне стало даже стыдно оттого, что тот, легкий, выход пришел в голову… Человек, милый доктор, не побежден до тех пор, пока он сам не признает своего поражения. – Сухохлебов вздохнул. – Нет, доктор Вера, пусть уж каждый из нас в меру сил делает свое дело…
Тут он приподнялся на локте и посмотрел мне в глаза.
– А вы все говорите нам… мне?.. Вот немцы дали вам приказ, под страхом страшных наказаний запрещающий скрывать военнослужащих, коммунистов, евреев. Вы ведь тоже не сказали об этом приказе нам… мне?
Этот самый «бефель» лежал в чемодане, спрятанный там, в детском белье. Я о нем помнила, он пугал и мучил меня, но я как засунула его туда, так с тех пор ни разу и не вынимала. К чему? Слова, выведенные жирным шрифтом: «За неисполнение данного приказа, равно как и любого его пункта, вы будете подвергнуты наказанию по германским законам военного времени», – эти слова я помнила наизусть.
– Откуда вы знаете об этой бумаге?
– От немцев. Из их разговора. Этот Прусак говорил об этой бумаге доктору Краусу.
– Вы знаете немецкий?
– Мы учили его во Фрунзенке. Но это было давно, в начале тридцатых годов. Половину перезабыл… Но этот-то разговор я понял… Так вот почему вы мне о нем не сказали? – Серые глаза смотрели с ласковым упреком.
– А для чего? Я нарушала этот приказ уже в тот момент, когда он был мне передан. Вы это знаете.
– Не хотели нас волновать?
– А зачем?
– Не хотели взваливать на нас новые тяготы? Вот и мы не хотим. Давайте, доктор Вера, распределим роли: ваше дело – медицина, мое – война. И не будем друг другу мешать. Лады? Согласны?
Он что же, советуется со мной? Это ново. Я смотрела на него во все глаза.
– И еще, – снова заговорил он. – И еще – вы мать, с вами дети. Двое детей…
– Но ведь у многих дети. У вас, например… Вы говорили Домке…
– У меня нет детей, – сказал он, и мне показалось, что голос его дрогнул.
– А семья?
– Это уже детали… Впрочем, у меня нет и семьи… Так вернемся к нашему разговору. Правильно, вас не посвящают в некоторые сугубо боевые дела, но не потому, что вам не верят. «Слушайте сюда», как говорит Мудрик. На вашей ответственности госпиталь, столько жизней! Все мы здесь ходим по острию бритвы, но если оступится кто-нибудь из нас, вы лишитесь всего-навсего одного-двух больных… А оступитесь вы – госпиталь лишится сразу и начальника, и хирурга. Разница? Впрочем, для тех дел, о которых с вами не говорят, вы и не годитесь. Да, да, и не обижайтесь. Вы так же прямы и простодушны, как этот ваш расчудесный Иван Аристархович… Кстати, я за него очень беспокоюсь. Вы знаете, немцы предложили ему пост в бургомистрате, а он не только отказался, но, обидевшись, наговорил им такого… Ну, так как же, вопрос о недоверии исчерпан?
Какой же тягостный груз снимал он с меня. Будто раскрывал дверь и впускал в наши подвалы свежий морозный воздух… Но с ним-то с самим что? Почему сразу затосковали его глаза, когда я спросила о детях? Вот и сейчас – говорит, а глаза грустные, беспокойные. Не утерпела, спросила:
– А где же ваша семья?
Он приподнялся на локте, сунул руку под подушку. Из-под матраца на миг глянула рукоятка пистолета. Но достал он не пистолет, а старую, выгоревшую фотографию. Не без труда можно было рассмотреть на ней угол грубо сколоченной террасы, крупную женщину в вышитой кофте, сидевшую на ступеньках, девочку в возрасте моей Стальки. А рядом, опираясь о точеный столбик, стоял высокий военный, с резким, волевым лицом и бритой головой. Он, этот мужественный военный, к гимнастерке которого были привинчены два ордена Красного Знамени и медаль «20 лет РККА», так мало напоминал сегодняшнего Сухохлебова, что я чуть было не спросила: «Это вы?»
– Все, что осталось от моей семьи… Бомба, одна только бомба… Я видел воронку там, где был наш домик в военном городке… Вот такая обстановка, доктор Вера!
Он пожал и бережно опустил мою руку. Смолк, ни один мускул не дрогнул на его костистом, землистого цвета лице. Из глаза вытекла и сбежала на подушку крупная слеза. Оттого, что его лицо сохраняло обычное выражение, я поняла, каково ему. И мое собственное горе, мои заботы и обиды как бы уменьшились в размерах. Не знаю, как это получилось, но я вдруг наклонилась и поцеловала его в лоб.
И вот лежу я сейчас в своем «зашкафнике». Сладко посапывает мне в ухо Сталька, то и дело ворочается и брыкается Домка. Он тоже у меня иногда бормочет по ночам, а тут я вдруг ясно различаю: «Товарищ Сталин, по вашему приказанию…» Я понимаю, откуда это. Они с сестренкой отыскали сегодня где-то среди развалин маленький портрет и сначала повесили его на колонне, поддерживающей потолок. На самом виду. Мария Григорьевна велела снять: немцы сразу его увидят. Ребята уперлись. Конечно же, в дело вмешался Сухохлебов и разъяснил, что на войне хитрость – одно из действенных орудий борьбы, нужно быть хитрым с противником. И вот портретик этот перенесен в наш угол. Его прикрепили с тыльной стороны дверцы шкафа. Когда шкаф открыт, он виден, а при появлении немцев стоит закрыть шкаф, и он исчезает…
Все спят, но ко мне сон не идет. Как же это так, Семен? Что же получается?.. Иван Аристархович Наседкин, человек «с сомнительным прошлым», с риском для головы отказывается от поста в этом их вонючем бургомистрате, а твой папаша, «российский пролетарий», открывает мастерскую и скупает у голодных какие-то там часы? Ответственный товарищ Дубинич драпанул, окопался где-то в тылу и потягивает, наверное, медицинский спиртишко, а Верка Трешникова, которую выгнали из комсомола, спасает раненых, оставленных им впопыхах… Анкеты у нас как древние свитки – все там есть о бабке, о деде, о белой гвардии, о родственниках за границей, а вот нет там вопроса, что ты за человек, какая у тебя душа. И это всяких там анкетных дел мастеров, оказывается, не очень и интересует.
Дорого, очень дорого стоит эта одна-единственная слеза Сухохлебова…
17Конец ночи выдался шумным. На город налетели наши самолеты. Гитлеровцы, должно быть, прозевали их, объявили тревогу с опозданием. Впрочем, это нас не касается. Нам некуда прятаться. Глубже в землю не уйдешь. Остается надеяться на теорию вероятности. Но хотя бомбы рвались где-то в районе станции и ни одна близко от нас не упала, все мы проснулись, женщины закатили истерику, и стоило немалых трудов успокоить их.
Тетя Феня, вылезавшая наружу, рассказывала: «Содом и гоморра». В районе станции – огромное зарево. Что-то горит и взрывается, и нас ощутительно встряхивает… Понемногу все успокоилось. Но я поняла – не заснуть – и от нечего делать решила до утреннего обхода как следует причесаться, что, признаюсь, в последнее время делаю не часто. Наше импровизированное зеркало безжалостно доложило мне, что физиономия у меня еще больше осунулась, глаза стали почти круглыми и глубоко запали в темные глазницы… Н-да, немало уже годков, ох, как немало! И каждый из них, особенно последние, очень заметно расписались на моем лице. Вот только волосы, пожалуй, и остались от прежней твоей Веры. Как раньше, темные, густые, блестящие и, как раньше, имеют тенденцию свертываться в локоны. И седины в них почти не заметно. Но сейчас их и расчесывать-то нечем. Расческу я свою потеряла еще там, на мосту, купить негде, и обхожусь пятерней, благо волосы у меня не длинные.
Но раз решила причесаться, надо причесаться. Иду на поклон к Антонине. Та делает утреннюю уборку, орудует мокрой тряпкой. Выпрямившись, отвела изгибом руки со лба свои огненно-рыжие мелкозавитые кудри, удивленно, даже, как мне показалось, насмешливо взглянула на меня.
– Руки мокрые, возьмите в тумбочке.
Начала причесываться. И вдруг захотелось опять увидеть не эту бледную, мятую со сна физиономию, а то лицо, что смотрело на меня из овального зеркала Ланской. Оглянулась. Ребята, кажется, спят. Я, по примеру Антонины, стала крепко тереть рукавом губы. По ее утверждению, от этого они становятся красными. Но, очевидно, операция эта помогает, лишь когда бурлит молодая кровь. У меня только стало саднить губы.
– Ма, надо рукав помочить. Антон всегда так, помочит и трет. – Это произносит, конечно, Сталька. Приподнялась на подушке на локотках и смотрит на меня во все глаза. – А потом, ма, послюни пальчик и поводи по бровям.
Я покраснела, будто меня застали за чем-то дурным. Сталька сейчас же переменила тему:
– Ма, а почему люди краснеют? – И совсем неожиданно: – А о чем вы ночью с дядей Васей шептались?
Вот те на…
– Спи. – Я быстро вышла, почти выбежала из своего угла и уже в палате застегивала халат. Шептались!.. Ведь придумает же, малявка. Все, все замечает и всему дает свои, весьма каверзные, толкования.
День начался с тревожного происшествия. Рано, в неположенный час, появились немцы. И не трое, а четверо. Кроме наших обычных, явился еще один, в черной шинели на меху, в сверкающих сапогах на высоких дамских каблучках. На нем было все новенькое – и сапоги, и ремни, и перчатки, которые он не снял. От него пахло кожей. Он весь скрипел. Знаки различия у него какие-то другие, и я не поняла, какого он звания, но по черепу на фуражке догадалась, что это эсэсман, а по поведению Толстолобика – что он среди них старший начальник.
Рекомендуясь, новый откозырял, но руки не подал и назвал фамилию, в которой я разобрала лишь приставку «фон». Этот «фон» был холоден и очень надменен. Мне было велено показать ему госпиталь. Он желал сам проверить и людскую наличность, как перевел мне Прусак.
Повела их по палатам, показываю. Толстолобик дает по-немецки свои комментарии, слышу – часто повторяет мое имя. Но «фон», кажется, ничего не слушает. Зато черные, быстрые и какие-то крысиные глазки его так и шныряют, так и шарят по углам, по койкам, под койками, и я почему-то наполняюсь предчувствием надвигающейся беды.
Заходим на кухню, в отсек, где Мария Григорьевна хранит продукты. Не снимая перчатки, «фон» сует руку в мешок, берет горсть крупы с черными точками мышиного помета, брезгливо нюхает и бросает обратно. У ванн с солониной остановился. Протер пенсне. Толстолобик что-то ему говорит, я понимаю только одно слово «пферд» – лошадь. На лице «фона» брезгливая гримаса. Требует истории болезни, или, как они выражаются, «скорбные листы». Прусак складывает их в аккуратную стопку: возьмут их для изучения. Я думаю: «Как здорово, что у нас все в ажуре», – и с благодарностью смотрю на Толстолобика. Тот сегодня даже не глядит в мою сторону. С худого лица не сходит выражение озабоченности. В конце обхода «фон», не повышая голоса, за что-то распекает Толстолобика. Тот молчит. Смотрит в пол. Играет скулами. И лишь в конце выдавливает сквозь зубы: «Яволь, герр хаупштурмфюрер». А во мне все нарастает чувство приближающейся беды. Я прячу руки назад, чтобы он не заметил, как дрожат пальцы.
И вдруг в конце визита обнаруживается, что «фон» хорошо знает по-русски.
– Господин комендант сообщил мне, что вы, доктор Трешникова, – он очень четко выговаривает даже мою фамилию, хотя все и всегда ее путают, – что вы не военный медик и потому ваши упущения пока объяснимы. Но мы наведем здесь порядок… Одежда больных – где она? Хорошо продезинфицированная и аккуратно сложенная, она должна лежать в специальных гигиенических пакетах под кроватью у больного. – И вдруг черные крысиные глаза его, как бы состоящие из одних зрачков, да еще увеличенные толстыми стеклами пенсне, впиваются в мои глаза. – Среди тех, кто здесь, есть комиссары? Коммунисты? Евреи? Военнослужащие?
Знакомый вопрос, но впервые он звучит для меня так зловеще. «Бефель»… «Будете подвергнуты наказанию по германским законам военного времени…» Не дрожи, не смей дрожать, Верка… И как противен его правильный русский язык. И эти глаза – они как револьверные дула… Только бы не опустить взгляд. Напрягаю волю, заставляю себя кокетливым жестом поправить косынку, даже выдавливаю на лице улыбку.
– Здесь лечебное учреждение. Мы интересуемся историей болезни, а не историей больного. Впрочем, военнослужащих нет, это гражданский госпиталь, вернее, больница. Коммунисты? Евреи? Откуда им здесь быть?..
– Вы это точно знаете, доктор Трешникова?
– Я в этом уверена. Город почти пуст, население ушло. Зачем бы эти люди стали здесь оставаться? Они же знают, как вы с ними поступаете.
Некоторое время «фон» стоит, как бы взвешивая мои слова. Его аккуратный носик оседлан большими, круглыми пенсне. У пенсне сильные стекла. Глаза кажутся неестественно большими.
– Из госпиталя кто-нибудь ушел? Были выписки?
– Да, два или три человека.
– Два или три?
– Трое. Двое ушли, один умер.
– Куда ушли те, что выздоровели?
– Домой.
– Куда именно? Имена, адреса?
М-да, это не Толстолобик и даже не Прусак. Но спокойствие, Вера, спокойствие! Пожимаю плечами.
– Я – врач, мое дело лечить больных. Записями приема и выписки ведает сестра-хозяйка. Сестра Фельдъегерева.
Мария Григорьевна давно уже тут. Стоит поодаль и, как спасательные круги, бросает мне спокойные, будто даже сонные взгляды. Она, конечно, что-нибудь придумает.
– Сестра Фельдъегерева, скажите господину военному, кто и когда у нас выписался.
Ох, и умница же эта Мария Григорьевна! Одно из двух – или в ней погибла актриса, или у нее действительно железные нервы. Она неторопливо надевает свои очки в оправе и идет к шкафчику. Достает толстую книгу, в которой она ведет учет белья, и, хотя никаких сведений о выписавшихся там, разумеется, нету, оттуда, от шкафа, будто читая, называет по памяти имена. Говорит адреса. Риск? Конечно, риск. Но все это выходит так естественно, что даже этот «фон» верит. В этот момент из-за ширмы Сухохлебова доносится тяжкий, подавленный стон. Бросаюсь туда. Он закрыт одеялом до самых глаз, но глаза ясные, и я читаю в них отчетливо, безошибочно читаю: «Молодец». Я понимаю – это он нарочно отвлек их, но беру его руку посчитать пульс. Он тихонько жмет мне кисть.
– Что там? – спрашивает «фон».
– Больной. – Я чуть не называю его настоящую фамилию. – Больной Карлов, тяжелая контузия от взрыва мины замедленного действия, – отвечаю я теперь уже почти спокойно.
– Почему он отгорожен?
– Очень мучается, стонет. Это влияет на других.
Поскрипывая сапожками, «фон» подходит к ширмам. Заглядывает за них.
– Обстоятельства контузии?
Я пожимаю плечами.
– Шел по улице, мина замедленного действия развалила дом.
– Мина замедленного действия? Азиатское коварство коммунистов.
Теперь, когда этот «фон» стоит возле лампы, я могу рассмотреть его. Круглое лицо, яркие губы и какой-то срезанный, будто прячущийся под воротник, подбородок.
– Доктор Трешникова, ваши порядки неудовлетворительны. Всех выздоравливающих вы должны сгруппировать и перевести в особое место – вон туда. – Он показывает на третий, самый отдаленный от выхода отсек подвала. – Нужны также списки инвентаря, коек, тумбочек, биксов, комплектов постельного белья, запасов продуктов… Вы их отвратительно храните. – Он брезгливо понюхал пальцы перчатки, которой он брал крупу. – Срок выполнения – сутки. Мой ученый коллега доктор Краус – он большой либерал и попустительствовал непорядкам… Через сутки мы проверим выполнение приказа.
Он козырнул, насмешливо поклонился, и они пошли к выходу. Толстолобик был хмур, он еле кивнул. Как только их машина проурчала по улице, я бросилась к Сухохлебову. Он тоже был встревожен. Даже глазами не улыбался.
– Я где-то промахнулась? Сказала не так?
– Доктор Вера, – Сухохлебов не мог скрыть волнения, – это опасность. Страшная опасность. Это вам не Толстолобик. – И потом добавил задумчиво: – А вы знаете, доктор Краус, кажется, больше чем просто честный немецкий интеллигент, как я о нем думал. Жаль, мы этого не знали, хотя я мог кое-что подозревать.
Я удивленно смотрела на Сухохлебова.
– Откуда вам стало известно? Когда?
– Вот сейчас. Это сказал хауптштурмфюрер войск эс-эс фон Шонеберг. Здесь вот. Только что.
– Он сказал?
– Конечно, не нам с вами. Этот надутый индюк уверен, что русские недочеловеки не могут знать его языка. Он откровенно стал распекать Крауса за симпатии к русским. Он сказал: «Вы что же, хотите возобновить знакомство с СД?» Понимаете, доктор Вера, – возобновить. Стало быть, эта организация когда-то уже занималась Краусом…
– А что такое СД?
– Зихерхайтсдинст – гитлеровская служба безопасности. Перед ней трясутся даже генералы. Если она занималась когда-то Краусом, это лучшая для него рекомендация.
– Какое все-таки счастье, что мы успели переписать наши истории болезни! – воскликнула я, занятая своими мыслями.
– И всех остригли. И сожгли обмундирование, – кивнул Сухохлебов.
– Ну, это не я. Это – Мария Григорьевна.
– А сейчас надо достать для всех гражданское и обязательно выполнить все, что Шонеберг требует. От этого пощады не жди…
В самом деле, несмотря на маленький росток и приличные манеры, от этого «фона» веет жутью. Я поняла – новая опасность сошла в наши подвалы вместе с этим человечком на высоких каблуках. И хотя день выдался все-таки неплохой, хотя женщины наши вернулись из нового похода за одеждой с двумя полными санками всяческого барахла, хотя в общежитиях у них нашлись добровольные помощницы, обещавшие к завтрашнему дню насобирать еще, на душе тягостно, тревожно, все валится из рук.
* * *
Добавила волнений и Зинаида. Она привела чернявую девчурку лет семи. Бедняжка трясется не то от мороза, не то от страха, не плачет, не отвечает на вопросы. Только глядит кругом, как затравленный зверек, и жмется к Зинаидиной юбке.
– Раей зовут, – отрекомендовала та и как о чем-то решенном сообщила: – Со мной жить будет.
И не она, а другие женщины, ходившие в поход за одеждой, пояснили, что это младшая дочка того самого инженера Блитштейна, которого эсэсманы схватили несколько дней назад. Ее и ее сестер тетки с «Большевички» прятали по своим комнатам. Но какая-то сволочь, говорят, польстившись на пожитки девочек, выдала их. Полицаям, нагрянувшим ночью, удалось схватить старших. Младшая вырвалась, убежала. Кто-то успел укрыть ее в дровах в котельной.
– С нами жить будет, не объест, – повторила Зинаида.
Я вспомнила Шонеберга, вспомнила, как он вглядывался в лица, вспомнила, что испытала, попав под обстрел его крысиных глаз. Встал вопрос: оставив девочку, не подвергну ли я весь госпиталь опасности? И сразу же стало стыдно: что же я, хуже этих женщин с «Большевички» и этой нашей Зинаиды? Они ж тоже головами рисковали.
Впрочем, Зинаида, должно быть, и не допуская какого-то иного решения, уже раздела девочку и уложила ее на свою койку.
– Вот тут, Раечка, и будешь со мной жить, пока вернутся папа с мамой и сестрички…
Вечером мы начали то, что тетя Феня назвала по-библейски переселением Авраама в землю Ханаанскую. Согласно приказу, мы перетаскивали койки, тумбочки, столы. Антонина была просто бесподобна. Вот уж Антон так Антон. Тяжелых таскали на носилках Домка в паре с Капустиным, который совсем уже поправился. А почтенная Антонина, подняв больного на руки в одиночку, осторожно несла через палаты, продолжая при этом рассказывать какую-то историю. Звенел ее детский голосок: «Вы знаете, тетя Феня, я его после этого еще больше запрезирала, а он меня еще больше зауважал. Я не хочу быть голословной, спросите его самого».
Словом, Семен, день окончился вроде бы как и благополучно, а меня вот не оставляет ощущение, что петля стягивается на шее. Даже порылась в белье, отыскала эту проклятую бумагу и перечитала, хотя помню ее наизусть… Этот Шонеберг забрал истории болезни. Иван Аристархович, конечно, сильно подправил эти документы. Еще в Первую мировую войну он изучил в совершенстве все способы надувательства врачебных комиссий. Знает, как нагонять температуру, вызывать сердцебиение, понос, рвоту, рези в желудке, действительные и мнимые. Великий эксперт по делам симуляции. Все это нашло отражение в больничных листах, заново переписанных Домной и подкрепленных температурными листами… И все-таки очень волнуюсь…
Верка, не смей думать об этом. Надо не терзаться всяческими предположениями, а действовать.
Вот Наседкин – тот не волнуется, а действует. Собрал мужчин военных и не военных и с пресерьезным видом прочел им лекцию, передавая им многовековой опыт симуляции. А сейчас терпеливо вдалбливает каждому, в чем состоит его мнимый недуг, как изображать его признаки, как приостановить заживление раны и как вызвать воспалительный процесс.
И Сухохлебов действует: вызывает бойцов и командиров по одному и повторяет с ними их легенды. Задает каверзные вопросы. Помогает выпутываться из затруднительного положения. Сам он, согласно своей легенде, Карлов, агроном из верхневолжских крестьян, 1882 года рождения, контуженный миной на улице. Он так оброс, что ему можно дать значительно больше его истинных сорока пяти лет. И в таком виде он действительно не представляет интереса для гитлеровской Германии.
Нет, мы время зря не теряем.
Перед тем как идти спать, зашла в сестринский угол. Зинаида спала, прижимая к себе найденыша, будто боялась, что девочку отнимут. Они тут уже вымыли ее. Лежит свеженькая, розовая. Удивительно, как эти малыши чутки на ласку. Говорят, она уже поверила, что родители ее уехали куда-то работать, и вечером голосок ее звенел, как колокольчик.
Все вроде бы хорошо. Но почему же такая тревога, такая тоска на душе? Почему я вздрагиваю при любом шуме и все чего-то жду, жду?.. Нервы, что ли?
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































