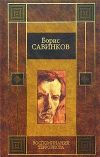Текст книги "Конь бледный"
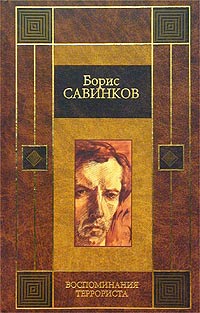
Автор книги: Борис Савинков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
– Да, следят.
– Жорж, милый, уезжайте скорее, скорее…
Я смеюсь:
– И больше не возвращайтесь?
Она говорит:
– Я люблю вас, Жорж.
– Не смейтесь. Как смеете вы говорить о любви? Разве это любовь? Вы с мужем, я для вас чужой и разве любимый?
– Я люблю вас, Жорж.
– Любите?… Вы ведь с мужем.
– Ах, с мужем… Не говорите же про него.
– Вы любите его? Да?
Но она снова молчит.
Тогда я ей говорю:
– Слушайте, Елена, я люблю вас, и я вернусь. И вы будете моею. Да, вы будете моею.
– Милый, я с вами, я ваша…
– И его? Да, – и его?
Я ухожу. Гаснет вечер. Желтым светом горят фонари. Гнев душит меня. Я говорю себе: его и моя, моя и его. И его, и его, и его.
15 мая.
Сегодня в газетах напечатано, что «было обнаружено приготовление к покушению на жизнь губернатора», что «благодаря своевременно принятым мерам преступной шайке не удалось привести свой злодейский умысел в исполнение, члены же ее скрылись и до сих пор не задержаны. К розыску их также приняты меры».
«Приняты меры». Разве мы не приняли своих? Победа не за нами, но в этом ли поражение? Федор, Эрна и Генрих уже уехали, Ваня и я уезжаем сегодня. Мы вернемся обратно.
II
4 июля.
Прошло шесть недель, я снова в N. Это время я прожил в старой дворянской усадьбе. От белых ворот – лента дороги: зеленый большак с молодыми березками по краям. Справа и слева желтеют поля. Шепчет рожь, гнется овес махровой головкой. В полдень, в зной, я ложусь на мягкую землю. Ратью стоят колосья, алеет мак. Пахнет кашкой, душистым горошком. Лениво тают облака. Лениво в облаках парит ястреб. Плавно взмахнет крыльями и замрет. С ним замрет и весь мир: зной и черная точка вверху.
Я слежу за ним прилежным глазом. И мне приходит на память:
…Всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет,
И сам теперь великий Пан
В пещере нимф спокойно дремлет.
А в городе едкая пыль и смрад. По пыльным улицам тащатся вереницы ломовиков. Тяжело грохочут колеса. Тяжело везут тяжелые кони. Стучат пролетки. Ноют шарманки. Звонко звонят звонки конок. Ругань и крик.
Я жду ночи. Ночью город уснет, утихнет людская зыбь. И в ночи опять заблещет надежда:
Я дам тебе звезду утреннюю.
6 июля.
Я больше не англичанин. Я купеческий сын Фрол Семенов Титов, лесной торговец с Урала. Стою в дрянных номерах и по воскресеньям хожу к обедне в приходскую церковь. Самый опытный глаз не узнает во мне Джорджа О’Бриена.
В моей комнате на столе грязная скатерть, у стола хромоногий стул. На подоконнике – куст увядшей герани, на стене – портреты царей. Утром шипит нечищеный самовар, хлопают в коридоре двери. Я один в своей клетке.
Наша первая неудача родила во мне злобу, и злоба владеет мною. Я живу нераздельно с ним, с губернатором. Ночью я не смыкаю глаз: шепчу его имя, утром – первая мысль о нем. Вот он, седой старик с бледной улыбкой на бескровных губах. Он презирает нас.
Я ненавижу его белый дом, его кучера, его охрану, его карету, его коней. Я ненавижу его золотые очки, его стальные глаза, его впалые щеки, его осанку, его голос, его походку. Я ненавижу его желания, его мысли, его молитвы, его праздную жизнь, его сытых и чистых детей. Я ненавижу его самого – его веру в себя, его ненависть к нам. Я ненавижу его.
Уже приехали Эрна и Генрих. Я жду Ваню и Федора. В городе тихо, о нас забыли. 15-го он поедет в театр. Мы застигнем его на дороге.
Снова приехал Андрей Петрович. Я вижу его лимонного цвета лицо, седую бородку клином. Он в смущении мешает ложечкой чай.
– Читали, Жорж?
– Читал.
– Да-а… Вот вам и конституция…
На нем черный галстук, старомодный грязный сюртук. Грошовая сигара в зубах.
– Жорж, как дела?
– Какие дела?
– Да вот… мало ли…
– Дела идут по-хорошему.
– Что-то уж очень долго. Теперь бы вот… Самое время…
– Если долго, Андрей Петрович, поторопитесь.
Он сконфузился – барабанил пальцами по столу.
– Слушайте, Жорж.
– Ну?
– Комитет постановил усилить.
– Ну?
– Я говорю: решено ввиду данных обстоятельств усилить.
Я молчу. Мы сидим в грязном трактире «Прогресс». Хрипло гудит машина. В синем дыму белеют фартуки половых.
Андрей Петрович ласково говорит:
– Скажите, Жорж, вы довольны?
– Чем доволен, Андрей Петрович?
– Да вот… усиленьем.
– Чего?
– Боже мой… Я же вам говорю.
Он искренно рад сделать мне удовольствие. Я смеюсь:
– Усиленьем? Что ж. Дай Бог.
– А вы что думаете об этом?
– Я? Ничего.
– Как – ничего?
Я встаю.
– Я, Андрей Петрович, рад решению комитета, но усиливать ничего не берусь.
– Но почему же, Жорж? Почему?
– Попробуйте сами.
Он в изумлении разводит руками. У него сухие желтые руки и пальцы прокопчены табаком.
– Жорж, вы смеетесь?
– Нет, не смеюсь.
Я ухожу. Он, наверное, долго сидит за стаканом чая, решает вопрос: не смеялся ли я над ним и не обидел ли он меня. А я опять говорю себе: бедный старик, бедный взрослый ребенок.
11 июля.
Ваня и Федор уже здесь. Я подробно условился с ними. План остается тот же. Через три дня, 15-го июля, губернатор поедет в театр.
В семь часов Эрна отдаст мне снаряды. Она приготовит их в гостинице, у себя. Она высушит на горелке ртуть, запаяет стеклянные трубки, вставит запал. Она работает хорошо. Я не боюсь случайностей.
В восемь часов я раздам снаряды. Ваня станет у одних ворот, Федор у других. Генрих у третьих. За нами теперь не следят. Я в этом уверен. Значит, нам дана власть: острый меч.
14 июля.
Помню: я был на севере, за полярным кругом, в норвежском рыбачьем поселке. Ни дерева, ни куста, ни даже травы. Голые скалы, серое небо, серый сумрачный океан. Рыбаки в кожаных куртках тянут мокрые сети. Пахнет рыбой и ворванью. Все кругом мне чужое. И небо, и море, и скалы, и ворвань, и эти хмурые люди и их странный язык. Я потерял самого себя. Я сам себе был чужой.
И сегодня мне все чужое. Я в Тиволи, против открытой сцены. Лысый капельмейстер машет смычком, уныло свистят в оркестре флейты. На освещенных подмостках акробаты в розово-бледных трико. Они, как кошки, взбираются вверх, кружатся в воздухе, перелетают друг через друга и, яркие в ночной темноте, уверенно хватаются за трапеции. Я равнодушно смотрю на них – на их упругое и крепкое тело. Что я им и что они мне?… А мимо скучно снует толпа, шуршат шаги по песку. Завитые приказчики и откормленные купцы лениво бродят по саду. Они, скучая, пьют водку, скучая, ругаются, скучая, смеются. Женщины жадно ищут глазами.
Темнеют вечерние небеса, набегают ночные тучи. Завтра наш день. Остро, как сталь, встает четкая мысль. Нет любви, нет мира, нет жизни. Есть только смерть. Смерть – венец, и смерть – терновый венец.
Вчера с утра было душно. В парке хмуро молчали деревья. Предчувствовалась гроза. За белою тучей прогремел первый гром. Черная тень упала на землю. Зароптали верхушки елей, заклубилась желтая пыль. Дождь прошумел по листьям. Робко, синим огнем, сверкнула первая молния.
В семь часов я встретился с Эрной. Она одета мещанкой. На ней зеленая юбка и вязаный белый платок. Из-под платка непослушно выбились кудри. В руках – большая корзина с бельем.
Я бережно кладу то, что она принесла, в портфель. Тяжелый портфель больно тянет мне руку.
Эрна вздыхает.
– Устала?
– Нет, ничего, Жоржик…
– Ну?
– Жоржик, можно мне с вами?
– Эрна, нельзя.
– Жорж, милый…
– Нельзя.
В ее глазах несмелая просьба. Я говорю:
– Иди к себе. В 12 часов приходи на это же место.
– Жорж…
– Эрна, пора.
Еще мокро, дрожат березы, но уже заревом горит вечернее солнце. Эрна одна на скамье. Она до ночи будет одна.
Ровно в восемь часов все на своих местах. Я брожу около. Жду, когда подадут карету…
Вот вспыхнули во тьме фонари. Стукнули стеклянные двери. По белой лестнице мелькнула серая тень. Черные кони шагом обходят крыльцо, медленно трогают рысью. На башне поют куранты… Губернатор уже у третьих ворот…
Я жду.
Идут минуты, идут дни, идут долгие годы.
Я жду.
Тьма еще гуще, площадь еще чернее, башни выше, тишина глубже.
Я жду.
Снова поют куранты.
Я побрел к третьим воротам. Вот Генрих. Он в синей поддевке и в картузе. Неподвижно стоит на мосту.
– Генрих.
– Жорж, это вы?
– Генрих, проехал.
– Где?… Кто проехал?
– Губернатор проехал… Мимо вас.
– Мимо меня?
Он побледнел. Лихорадочно блестят расширенные зрачки.
– Мимо меня?
– Где вы были? Да, где вы были?
– Где?… Я был здесь… У ворот…
– И не видели?
– Нет…
Над нами тусклый рожок фонаря. Ровно мигает пламя.
– Жорж.
– Ну?
– Я не могу… уроню… Возьмите… скорее…
Мы стоим под газовым фонарем и смотрим друг другу в глаза. Оба молчим. В третий раз бьют на башне часы.
– До завтра.
Он в отчаянии машет рукой.
– До завтра.
Я ушел к себе в номер. В коридоре шум, пьяные голоса. Я один в темноте.
17 июля.
Генрих, взволнованный, говорит:
– Я сначала стоял у самых ворот… Минут десять стоял… Потом вижу: заметили. Я пошел по улице… Вернулся обратно. Постоял. Губернатора нет… Снова пошел… Вот тут он, наверное, и проехал.
Он закрывает руками лицо:
– Какой позор… Какой стыд…
Он не спал всю ночь напролет. Под глазами у него синяя тень, на щеках багровые пятна.
– Жорж, вы ведь верите мне?
– Верю.
Пауза. Я говорю:
– Слушайте, Генрих, зачем вы идете? Я бы на вашем месте оставался в мирной работе.
– Я не могу.
– Почему?
– Ах, почему?… Нужно это или нет? Ведь нужно…
– Ну так что ж, что нужно?
– Так не могу же я не идти. Какое право имею я не идти?… Ведь нельзя же говорить, а самому не делать… Ведь нельзя же… Нельзя?
– Почему нельзя?
– Ах, почему?… Ну я не знаю, может быть, другие и могут… Я не могу…
Он опять закрыл руками лицо, опять шепчет, будто во сне:
– Боже мой, Боже мой…
Молчание.
– Жорж, скажите прямо, верите вы мне или нет?
– Я сказал: я вам верю.
– И дадите мне… еще раз?
Я молчу.
Он медленно говорит:
– Нет, вы дадите…
Я молчу.
– Ну тогда… Тогда…
В его голосе страх. Я говорю:
– Успокойтесь, Генрих, вы получите все, что нужно.
И он шепчет:
– Спасибо.
Дома я спрашиваю себя: зачем он здесь? И чья в этом вина? Не моя ли?
18 июля.
Эрна жалуется. Она говорит:
– Когда же это все кончится, Жорж?… Когда?…
– Что кончится, Эрна?
– Я не могу жить убийством. Я не могу…
Мы сидим вчетвером в кабинете в грязном трактире. Мутные зеркала изрезаны именами, у окна расстроенное пианино. За тонкой перегородкой кто-то играет матчиш.
Жарко, но Эрна кутается в платок. Федор пьет пиво. Ваня положил бледные руки на стол и на руки голову. Все молчат. Наконец Федор сплевывает на пол и говорит:
– Поспешишь – людей насмешишь… Вишь дьявол Генрих: из-за него теперь остановка.
Ваня подымает глаза:
– Федор, не стыдно тебе? Зачем?… Не виноват Генрих ни в чем. Мы все виноваты.
– Ну уж и все… А по мне, назвался груздем – полезай в кузов…
Пауза. Эрна шепотом говорит:
– Ах Господи… Да не все ли равно, кто прав и кто виноват… Я не могу. Не могу.
Ваня нежно целует ей руку:
– Эрна, милая, вам тяжело… А Генриху? А ему?…
За стеной не умолкает матчиш. Пьяный голос поет куплеты.
– Ах, Ваня, что Генрих?… Я жить не могу…
И Эрна плачет навзрыд.
Федор нахмурился. Ваня умолк. А мне странно: к чему отчаяние и зачем утешение?
20 июля.
Я лежу с закрытыми глазами. В растворенное окно шумит улица, тяжело вздыхает каменный город. В полусне мне чудится Эрна.
Вот она заперла двери на ключ, глухо щелкнул замок. Она медленно подходит к столу, медленно зажигает огонь. На чугунной доске светло-серая пыль: гремучая ртуть. Тонкие синие язычки – змеиные жала – лижут железо. Сушится взрывчатый порошок. Треща, поблескивают крупинки. По стеклу ходит свинцовый грузик. Этот грузик разобьет запальную трубку. Тогда будет взрыв.
Один мой товарищ уже погиб на такой работе. В комнате нашли его труп, клочки его трупа: разбрызганный мозг, окровавленную грудь, разорванные ноги, руки. Навалили все это на телегу и повезли в участок. Эрна рискует тем же.
Ну а если ее в самом деле взорвет? Если вместо льняных волос и голубых удивленных глаз будет красное мясо?… Тогда Ваня приготовит. Он тоже химик. Он сумеет исполнить эту работу.
Я открываю глаза. Солнечный летний луч пробился сквозь занавеску, блестит на полу. Я забываюсь опять. И опять те же мысли. Почему Генрих не бросил?… Да, почему? Генрих не трус. Но ошибка хуже, чем страх. Или это случайность? Его величество случай?
Все равно. Все – все равно. Пусть моя вина в том, что Генрих с нами. Пусть его вина в том, что губернатор жив. Пусть Эрну взорвет. Пусть повесят Ваню и Федора. Губернатор все-таки будет убит. Я так хочу.
Я встаю. Внизу на площади под окном копошатся люди – черные муравьи. Каждый занят своей заботой, мелкой злобой дня. Я презираю их.
21 июля.
Я был сегодня случайно около дома Елены. Тяжелый и грязный, он угрюмо смотрит на площадь. Я по привычке ищу скамью на бульваре. По привычке считаю время. По привычке шепчу: я ее встречу сегодня.
Когда я думаю о ней, мне почему-то вспоминается странный южный цветок. Растение тропиков – палящего солнца и выжженных скал. Я вижу твердый лист кактуса, лапчатые зигзаги его стеблей. Посреди заостренных игл багрово-красный, махровый цвет. Будто капля горячей крови брызнула и, как пурпур, застыла. Я видел этот цветок на юге, в странном и пышном саду, между пальм и апельсиновых рощ. Я гладил его листы, я рвал себе руки об иглы, я лицом прижимался к нему, я вдыхал пряный и острый, опьяняющий запах. Сверкало море, сияло в зените солнце, свершалось тайное колдовство. Красный цветок околдовал меня и измучил.
Но я не хочу Елены теперь. Я не хочу думать о ней. Я не хочу помнить ее. Я весь в моей странной мести. И уже не спрашиваю себя, стоит ли мстить.
22 июля.
Он ездит два раза в неделю, от 3-х до 5-ти, к себе в канцелярию. Ездит разными путями и в разные дни. Мы проследим его выезд и через день или два займем все дороги. Ваня будет ждать его на Почтовой, в Кривом переулке – Федор; Генрих – в резерве: он станет в дальних улицах. На этот раз нас едва ли ждет неудача.
Что бы я делал, если бы не был в моем деле? Я не знаю. Не умею дать на это ответ. Но твердо знаю одно: не хочу мирной жизни.
Курильщики опия видят блаженные сны, светлые кущи рая. Я не курю опия и не вижу блаженных снов. Но что моя жизнь без борьбы, без радостного сознания, что мирские законы не для меня? И еще я могу сказать: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы». Время жатвы тех, кто не с нами.
25 июля.
Я говорю Федору:
– Ты, Федор, займешь Кривой переулок. Губернатор, должно быть, поедет на Ваню, но и ты будь готов. И помни: я уверен в тебе.
Он давно снял драгунскую форму и ходит теперь в фуражке министерства юстиции. Он гладко выбрит, и его черные усы закручены вверх.
– Ну, Жорж, будет им на орехи.
– Ты думаешь?
– Верно. Теперь не уйдет.
Мы в далеком конце города – в парке.
– Федор…
– Чего?
– Если будут судить, не забудь взять защитника.
– Защитника?
– Да.
– То есть это адвоката какого?
– Ну да, адвоката.
– Адвоката не надо. Не люблю я их, адвокатов этих…
– Как знаешь.
– Да и суда вовсе не будет… Ты думаешь, что? Не нужно мне этих судов… Последняя пуля в лоб – вот и готово дело.
И я по голосу знаю: да, действительно, последняя пуля в лоб.
27 июля.
Я иногда думаю о Ване, о его любви, о его исполненных верой словах. Я не верю в эти слова. Для меня они не хлеб насущный и даже не камень. Я не могу понять, как можно верить в любовь, любить Бога, жить по любви. И если бы не Ваня говорил эти слова, я бы смеялся. Но я не смеюсь. Ваня может сказать про себя:
Д уховной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился…
И еще:
И он мне грудь рассек мечом
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Ваня умрет. Его не будет. С ним погаснет и «угль, пылающий огнем». А я спрашиваю себя: в чем же разница между ним и, например, Федором? Оба убьют. Оба умрут. Обоих забудут. Разница не в делах, а в словах.
И когда я думаю так, то смеюсь.
29 июля.
Эрна говорит мне:
– Ты меня не любишь совсем… Ты забыл меня… Я чужая тебе.
Я говорю с неохотой:
– Да, ты мне чужая.
– Жорж…
– Что, Эрна?
– Не говори же так, Жорж.
Она не плачет. Она сегодня спокойна. Я говорю:
– О чем ты думаешь, Эрна? Разве время теперь? Смотри: неудача за неудачей.
Она шепотом повторяет:
– Да, неудача за неудачей.
– А ты хочешь любви? Во мне теперь нет любви.
– Ты любишь другую.
– Может быть.
– Нет, скажи.
– Я сказал давно: да, я люблю другую.
Она тянется всем телом ко мне:
– Все равно. Люби кого хочешь. Я не могу жить без тебя. Я всегда тебя буду любить.
Я смотрю в ее голубые опечаленные глаза.
– Эрна.
– Жорж, милый…
– Эрна, лучше уйди.
Она целует меня:
– Жорж, я ведь ничего не хочу, ничего не прошу. Только будь иногда со мною.
Над нами тихо падает ночь.
31 июля.
Я сказал: не хочу помнить Елену. И все-таки мои мысли с ней. Я не могу забыть ее глаз: в них полуденный свет. Я не могу забыть ее рук, ее длинных прозрачно-розовых пальцев. В глазах и руках душа человека. Разве в прекрасном теле может жить уродство души?… Но пусть она не радостная и гордая, а раба. Что из того? Я хочу ее, и нет ее лучше, нет радостнее, нет сильнее. В моей любви – ее красота и сила.
Бывают летние туманно-мглистые вечера. От напоенной росою земли встает мутный, молочно-белый туман. В его теплых волнах тают кусты, тонут неясные очертания леса. Тускло мерцают звезды. Воздух густой и влажный и пахнет скошенным сеном. В такие ночи неслышно ходит над болотами Луговой. Он колдует.
Вот опять колдовство: что мне Елена, что мне ее беспечная жизнь, муж-офицер, ее будущее матери и жены? А между тем я скован с ней железною цепью. И нет силы порвать эту цепь. Да и нужно ли рвать?
3 августа.
Завтра наш день. Опять Эрна, опять Федор, Ваня и Генрих… Я не хочу думать о завтрашнем дне. Я бы сказал: я боюсь о нем думать. Но я жду и верю в него.
5 августа.
Вот что было вчера.
В два часа я взял у Эрны снаряды. Простился с ней и на бульваре встретил Генриха, Ваню и Федора. Федор занял Кривой переулок, Ваня – Почтовую, Генрих – дальние переулки.
Я зашел в кофейню, спросил себе стакан чаю и сел у окна. Было душно. По камням стучали колеса, крыши домов дышали жаром. Я ждал недолго, может быть, пять минут. Помню: внезапно в звонкий шум улицы ворвался тяжелый, неожиданно странный и полный звук. Будто кто-то грузно ударил чугунным молотом по чугунной плите. И сейчас же жалобно задребезжали разбитые стекла. Потом все умолкло. На улице люди шумной толпой бежали вниз, в Кривой переулок. Какой-то рваный мальчишка что-то громко кричал. Какая-то баба с корзинкой в руках грозила кулаком и ругалась. Из ворот выбегали дворники. Мчались казаки. Где-то кто-то сказал: губернатор убит.
Я с трудом пробился через толпу. В переулке густым роем толпились люди. Еще пахло горячим дымом. На камнях валялись осколки стекол, чернели раздробленные колеса. Я понял, что разбита карета. Передо мной, загораживая дорогу, стоял высокий фабричный в синей рубахе. Он махал костлявыми руками и что-то быстро и горячо говорил. Я хотел оттолкнуть его, увидеть близко карету, но вдруг где-то справа, в другом переулке, отрывисто-сухо затрещали револьверные выстрелы. Я кинулся на их зов, я знал: это стреляет Федор. Толпа сжала меня, сдавила в мягких объятиях. Выстрелы затрещали снова, уже дальше, отрывистее и глуше. И опять все умолкло. Фабричный повернул ко мне свое чахоточное лицо и сказал:
– Ишь ты, палит…
Я схватил его за руку и с силою оттолкнул. Но толпа еще теснее сомкнулась передо мною. Я видел чьи-то затылки, чьи-то бороды, чьи-то широкие спины. И вдруг услышал слова:
– Губернатор-то жив…
– А поймали?
– Не слыхать, чтоб поймали…
– Поймают… Как не поймать?
– Да-да… Много их ноне… этих…
Поздно вечером я вернулся домой. Я помнил одно: губернатор жив.
6 августа.
Сегодня в газетах напечатано, что когда
«лошади губернатора поворачивали в Кривой переулок, на мостовую сошел молодой человек в форме чиновника министерства юстиции. В одной руке у него была коробка, перевязанная ленточкой.
Приблизившись к карете, он взял коробку в обе руки и бросил ее под колеса. Раздался оглушительный взрыв. К счастью, губернатор остался жив. Поднявшись без посторонней помощи с земли, он направился в подъезд ближайшего дома, где и оставался до прибытия вызванного по телефону конвоя. Губернаторский кучер получил тяжкие поранения головы. Он скончался по доставлении его в больницу. Преступник, совершив свое дело, бросился бежать. За ним погнались постовой городовой и агент охранного отделения. Преступник на бегу двумя последовательными выстрелами убил обоих преследователей. Свернув на Почтовую, он пытался скрыться. Стоявший на посту городовой сделал попытку его задержать, но был тяжело ранен пулею в область живота. На Почтовой преступник был остановлен приставом первого участка и дворниками. Убив двумя выстрелами двоих дворников, преступник скрылся во дворе дома № 3. Дом был немедленно оцеплен отрядами пешей и конной полиции и вызванною по телефону ротой N-ского полка. При обыске домовых помещений преступник был обнаружен в дальнем углу двора, за сложенными дровами. На предложение сдаться он ответил выстрелами, коими был убит наповал подполковник. Тогда был открыт по преступнику беглый огонь. Преступник, скрываясь за дровами, некоторое время отвечал выстрелами из револьвера, причем были легко ранены двое рядовых и убит унтер-офицер. По прекращении обстрела проникшими за дрова гренадерами был обнаружен труп преступника с четырьмя огнестрельными ранами, из коих две были безусловно смертельны. Преступник – молодой человек, лет 26, брюнет, высокого роста и крепкого телосложения. При нем не найдено никаких документов, в карманах же брюк обнаружено два револьвера системы «Браунинг» и коробка с патронами к ним.
К установлению его личности приняты меры».
7 августа.
Я лежу ничком в горячих подушках. Светает. Чуть брезжит утренняя заря.
Вот, опять неудача. Хуже чем неудача, несчастье. Мы наголову разбиты. Федор сделал, конечно, что мог. Разве он пропустил карету?
Мне не жаль Федора, даже не жаль, что я не успел защитить его. Ну, я бы убил пять дворников и городовых. Разве в этом мое желание?… Но мне жаль: я не знал, что губернатор в двух шагах от меня, в подъезде. Я бы дождался его.
Мы не уедем. Мы не сдадимся. Если нельзя на дороге, мы пойдем к нему. Он спокоен теперь: он торжествует победу. Нет заботы, нет страха. Но ведь будет наш день. И тогда – совершится.
8 августа.
Генрих мне говорит:
– Жорж, все погибло.
Кровь заливает мне щеки.
– Молчать.
Он в испуге отступает на шаг:
– Жорж, что с вами?
– Молчать. Что за вздор? Ничего не погибло. Как вам не стыдно?
– А Федор?
– Что Федор?… Федор убит.
– Ах, Жорж… Ведь это… Ведь это…
– Ну… Дальше.
– Нет… Вы подумайте… Нет… Но мне казалось… Что же теперь?
– Как – что теперь?
– Нас ищут.
– Нас всегда ищут.
Сеет дождь. Плачет хмурое небо. Генрих промок, и с его поношенной шапки струится вода. Он похудел, глаза у него ввалились.
– Жорж.
– Что?
– Поверьте… Я… я… хочу только сказать… Вот нас двое: Ваня и я… Мало двоих.
– Нас трое.
– Кто же третий?
– Я. Вы забыли меня.
– Вы?
– Конечно.
Пауза.
– Жорж, на улице трудно.
– Что трудно?
– На улице трудно.
– Мы пойдем к нему.
– К нему?
– Ну да. Что же вас удивляет?
– Вы надеетесь, Жорж?
– Я уверен… Стыдно вам, Генрих.
Он растерянно жмет мою руку:
– Жорж, простите меня…
– Конечно… Но помните: если Федор убит, значит, черед за нами. Поняли? Да?
И он, взволнованный, шепчет:
– Да…
А мне на этот раз жаль, что Федора нет со мною.
9 августа.
Я забыл зажечь свечи. В моей комнате серая полутьма. В углу зыбкий силуэт Эрны.
Она тайком прокралась сегодня ко мне и молчит. Даже не курит.
– Жорж…
– Что, Эрна?
– Это… это я виновата…
– В чем виновата?
– Что Федор…
Голос у ней глухой, и в нем сегодня нет слез.
– Ах, пустяки… Не мучь себя, Эрна.
– Нет, это я, это я, это я…
Я беру ее руку:
– Эрна, твоей вины нет. Я тебе говорю.
– Он бы, может быть, жил…
– Эрна, ведь это скучно…
Она встает, делает два шага. Потом тяжело садится опять. Я говорю:
– Вот Генрих сказал, нужно оставить дело.
– Кто сказал?
– Генрих.
– Как оставить? Зачем?
– Спроси его, Эрна.
– Жорж, разве правда оставить?
– Ты так думаешь? Да?
– Нет, скажи ты.
– Ну конечно же, нет.
Она с тревогою говорит:
– А кто третий?
– Я, Эрна.
– Ты?
– Ну да. Я.
Она поникла, прижалась к окну. Смотрит в темную площадь. Потом вдруг быстро встает, подходит ко мне. Жарко целует в губы.
– Жорж, милый… Мы ведь вместе умрем?… Жорж?
Снова неслышно падает ночь.
11 августа.
Перед нами всего два пути. Первый путь: переждать несколько дней и опять подстеречь на дороге. Второй путь – идти к нему. Я знаю: нас ищут. Нам трудно прожить неделю в городе, еще труднее занять те же места. Ну, вместо Федора – я, Ваня опять там же, Генрих опять в резерве. Полиция теперь начеку. Улицы усеяны сыщиками. Они караулят нас. Они окружат, незаметно схватят. Да и поедет ли губернатор той же дорогой? Ведь ему легко сделать круг… Ну а если мы пойдем к нему? Мне, конечно, не жалко тех, кто умрет: погибнет семья, сыщики и конвой. Но опасно рискнуть. Дом велик, и в нем много комнат… Я колеблюсь. Я взвешиваю все «против» и «за». И я не знаю: пойдем ли мы? Трудно решить и нужно. Трудно знать и еще труднее узнать.
13 августа.
Ваня – барин: мягкая шляпа, светлый галстук, серый пиджак. У него по-прежнему вьются кудри, блестят задумчивые глаза. Он говорит:
– Жалко Федора, Жоржик.
– Да, жалко.
Он улыбается грустно:
– Да ведь тебе не Федора жалко.
– Как не Федора, Ваня?
– Ты ведь думаешь: товарища потерял. Ведь так? Скажи, так?
– Конечно.
– Ты думаешь: вот жил на свете деятель, настоящий деятель, бесстрашный… А теперь его нет. И еще думаешь: трудно, как быть без него?
– Конечно.
– Вот видишь… А про Федора ты забыл. Не жаль тебе Федора.
На бульваре играет военный оркестр. Воскресенье. В красных рубахах, с гармониками в руках, бродят мастеровые. Говор и смех.
Ваня говорит:
– Слушай, я все о Федоре думал. Для меня ведь он не только товарищ, не только деятель… Ты подумай, что он чувствовал там, за дровами? Стрелял и знал, каждою каплею крови знал: смерть. Сколько времени он в глаза ее видел?
– Ваня, Федор не испугался.
– Жоржик, не то. Я не про то. Ну конечно, не испугался… А знаешь ли ты его муку? Знаешь ли муку, когда он, раненный, бился? Когда темнело в глазах и жизнь догорала? Ты не думал о нем?
И я отвечаю:
– Нет, Ваня, не думал.
Он шепчет:
– Значит, ты и его не любил…
Тогда я говорю:
– Федор умер… Ты лучше вот что скажи: идти ли нам… туда, в дом?
– Идти ли в дом?
– Да.
– Это как?
– Ну, взорвать весь дом.
– А люди?
– Какие люди?
– Да семья его, дети.
– Вот ты о чем… Пустяки…
Ваня примолк.
– Жорж.
– Что?
– Я не согласен.
– Что – не согласен?
– Идти туда.
– Что за вздор?… Почему?
– Я не согласен… детей.
И потом говорит, волнуясь:
– Нет, Жорж, послушай меня: не делай этого, нет. Как можешь ты это взять на себя? Кто дал тебе право? Кто позволил тебе?
Я холодно говорю:
– Я сам позволил себе.
– Ты?
– Да, я.
Он всем телом дрожит.
– Жорж, дети…
– Пусть дети.
– Жорж, а Христос?
– При чем тут Христос?
– Жорж, помнишь: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня: а если иной придет во имя свое, его примете».
– К чему, Ваня, тексты?
Он качает головой:
– Да, ни к чему…
Мы оба долго молчим. Наконец я говорю:
– Ну ладно… Будем на улице ждать.
Он весь светлеет улыбкой. Тогда я спрашиваю его:
– Ты, может быть, думаешь, я ради текстов?
– Нет, что ты, Жорж!
– Я решил: так риска меньше.
– Конечно, меньше, конечно… И вот увидишь: будет удача. Услышит Господь моления наши.
Я ухожу. Мне досадно: а все-таки не лучше ли туда?
15 августа.
Мои мысли опять с Еленой. Я спрашиваю себя: кто она? Почему она не ищет меня? Почему живет, ничего обо мне не зная? Значит, она не любит. Значит, она забыла. Значит, она, целуя, лгала. Но такие глаза не лгут.
Я не знаю. Я ничего не хочу узнать. Я видел радость ее любви, слышал счастливые слова. Я хочу ее, и я приду и возьму. Может быть, это даже не любовь. Может быть, завтра потухнут ее глаза и мне скучен будет ее любимый сегодня смех. Я сегодня люблю ее, и мне нет дела до завтра. Вот сейчас она стоит передо мною как живая: черные косы, строгий овал лица, на щеках робкий румянец. Я зову ее, я говорю себе ее имя. А ведь скоро наш, уже непременно последний, день…
Увижу я ее когда-нибудь или нет?
17 августа.
Завтра мы опять ждем губернатора на дороге. Если б я мог, я бы молился.
18 августа.
Эрна третий раз приготовила все. Ровно в три часа мы на своих местах. У меня в руках коробка. Когда я хожу, в коробке мерно стучит.
Иду по левой стороне. В теплом воздухе осень. Я утром заметил: кое-где на березах уже желтые листья. По небу ползут тяжелые облака. Каплет редкими каплями дождь.
Я осторожен. Если случайно меня толкнут… По тротуарам и на углах много глаз. Делаю вид, что не вижу их.
Поворачиваю назад. Кругом тихо. Я боюсь, что именно теперь меня догонит губернатор… Я не узнаю его кареты, не сумею…
Так брожу я полчаса. Когда я подхожу в третий раз к углу площади, к будке с часами, я вижу: на улице, около дома Сурикова от земли взвился узкий смерчь. Столб серо-желтого, по краям почти черного дыма. Он воронкой ширится вверх, затопляет улицу. В ту же минуту знакомый, страшный, чугунный гул. Лошадь извозчика на углу вздымается на дыбы. Передо мною дама в большой черной шляпе. Она ахнула и присела на тротуар. Городовой стоит секунду с бледным лицом и кидается туда.
Я бегу к дому Сурикова. Звенят стекла. Опять пахнет дымом. Я забываю про коробку, в ней стучит мерно и торопливо. Слышу крик и уже знаю, знаю наверно: он – убит…
…
А через час продают известия.
Я держу газетный листок, и у меня темнеет в глазах.
20 августа.
Ване удалось из тюрьмы передать письмо:
«Вопреки моему желанию я не был убит. Я бросил на расстоянии трех шагов с размаху прямо в окно кареты. Я видел лицо губернатора. Заметив меня, он откинулся вглубь и поднял руки, как для защиты. Я видел, как разбилась карета. В меня пахнуло дымом и щепками. Я упал на землю. Поднявшись, я осмотрелся. Шагах в пяти от меня лежали лоскутья платья и тут же рядом тело. Я не был ранен, хотя с лица струилась кровь и рукава моего пиджака обгорели. Я пошел. В это время сзади чьи-то руки крепко схватили меня. Я не сопротивлялся. Меня отвезли.
Я исполнил свой долг. Жду суда и спокойно встречу приговор. Думаю, что, если бы я и бежал, я бы все равно не мог жить после того, что сделал.
Обнимаю вас, милые друзья и товарищи. От всего сердца благодарен вам за вашу любовь и дружбу.
Прощаясь, я бы хотел напомнить вам слова: «Любовь познали мы в том, что Он положил за вас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев».
В этом письме была приписка лично ко мне. Ваня писал:
«Может быть, тебе странно, что я говорил о любви и решился убить, т. е. совершил тягчайший грех против людей и Бога.
Я не мог. Будь во мне чистая и невинная вера учеников, было бы, конечно, не то. Я верю: не мечом, а любовью спасется мир, как любовью он и устроится. Но я не искал в себе силы жить во имя любви и понял, что могу и должен во имя ее умереть.
У меня нет раскаяния, нет и радости от совершенного мною. Кровь мучит меня, и я знаю: смерть еще не есть искупление. Но знаю также: «Аз есмь Истина и Путь и Живот».
Люди будут судить меня, и я жалею их. Кроме их суда, будет – я верю – суд Божий. Мой грех безмерно велик, но и милосердие Христа не имеет границ.
Целую тебя. Будь счастлив, счастлив… Но помни: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».
Я перечитываю эти листки папиросной бумаги, я спрашиваю себя: может быть, Ваня прав? Нет, сегодня сияет горячее солнце, трепещет опадающая листва… Я брожу по знакомым дорожкам, и во мне горит большая и яркая радость. Я рву цветы осени, я вдыхаю их отлетающий аромат, я целую их бледные лепестки.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.