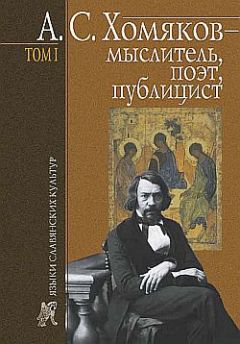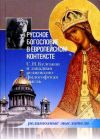Читать книгу "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1"
В. А. Викторович
«Выяснение» славянофильства: от Хомякова к Достоевскому
«Ведь не с неба же, в самом деле, свалилось к нам славянофильство, и хоть оно и сформировалось впоследствии в московскую затею, но ведь основание этой затеи пошире московской формулы и, может быть, гораздо глубже залегает в иных сердцах, чем оно кажется с первого взгляда. Да и у московских-то, может быть, пошире их формулы залегает. Уж как трудно с первого раза даже перед самим собой ясно высказаться. Иная живучая, сильная мысль в три поколения не выяснится, так что финал выходит иногда совсем не похож на начало» (V, 52)[255]255
Здесь и далее в скобках дается ссылка на издание: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972–1990 (номер тома – римской цифрой, страницы – арабской).
[Закрыть]. Так Достоевский писал в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863), обозначивших его собственное открытие «силы» славянофильской «мысли». Отныне Достоевский становится вполне сознательным «распространителем» «новых начал сознания, внесенных славянофилами», по точному выражению В. В. Розанова[256]256
Розанов В. В. О Достоевском // Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996. С. 283.
[Закрыть].
Автор «Зимних заметок…», говоря об истории восприятия славянофильских идей, как будто говорит и о себе. Он сам прошел этот непростой путь.
В фельетоне «Петербургская летопись» 1 июня 1847 года молодой писатель задел один из наиболее принципиальных моментов полемики западников и славянофилов. Я имею в виду следующее рассуждение «летописца» о направлении «современной мысли»: «Почти всякий начинает разбирать, анализировать и свет, и друг друга, и себя самого. <…> Люди рассказываются, выписываются, анализируют самих же себя перед светом, часто с болью и муками. <…> Иные думали, что нападки идут от людей безнравственных. <…> Другие говорили, что ведь есть же и без того добродетель, что она существует на свете, что существование ее уже подробно изложено и неоспоримо доказано во многих нравственных и назидательных сочинениях» (XVIII, 27). Кто эти «иные» и «другие», над кем иронизирует «летописец»? Очевидно, это враги натуральной школы, а среди них, несомненно, славянофилы как наиболее принципиальные противники нового направления в литературе (Ю. Ф. Самарин называл его «аналитическим направлением»).
Противопоставление «анализа» и «добродетели» – довольно характерная примета славянофильской критики и публицистики. Возможно, Достоевский метил конкретно в самого А. С. Хомякова, за год до того напавшего на «наше просвещение»: «Всеразлагающий анализ в науке, но анализ без глубины и важности, безнадежный скептицизм в жизни, холодная и жалкая ирония, смеющаяся над всем и над собою в обществе, – таковы единственные принадлежности той степени просвещения, которой мы покуда достигли»[257]257
Хомяков А. С. О старом и новом. М., 1988. С. 106.
[Закрыть].
Достоевский в «Петербургской летописи» 1 июня 1847 года, оспаривая мнение Хомякова и защищая современный «дух анализа», возвращал читателя к позиции, выраженной В. Белинским и В. Майковым (например, в статье последнего «Анализ и синтез», напечатанной в «Карманном словаре иностранных слов», программном документе петрашевцев). Однако некоторый оттенок в рассуждениях Достоевского отличает его от западнических соратников – это нравственный, духовный смысл, который он придает слову «анализ». Для него анализ – необходимый этап в нравственном самоочищении личности и общества, недаром в общий семантический ряд ставится здесь же слово «исповедь» («Наступает какая-то всеобщая исповедь»). Любопытно, что в начале 1860-х годов, вернувшись к этой проблеме в один из самых критических моментов своей жизни (исповедальная дневниковая запись, сделанная у гроба жены), Достоевский примиряет западническую и славянофильскую точки зрения: «Человек, по великому результату науки, идет от многоразличия к Синтезу, от фактов к обобщению их и познанию. А натура Бога другая. Это полный синтез всего бытия, саморассматривающий себя в многоразличии, в Анализе» (XX, 174). Такова итоговая для Достоевского дихотомия познания. Полагаю, уже в 1847 году, защищая одну из сторон, западническую, Достоевский как бы предчувствует будущее свое решение, вводя нравственно-духовный аспект в понятие «анализ».
Спор об анализе и синтезе, будучи в целом гносеологическим, подразумевал глубокий онтологический подтекст. Его тогда же приоткрыл достаточно недвусмысленно Хомяков: «Но нам возможны, и возможнее даже, чем западным писателям <…>, обобщение вопросов, выводы из частных исследований». Кому это «нам»? Разумеется, Востоку, славянам, русским, той «земле, которой вся духовная жизнь ведет начало свое от византийских проповедников»[258]258
Там же. С. 109, 111.
[Закрыть].
Прошел ли ранний Достоевский мимо этого, в общем-то, самого существенного момента всего спора?
Обратим внимание на еще один полемический выпад в раннем фельетоне Достоевского: «Скажут: народ русский <…> религиозен и стекается со всех точек России лобызать мощи московских чудотворцев. Хорошо, но особенности тут нет никакой <…>. А знает ли он историю московских святителей, св<ятых> Петра и Филиппа? Конечно, нет – следственно, не имеет ни малейшего понятия о двух важнейших периодах русской истории» (XVIII, 25). Как видим, фельетонист уклонился от прямого ответа на вопрос о религиозности русского народа, но косвенно, логикой своего рассуждения давал понять: о какой истинной религиозности может идти речь, когда народ не знает существа предмета? Типичная логика позитивиста, хотя и отличающаяся от более радикального взгляда Белинского, через полтора месяца после фельетона Достоевского, заявившего в знаменитом Зальцбруннском письме к Гоголю: русский народ – «по натуре своей глубоко атеистический народ».
Любопытно, что поздний Достоевский почти слово на слово отвечает себе же, раннему (далеко не единственный у него случай самодиалога) в «Дневнике писателя» 1876 года: «Знает же народ Христа Бога своего, может быть, еще лучше нашего, хоть и не учился в школе <…>, слыхивал об этом Боге – Христе своем от святых своих <…>, которых чтит народ доселе, помнит имена их и у гробов их молится» (XXII, 113). Как видим, одна и та же картина: народ, стекающийся к мощам своих святых, вызывает у Достоевского в 1847 и в 1876 годах противоположные чувства и мысли. Финал действительно выходит не похожим на начало.
Достоевский-публицист в «Петербургской летописи» довольно отчетливо проявил западническую ориентацию. С его точки зрения, современная Россия, русский народ реализуют «идею Петра». Нетрудно отыскать ближайший источник этих воззрений. В статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года», опубликованной в «Современнике» незадолго до фельетона Достоевского, Белинский утверждал: «Как и все, что ни есть в современной России живого, прекрасного и разумного, наша литература есть результат реформы Петра Великого». Знакомство с историософскими воззрениями славянофилов не прошло, однако, бесследно для молодого писателя, и здесь нас ожидает еще один случай полемики с самим собой, но теперь уже в границах 1840-х годов.
В объяснении для следственной комиссии по делу о петрашевцах (1849) Достоевский, излагая свои взгляды, опирается на тезис о различии исторических путей России и Запада: если там цивилизация складывалась через «завоевание, насилие», подчинение «авторитету», то у нас спасительной была «одна теплая, детская вера» в патриархальную власть (XVIII, 123). Достоевский таким образом повторил мысль, усиленно пропагандируемую славянофилами[259]259
См.: Ocповат А. Л. Достоевский и раннее славянофильство: 1840-е годы // Достоевский: Материалы и исследования. Вып. 2. Л., 1976.
[Закрыть].
Неслучайность совпадения подтверждает следующая затем полемика с Белинским; причину своей размолвки с критиком подследственный объяснил расхождением взглядов на литературу: «Я именно возражал ему, что желчью не привлечешь никого» (XVIII, 127). Достоевский вновь – вольно или невольно – повторил одно из краеугольных положений славянофильской критики.
Удивительно, но два «славянофильских» показания Достоевского не вызывают недоверия, несмотря на то что сказаны под следствием. Во-первых, Достоевский ссылается на свидетелей, могущих подтвердить, что те же мысли он высказывал еще до ареста. Во-вторых – и главное – основательность, последовательность и продуманность этих показаний развеивают естественные сомнения в их достоверности. В данном случае подследственный говорил правду, отсюда столь уверенный тон искренности и убежденности. В публицистических статьях начала 1860-х годов Достоевский будет повторять те самые мысли, которые он сформулировал перед лицом следственной комиссии. Так что истоки его «почвенничества» следует искать именно здесь, в 1840-х годах. Во всяком случае, можно констатировать усиление в его сознании славянофильских начал к маю 1849 года сравнительно с маем 1847.
Начальным и пробным опытом в новом роде стала «Хозяйка» (Отечественные записки, 1847, № 10, 11). H. Н. Страхов первый отметил славянофильскую ее ориентацию. Повесть может быть прочитана как духовный дневник Достоевского, написанный в символическом ключе. Катерина – страдающая и слабая, податливая народная душа, Мурин – злой чародей, религиозный фанатик и эгоцентрик, соблазняющий эту душу. Спасителем народной души хотел бы стать петербургский интеллигент Ордынов, ищущий пути к «почве»: автор указывает, что этот «фланер» на улицах «любовно вслушивался в речь народную» (деталь, бесспорно, автобиографическая), а затем в Божьем Храме, молясь вместе с Катериной (мотив совместной молитвы – почти «хомяковский»), испытал таинственное потрясение духа, описание которого предвещает будущую «Кану Галилейскую» Алеши Карамазова. История Ордынова прописана неясно, однако имеющихся в повести намеков достаточно, чтобы читатель догадался: «дивно-отрадный образ идеи», волнующий героя, связан с задуманным им сочинением по истории церкви, в которое легли «самые теплые, горячие убеждения». Вряд ли случайным является тот факт, что в это время другой русский интеллигент – Алексей Хомяков – переосмысливает историю христианской церкви.
Пережив несчастную любовь к Катерине – народной душе, свое поражение в борьбе за нее, Ордынов отвергает прежний, очевидно, возвышенно-отвлеченный план сочинения о церкви, однако же «не построив ничего на развалинах». Описание творческого и духовного кризиса героя, как можно предположить, выразило состояние самого автора. «Несчастный <…> просил исцеления у Бога <…> по целым часам лежит он, словно бездыханный, на церковном помосте». Общая атмосфера повести трагедийна, это романтическое сказание о погибели души (народной и самого героя), однако символизм ведущих мотивов, намеченная возможность исцеления создают художественный пунктир в направлении, приближавшем автора к идеалам славянофильско-христианским.
Выход из кризисного состояния наметился в произведениях, последовавших за «Хозяйкою». Как тогда казалось самому писателю, кризис окончательно был изжит им в «Неточке Незвановой» (Ап. Григорьев считал, что это был «шаг к выходу» писателя из «сентиментального натурализма»). Действительно, наряду с героями всеобъемлющего эгоизма (скрипач Ефимов, Петр Александрович) здесь являются герои, источающие духовный свет: Александра Михайловна, Князь (первый набросок будущего Князя-Христа Мышкина, по наблюдению Л. П. Гроссмана), музыкант Б. В «Неточке Незвановой» Достоевский успел сказать, еще перед каторгой, не только о разрушительной экспансии амбиций, зависти (в продолжение темы «Двойника»), но и о собирательной энергии самоотвержения, смирения (об Александре Михайловне сказано, что душа Неточки «невольно стремилась к ней и, казалось, от нее же принимала и эту ясность, и это спокойствие духа, и примирение, и любовь» – так впоследствии Достоевский будет писать о Соне Мармеладовой, о брате Алеше). Один из таких безамбициозных героев, музыкант Б., высказывает идею соборного смирения: «Я был спокоен насчет себя самого. Я тоже страстно любил свое искусство, хотя знал <…>, что я буду <…> чернорабочий в искусстве». Позднее, в «Дневнике писателя» 1877 года, Достоевский разовьет эту мысль о независтливости как источнике «настоящего равенства» в человеческом обществе (XXV, 62–63). В «Неточке Незвановой», таким образом, есть уже зачатки того христианского (соборного) образа мышления, которое отличает зрелого художника.
Эпизод общей молитвы Неточки и Князя перед иконой Божией Матери, эта новая вариация мотива, заявленного в «Хозяйке», судя по намекам повествователя, должен был получить развитие в дальнейшем ходе романа, прерванного арестом автора (как была прервана в романе и сама молитва). Узник Петропавловской крепости читает путешествия по святым местам и сочинения святого Димитрия Ростовского, а вслед за тем просит брата прислать Библию (XXVIIIj, 157, 158).
Итог 1840-х годов был непростым и даже парадоксальным: оставаясь в основном западником и социалистом, Достоевский, вопреки рациональной логике, впитывал идеалы славянофильские, христианские.
По выходе из каторги, получив письмо А. Н. Майкова, с энтузиазмом описывавшего новое «русское» движение в литературе, семипалатинский ссыльный недоумевает: «Но, друг мой! Неужели Вы были когда-нибудь иначе? Я всегда разделял именно эти же самые чувства и убеждения, <…> я всегда был истинно русский <…>. Что же нового в том движении, обнаружившемся вокруг Вас, о котором Вы пишете как о каком-то новом направлении? Признаюсь Вам, я Вас не понял. <…> Да! я разделяю с Вами идею, что Европу и назначение ее окончит Россия. Для меня это давно было ясно» (XXVIIIj, 208).
«Давно», – говорит писатель, в западническом начале пути которого вряд ли можно сомневаться. В этом, впрочем, нет противоречия. Письмо Достоевского Майкову – еще одно подтверждение в ряду известных высказываний как западников Герцена, Анненкова, Боткина, Грановского, так и славянофилов И. Киреевского, Хомякова, К. Аксакова насчет особого характера их споров. По известному выражению Герцена, у них «сердце билось одно»[260]260
Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 15. М., 1958. С. 10.
[Закрыть]. (Достоевский, еще до Герцена, в письме Майкову: «Идеи меняются, сердце остается одно»). «Сердце» принадлежало национальной культуре. Само понятие «русская идея», впервые предложенное Достоевским здесь же, в письме Майкову, включало в себя искания и тех, и других.
В записной книжке писателя находятся характерные выписки из статьи Л. Оптухина (И. В. Павдова) «Восток и Запад в русской литературе», сделанные, очевидно, осенью 1859 года. Достоевский выписывает понравившееся ему определение спора «восточников» и «западников»: «Отчасти и то и другое направление похвальны. Лучшие люди обеих партий находятся недалеко от средней черты» (XVIII, 104). В начале 1860-х годов в журнале «Время» он будет проводить именно эту среднюю линию. Правда, западникам Достоевский тогда отдавал предпочтение, так как у них он находил сравнительно меньше «теоретизма» и более «жизни».
Следует, очевидно, верить Н. Н. Страхову, который утверждал в своих мемуарах, что в 1861 году, при начале «Времени», Достоевский «был почти вовсе незнаком со славянофилами». Выбор Достоевского в этот исторический для всей России момент был сделан, что называется, по зрелому размышлению. Весьма точным в связи с этим представляется наблюдение Страхова: «Он сознательно и прямо пошел навстречу сперва Ап. Григорьеву, а потом славянофилам. При быстроте и гибкости своего ума он легко понимал эти мнения в самых их основаниях; главное же тут было то, что он уже сам, по складу убеждений, воспитанных в нем сближением с народом и внутренним поворотом мысли, был бессознательным славянофилом. Славянофильство ведь не есть надуманная и оторванная от жизни теория: оно есть естественное явление»[261]261
Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883. С. 204.
[Закрыть].
К 1861 году, когда Достоевский вновь, после каторги и ссылки, включился в борьбу идей в русской культуре, славянофильство понесло невосполнимые утраты: один за другим ушли из жизни основоположники учения И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, К. С. Аксаков. Их уход многим, в том числе и Достоевскому, казался провиденциальным, как будто время славянофилов кончилось вместе с ними.
Примечателен эпизод, произошедший в 1864 году, когда после смерти А. А. Григорьева Н. Н. Страхов напечатал в «Эпохе» письма покойного критика, в том числе его сетования на редактора «Времени» М. М. Достоевского, вычеркивавшего из статей все упоминания о Хомякове и Киреевском как «великих мыслителях». Достоевский вступился за брата и в примечании к публикации Страхова обвинил самого Григорьева: «…он неумело упоминал об этих лицах», в то время как журнальная тактика требовала учесть тогдашнюю ситуацию. «Масса читателей тянула тогда совершенно в другую сторону: про Хомякова и Киреевского было известно ей только то, что они ретрограды, хотя, впрочем, эта масса их никогда и не читала» (XX, 134). Достоевский – чуткий барометр общественных настроений, но не совсем неправ был и Страхов, утверждая впоследствии в своих мемуарах, что и сам-то Достоевский в то время вряд ли читал славянофилов.
В 1861 году выходят собрания сочинений И. Киреевского, К. Аксакова, А. Хомякова. Некоторые из них перепечатывает и газета И. Аксакова «День». Достоевский, однако, не сразу оценил эти труды.
Первый шаг, возможно, был сделан в конце 1861 года, когда Достоевский больше симпатизировал «реализму» западников, чем «идеализму» славянофилов. В ноябрьском номере «Времени» он пишет о том, что никто из западников «не понял и не сказал ничего лучше о мире, об общине русской, как Константин Аксаков в одном из самых последних своих сочинений» (XIX, 59). Установлено, что речь шла о «Кратком историческом очерке Земских соборов», впервые напечатанном в 1861 году в первом томе собрания сочинений К. С. Аксакова. Что же так поразило Достоевского в этом труде?
Есть одно мемуарное свидетельство, достаточно авторитетное, что Достоевский принял взгляд славянофилов на общину еще в 1840-e годы[262]262
Милюков А. П. Литературные встречи и знакомства. СПб., 1890. С. 176–177, 180–181.
[Закрыть]. Именно тогда развернулась полемика вокруг этого вопроса. Остро поставил его западник К. Д. Кавелин в нашумевшей статье «Взгляд на юридический быт древней России» (Современник. 1847. № 1). На новгородском вече, писал он, дела решались «как-то неопределенно, сообща», что, по мнению ученого, свидетельствовало о неразвитом юридическом строе. Вступив с ним в полемику, славянофил Ю. Ф. Самарин (О мнениях «Современника» исторических и литературных // Москвитянин. 1847. № 2) трактовал эту древнюю форму новгородской демократии как замечательное достижение «согласия» князя и вече. Белинскому такое объяснение показалось карикатурой на конституционную монархию с ее «идеалом» – согласием короля с парламентом (Ответ «Москвитянину» // Современник. 1847. № 11). Достоевский вспомнил этот спор (о чем свидетельствует фраза «…никто из западников не понял»), когда в 1861 году прочитал у К. Аксакова, что основополагающим установлением общинного демократизма является «единогласие», а не подчинение меньшинства большинству, как это сложилось в западных формах демократии. Остатки этого славянского общинного демократизма К. Аксаков наблюдал в «теперешних сходках нашего крестьянства», что давало право говорить о живучести некоторых традиций в национальном укладе жизни. Следует отметить, что Аксаков не предлагал механически перенести земскую соборность из Средневековья в Новое время, речь шла об определенной ориентации национального сознания. Он писал: «Мы согласны, что, с точки зрения государственности, строго развитой, начало единогласия является не практическим; но точно так же, как и любовь братская, самопожертвование, всякая добродетель и вообще вся нравственная сторона человека является непрактическою». Эти суждения не могли не поразить Достоевского: он сам в это время напряженно думал о том же. Позднее, в «Дневнике писателя» 1876 года, возвратясь к вопросу о «практичности» общинной идеи, Достоевский выделил в ней две плоскости – современного экономического интереса и долгосрочной духовной перспективы: «А что есть община? Да тяжелее крепостного права иной раз! Про общинное землевладение всяк толковал, всем известно, сколько в нем помехи экономическому хотя бы только развитию; но в то же время не лежит ли в нем зерно чего-то нового, лучшего, будущего, идеального, что всех ожидает» (XXIII, 99). Это новое, лучшее, по Достоевскому, явится не чем иным, как «великим и всеобщим согласием», спасительным не только для русских, для славян, но и для всего христианского мира.
Утопизм Достоевского-политика очевиден и даже наивен: он ждал если не немедленного, то очень скорого «всеобщего согласия всех русских людей, начиная с самого верху» (XXIII, 28), и на нем основывал радужные политические проекты, по-детски серчая на всякую заминку. Однако этот же самый пресловутый «утопизм», вера, что согласие и любовь, а не обособление и расчет составляют высшую закономерность русской и цель общечеловеческой истории, составили сердцевину художественного мира Достоевского и обрели потрясающую убедительность в его романах.
Мысли К. Аксакова о русской общине были первым импульсом к новому, завершающему повороту Достоевского в сторону славянофильства. 8 сентября 1863 года он пишет брату из Турина: «Скажи Страхову, что я с прилежанием славянофилов читаю и кое-что вычитал новое», – а 18 сентября уже самому Страхову из Рима: «Славянофилы, разумеется, сказали новое слово, даже такое, которое, может быть, и избранными-то не совсем еще разжевано». Так сложилось, что именно Достоевскому, более чем кому-либо другому, и предстояло «разжевать». Что именно читал Достоевский во время своего второго заграничного путешествия, с точностью установить затруднительно. Можно утверждать одно: в этот круг вошел Хомяков, к которому писатель уже прибегал в «Зимних заметках о летних впечатлениях». Первый том из собрания сочинений Хомякова, вышедший в 1861 году, был в библиотеке писателя. Комментаторами установлены некоторые следы чтения этого тома в записной книжке Достоевского 1863–1864 годов. Начинался диалог великого художника с великим мыслителем.
Важно было определить для себя некоторые исходные мотивы. «Социалисты хотят переродить человека, освободить его, представить его без Бога <…>. Но человек изменится не от внешних причин, а не иначе как от перемены нравственной» (XX, 171). Сформулировав таким образом свою историософскую позицию, Достоевский приблизился к идеям, особенно активно пропагандировавшимся до него славянофилами: «Человечество воспитывается религиею, но оно воспитывается медленно»[263]263
Хомяков А. С. О старом и новом. С. 55.
[Закрыть].
По утверждению Ивана Киреевского, Запад в лучших своих умах уже ощутил исчерпанность рационализма и «потребность веры»[264]264
Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 131.
[Закрыть]. Приговор Хомякова Западу был суровее, тем более что относился он не к западной философии, как у Киреевского, а к западным формам христианского вероисповедания.
В полемике с западными конфессиями формировалась в свое время концепция православия А. С. Хомякова. Судя по записным книжкам 1863–1864 годов, Достоевский в эти годы читал хомяковские брошюры под однотипным заглавием «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях». Они выходили в Париже в 1853, 1855 и 1858 годах на французском языке. Возможно, что Достоевский читал их в русском переводе, опубликованном в журнале «Православное обозрение» 1863 (октябрь и ноябрь) и 1864 годов (январь и февраль). В марте 1864 года там же было напечатано катехизическое сочинение Хомякова «О церкви» (авторское заглавие «Церковь одна»).
Как доказывал Хомяков, вина за раскол вселенской церкви целиком ложится на римскую ее ветвь, самовольно, без совета с восточными братьями изменившую символ веры в части догмата о Троице. Тем самым был нарушен принцип соборности, фундаментальный для церковного строения. Естественным образом последовала в жизни западной церкви подмена соборности авторитетом папы: «авторитет внутренний» уступил место «авторитету внешнему». Для укрепления последнего римская церковь вынуждена была искать опоры в светской власти (мысль, особенно часто повторявшаяся Достоевским).
Критика католицизма у Достоевского, впрочем, как и у Хомякова, не самоцель, и тот и другой не остаются на уровне догматического богословия.
«Сущность папства», – формулирует Достоевский один из главных тезисов политической статьи, над которой он работает в августе 1864 года. Далее он ставит перед собой задачу, выводящую богословские споры на улицы и площади европейской историософии: «Доказать, что папство гораздо глубже и полнее вошло во весь Запад, чем думают, что даже и бывшие реформации есть продукт папства, и Руссо, и французская революция – продукт западного христианства, и, наконец, социализм, со всей его формалистикой и лучиночками, – продукт католического христианства» (XX, 190).
Политическая статья так и не была написана Достоевским в 1864–1865 годы, однако концепция, сложившаяся в этих подготовительных записях, станет краеугольной в идейном репертуаре всего позднего Достоевского. Развитие ее можно наблюдать в «Дневнике писателя», в романах «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы». Вместе с тем есть возможность проследить родословную этой концепции, столь много значившей в философско-художественном сознании Достоевского.
По-видимому, она родилась в известном публицистическом диалоге А. С. Хомякова и И. В. Киреевского 1839 года, положившем начало славянофильской письменности. В статье «В ответ А. С. Хомякову» Киреевский заявил о смысле уклонения римской церкви от восточной, заключающемся в «торжестве рационализма над преданием, внешней разумности над внутренним духовным разумом». На этом Киреевский не остановился. «<…> самый протестантизм, – продолжал он, – <…> произошел прямо из рациональности католицизма. В этом последнем торжестве формального разума над верою и преданием проницательный ум мог уже наперед видеть в зародыше всю теперешнюю судьбу Европы как следствие вотще начатого начала, то есть и Штрауса, и новую философию со всеми ее видами <…>, и филантропию, основанную на рассчитанном своекорыстии»[265]265
Там же. С. 119–120.
[Закрыть] (читай: социализм).
Достоевский вполне мог знать эту статью, впервые опубликованную в собрании сочинений И. В. Киреевского 1861 года. Однако, скорее всего, мысль о преемственности католицизма в Реформации и в новых социальных учениях он воспринял через Хомякова, который наиболее полно обосновал и усилил ее. Таким же образом – через Хомякова – восприняли эту мысль И. C. Аксаков и Ю. Ф. Самарин.
В лице Хомякова Достоевский встретил могучую духовную силу (Самарин не обинуясь называл его «учителем Церкви»), давшую толчок его творческому сознанию в определенном направлении. Несокрушимость, цельность верования, ничуть не боящегося, по определению И. С. Аксакова, «спускаться в самые глубочайшие глубины скепсиса»[266]266
Цит. по: Bоропаев В. «Катехизис необыкновенно замечательный» // Литературная учеба. 1991. № 3. С. 131.
[Закрыть], были особенно привлекательны для Достоевского в период формирования сознательного религиозного мировоззрения в началe 1860-x годов. После общения с текучим, вечно становящимся Ап. Григорьевым этот «камень веры» (как называл Хомякова Н. А. Бердяев) был особенно кстати, хотя в плане личностном Достоевскому, вероятно, был ближе И. В. Киреевский (довольно тонкую характеристику его мировоззрения как искания веры писатель дал в подготовительных материалах к «Бесам»). Под воздействием и как бы при участии Хомякова (вкупе с Григорьевым) формируется у Достоевского глобальная концепция истории европейской цивилизации.
Первый сгусток концепции дает черновой набросок «Социализм и христианство» (1864). Социализм, по версии Достоевского, доводит до завершения процесс обособления личности, начатый католицизмом и продолженный протестантизмом. В противоположность им истинное (правильное) христианство предлагает личности иной путь: «…вполне осознать свое я – и отдать это все самовольно для всех» (XX, 192).
«Высший закон, которым должны определяться отношения человека к человеку», писал Хомяков, есть любовь, а любовь он определял как «самоотрицающийся эгоизм»[267]267
Хомяков А. С. О старом и новом. С. 284.
[Закрыть]. Это диалектическое определение (подхваченное впоследствии и Вл. Соловьевым) Достоевский предпочел «разумному эгоизму» русских революционных демократов. Строя все отношения между людьми на строгом расчете и договоре, «разумный эгоизм», идущий от просветительской философии, пренебрег иррациональной природой добра, проявляющейся в любовном влечении человека к человеку, человека к природе, человека к Богу. Хомяков в свое время глубоко воспринял недостаточность рационализма. В поисках целостной философии он обратился к христианству, в учении Христа о любви Хомяков увидел не один только нравственный закон, но единственно возможный путь к истине. «Утверждение любви как категории познания, – справедливо писал Н. А. Бердяев, – составляет душу хомяковского богословия»[268]268
Бердяев Н. А. С. Хомяков. М., 1912. С. 85.
[Закрыть].
Можно представить, каким откровением давно явленной людям, но еще не усвоенной ими правды прозвучали для Достоевского слова Хомякова: «<…> говорили часто о законе любви, но никто не говорил о силе любви. Народы слышали проповедь о любви как о долге, но они забыли о любви как о божественном даре, которым обеспечивается за людьми познание безусловной истины. Чего не познала мудрость Запада, тому поучает ее юродство Востока»[269]269
Хомяков. А. С. Полн. собр. соч. Т. II: Сочинения богословские. Прага, 1867. С. 96.
[Закрыть].
Понимание любви как «силы», а не «закона», ведет от славянофильства Хомякова к самым сокровенным основам мировоззрения Достоевского: его философия познания есть философия целостной жизни, а та, в свою очередь, есть опыт, проявляющий, осязающий любовь как первооснову, первопричину бытия. Любовь как категория одновременно гносеологическая и онтологическая в мире Достоевского позволяла преодолеть извечную антиномию познания и бытия.
В «Братьях Карамазовых» поставлен «на пороге» вопрос мучительный для писателя – о существовании Бога. Уже в начале романа, тезисно, дается ответ, так что весь последующий роман есть лишь его развертывание, – имеется в виду ответ Зосимы на вопрос «маловерной дамы», есть ли жизнь вечная: «… доказать тут нельзя ничего, убедиться же возможно <…>. Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей» (XIV, 52).
В романе у каждого из героев свой путь и свой опыт. Кому-то дано познать истину деятельной любви, кого-то ожидает крушение собственной «обособленной» правды, испытание не по силам, новые заблуждения, рабство идеи или плоти, мрак или просветление, но вся эта многоликая, разноголосая громада, изображенная Достоевским, не способна дать иного пути к истине, чем тот, о котором говорит Зосима уже в самом начале.
«Братья Карамазовы» подытожили искания Достоевского, но в какой-то мере они вернули его к тому времени (1863–1864), когда он близко принял и пережил прочитанное у Хомякова. Мистериальная постройка романа, которым художник закончил свой путь, покоилась во многом на фундаменте, сложенном христианским мыслителем. Прежде всего это относится к главной идее романа – идее всечеловеческого единения.