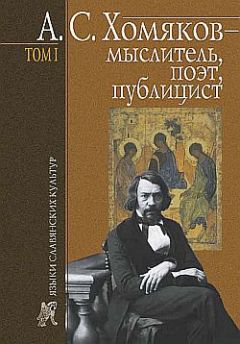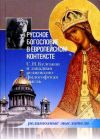Читать книгу "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1"
Дело не только в личных склонностях Хомякова к полемическому стилю. Традиции сократического диалога далеко не определяются его личными симпатиями. Повышенное внимание к сократической философии здесь некий фигуральный ход, сравнимый с известным поворотом к проблемам диалога в советской философии 1970-x годов. В «Жизненной драме Платона» Соловьева проблема диалога-разговора скорее родственна не античной маевтике, но проекту «общего дела», собирающего воедино всю российскую философию. Даже там, где речь идет непосредственно о «спасении» и «воскресении», «общее дело» – как следствие проективности догмата, на котором настаивал непосредственный автор «Философии общего дела» Н. Ф. Федоров, – требует такого условия своего осуществления, как свободное публичное слово, роль которого и берет на себя российская религиозная философия. Это «слово» и не может быть писательством как личным творчеством, отсутствие склонности к которому отмечал Н. А. Бердяев, например, у Н. Ф. Федорова[54]54
Бердяев Н. А. Религия воскрешения («Философия общего дела» Н. Ф. Федорова) // Н. А. Бердяев о русской философии. Ч. 2. Свердловск, 1991. С. 51–95.
[Закрыть], но именно «общим делом», «братским состоянием», особенным проявлением того, что у А. С. Хомякова получило название «соборности». «Соборность», как и «общее дело», в этом смысле не только предмет рассмотрения, некая идея, но, способ и стиль философствования, нечто, осуществляемое в философском действии.
Из «общего дела» и для Соловьева, и для Федорова, и для Хомякова происходят и вопросы, которые «затрагивают всякого», и способ их разрешения. В свете «общего дела» перестраивается и образ России, русского народа, русского государства, перестраивается как «общее дело» национального самоопределения. Это «общее дело» провоцирует переход и богословского, и научно-исследовательского дискурса в публичное пространство с его особыми артикулятивными законами, которые зачастую кажутся посягательством на строгий понятийный строй мысли. Не случайно вопрос этот с трудом укладывается в последовательно выстраиваемую систему понятий, оставаясь «русской идеей», русской «духовной» идентичностью, загадочной русской душой или даже «русским характером», а не строгой научной формулой. Впрочем, такого рода конфигурации при «решении» вопроса о национальном самоопределении опять-таки трудно назвать сугубо русским явлением.
М. М. Рябий
Алексей Степанович Хомяков в кругу Киреевских-Елагиных
Николай Бердяев на заре минувшего века не случайно подчеркнул в своем труде о творческой личности А. С. Хомякова, что некоторые стороны его славянофильского учения были захвачены нечистыми руками и от прикосновения их были загублены мессианские мечты о высоком призвании русского народа[55]55
См.: Бердяев Н. А. Собр. соч. Т. III: Типы религиозной мысли в России. Париж, 1989. С. 60.
[Закрыть].
С другой стороны, отечественные историография и литературоведение не имели возможности для беспристрастного изучения личности такого масштаба, как А. С. Хомяков: безрелигиозное и денационализированное сознание не в силах было это сделать – и не только Хомяков, но и братья Киреевские, Аксаковы, Юрий Самарин, да и все славянофильское учение выпали из поля зрения исследователей, над которыми дамокловым мечом тяготела тогдашняя идеология. Лишь религиозное и национальное возрождение в силах понять славянофильство и оценить его, а вместе с ним и Хомякова. В последнее время к личности Алексея Степановича Хомякова проявляется особый интерес, сбываются его пророческие слова, сказанные по поводу кончины близкого друга и единомышленника И. В. Киреевского, которые в полной мере можно отнести к нему самому: «Конечно, немногие еще оценят вполне И. В. Киреевского, но придет время, когда наука, очищенная строгим анализом и просветленная верою, оценит его достоинство и определит не только его место в поворотном движении Русского просвещения, но еще и заслугу его перед жизнью и мыслью человеческой вообще»[56]56
Русская беседа. 1856. Кн. 2. С. 6.
[Закрыть].
Вот почему сегодня так важны свидетельства современников Хомякова – и особенно из самого близкого круга – Киреевских-Елагиных, знакомство с которыми у Алексея Степановича началось в 1821–1823 годах[57]57
В мемуарах К. Д. Кавелина «Авдотья Петровна Елагина», опубликованных в книге «Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи: (Мемуары современников)» (М., 1985), на с. 138 говорится о том, что «4 июля 1821 года Авдотья Петровна переехала из Долбина на житье в Москву и прожила безвыездно 14 лет – до 1835 года».
[Закрыть]. Вероятнее всего, с Хомяковым Киреевский познакомился именно в момент посещения занятий в Московском университете. Затем их пути разошлись: Алексей Степанович сдал в Московском университете экзамен на степень кандидата математических наук и с 1823 года поступил служить в кавалерию, а Иван Васильевич выбрал статскую службу, сдав в августе 1823 года экзамен «на случай удачной служебной карьеры» в Московском архиве коллегии иностранных дел[58]58
Кошелев А. И. Записки. М., 1991. С. 210.
[Закрыть].
У студентов-вольнослушателей Московского университета Киреевского и Хомякова были возможности познакомиться по нескольким причинам. Первая из них: оба являлись родовитыми дворянами и гордились своими славными предками, которые на протяжении нескольких веков служили российским великим князьям и царям. Один из биографов Хомякова подчеркивал: «Все его предки были коренные русские люди, и история не знает, чтобы Хомяковы когда-нибудь роднились с иноземцами»[59]59
Завитневич В. 3. Алексей Степанович Хомяков. Киев, 1902. Т. I. Кн. 1. С. 80.
[Закрыть]. В одном из писем к К. С. Аксакову Хомяков рассказывает историю родового гнезда села Богучарова: «Богучарово досталось моему прадеду древнему в начале царствования Елизаветы. Прежний вотчинник Кирилл Иванович Хомяков был современник Петру. Отец моего прадеда Степан Елисеевич был еще стольником. Крестьяне помнят существование церкви, выстроенной будто бы Дмитрием Донским во имя Св. Дмитрия Солунского. Церковь эта разрушена или упразднена прежде Петра»[60]60
РГАЛИ. Ф. 10. Оп. 4. Ед. хр. 131. Л. 20 (об.).
[Закрыть].
В половине XVIII века жил под Тулою помещик Кирилл Иванович Хомяков. Схоронив жену и единственную дочь, он под старость остался одиноким владельцем большого состояния: кроме села Богучарова с деревнями в Тульском уезде, было у Кирилла Ивановича еще имение в Рязанской губернии и дом в Петербурге. Все это родовое богатство должно было после него пойти неведомо куда; и вот старик стал думать, кого бы наградить им. Не хотелось ему, чтобы вотчины его вышли из хомяковского рода; не хотелось и крестьян своих оставить во власть плохого человека. И собрал Кирилл Иванович в Богучарове мирскую сходку, и отдал крестьянам на их волю – выбрать себе помещика, какого хотят, только бы он был из рода Хомяковых, а кого изберет мир, тому он обещал отказать по себе все деревни. И вот крестьяне послали ходоков по ближним и дальним местам, на какие указал им Кирилл Иванович, – искать достойного Хомякова. Когда вернулись ходоки, то опять собралась сходка и общим советом выбрала двоюродного племянника своего барина, молодого сержанта гвардии Федора Степановича Хомякова, человека небогатого. Кирилл Иванович пригласил его к себе и, узнав поближе, увидел, что прав был мирской выбор, что нареченный наследник его – добрый и разумный человек. Тогда старик завещал ему все имение и вскоре скончался вполне спокойным, что крестьяне его остаются в верных руках. Так скромный молодой помещик стал владельцем большого состояния. Скоро молва о его домовитости и о порядке, в который привел он свое имение, распространилась по всей губернии[61]61
Лясковский В. А. С. Хомяков. Его биография и учение // Русский архив. 1896. Кн. 11. С. 341.
[Закрыть].
Новый владелец настолько прекрасно вел дела, что когда Екатерина II хотела учредить банк для дворян Тульской губернии, то последние отказались, заявив, что этого не требуется, ибо у них есть Феодор Степанович Хомяков. Когда дела у них плохо идут, они передают ему управление своим имением. Он приводит его в порядок и возвращает владельцу.
С отцом славянофила Ивана Киреевского – Василием Ивановичем произошел несколько иной, но все же похожий случай. Соседствовавшие с долбинским имением Киреевских[62]62
О том, что Долбино находилось в непрерывном владении Киреевских со времен Василия Шуйского, см.: Русский архив. 1877. Кн. 2. С. 361. А. Г. Лушников в книге «И. В. Киреевский», изданной в Казани в 1918 году, на c. 4 упоминает, что среди предков И. В. Киреевского был инок Кирилло-Белозерского монастыря Иван Васильевич, отец которого Василий Семенович Киреевский в начале XVII века получил поместье Долбино в награду «за осадное сиденье».
[Закрыть] крестьяне деревни Ретюнь однажды узнали о том, что их владелец выставляет свое имение на продажу. «Выборные из Ретюни пришли к Василию Ивановичу: “Батюшка, купи нас, хотим быть твоими, а не иных чьих каких”»[63]63
Русский архив. 1877. Кн. 2. С. 479.
[Закрыть]. Василий Иванович отвечал, что, дескать, рад, да денег нет. Крестьяне сами собрали деньги и передали их своему будущему помещику. «По вводе во владение крестьяне пригласили его к себе с молодою барынею на угощение и сделали великолепное, на котором было даже мороженое; повар с посудою был нанят поблизости из г. Белева»[64]64
Там же. С. 479–480.
[Закрыть].
Слава о добродетелях отца Киреевского разнеслась за пределы губернии: он вышел секунд-майором в отставку, знал пять европейских языков, имел свою лабораторию, в которой ставил химические и медицинские опыты, пытаясь найти лечебные средства от повальных болезней. П. И. Бартенев, один из основателей прославленного исторического журнала «Русский архив» и бессменный его редактор, знавший лично семейство Киреевских-Елагиных[65]65
А. Д. Зайцев в основательной работе «Петр Иванович Бартенев» (М., 1989) на с. 31– 32 отмечает следующее: «(...) со всем семейством Елагиных завязались у Бартенева самые дружеские отношения. “Знакомство с Елагиными, – вспоминал Бартенев, – принадлежит к немногим вполне счастливым обстоятельствам моей жизни. Я полюбил их от всего сердца, и эта семья сделалась мне как родная”». Дух равноправия, благожелательного отношения со стороны Киреевских-Елагиных ко всем, кто становился гостем их семьи, независимо от идеологических взглядов, отмечали многие. Среди них славянофильствовавший поэт Н. М. Языков («Республика у Красных ворот»), а также западник, известный юрист и историк К. Д. Кавелин, подчеркивавший в некрологе о матери Киреевских: «Салон Авдотьи Петровны Елагиной в Москве был средоточием и сборным местом всей русской интеллигенции, всего, что было у нас самого просвещенного, литературно– и научно-образованного» (Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи: (Мемуары современников). М., 1989. С. 135).
[Закрыть], в статье об Иване Васильевиче Киреевском заметил: «Кажется, что отец Киреевского был единомышленником Новикова по масонству. Он занимался химиею и, умирая, называл ее мальчику-сыну “божественною наукою”. (Слышано от самого И. В. Киреевского)»[66]66
Русский архив. 1894. Кн. 2. Вып. 7. С. 332.
[Закрыть]. Василий Иванович Киреевский после себя оставил черновое прошение на имя императора Александра I, в котором предлагал ряд мер для охраны народного здоровья. Умер он смертью праведника, ставшей венцом его милосердной деятельности. «В 1812 году он приехал в Орел, близ которого у него была деревня, и оба свои дома – городской и деревенский – отдал под больницы для раненых, приютив кроме того многие семейства, бежавшие от неприятеля со смоленской дороги. Он сам ходил за больными, заразился тифом и умер в Орле 1 ноября 1812 года в день памяти бессеребренников, безмездных врачей Космы и Дамиана, исполнив до конца заповедь Христову»[67]67
Лясковский В. Н. Братья Киреевские. Жизнь и труды их. СПб., 1899. C. 2.
[Закрыть]. О барине, умершем скоропостижно в расцвете сил, горевали вместе с близкими – молодой женой Авдотьей Петровной, (оставшейся с двумя мальчиками на руках и почти годовалой девочкой), поэтом В. А. Жуковским, приходившимся ей по материнской линии дядей, многие, хорошо знавшие его. Особенно же крестьяне, любившие доброго и справедливого помещика: «Народу жилось весело, телесных наказаний никаких не было, ни батогов, ни розог. <…> Крестьяне были достаточны, многие зажиточны. <…> Но водочной продажи Василий Иванович не допускал у себя»[68]68
Русский архив. 1877. Кн. 2. С. 479, 481.
[Закрыть]. По воспоминаниям современников, «мужеством и твердостью воли он подчинял себе всех, в том числе и городские власти»[69]69
Там же. С. 364.
[Закрыть], мог в глаза высказать чиновнику любого ранга то, что о нем думал, если тот пытался злоупотреблять своим положением. При этом следует подчеркнуть, что отец сыновей-славянофилов не был самодуром, придерживаясь патриархальных правил в воспитании крестьян и своих домочадцев. Вместе с тем Киреевский-старший, будучи патриотом, образцовым христианином, не чуждался влияний западноевропейской культуры. В то время просвещенный помещик в деревенской глуши был редкостью, поскольку не у каждого хватало духа противостоять провинциальной среде и засасывающей суете. Нужна была твердость характера и крепкая духовная убежденность. Связь с Петербургом и Москвою резко обрывалась. Тому было немало причин, но, пожалуй, главная заключалась в следующем: «В эти времена, когда общественная жизнь была еще так слабо развита, когда и речи не было о публичных интересах, помещики, поселившиеся в своих имениях, имели мало сообщения с остальным миром. Газет не получал почти никто в провинциях. Что касается до частных известий, то почта приходила в уездные города лишь раз в неделю, и по неаккуратности почтмейстеров письма частенько пропадали или лежали у них по целым месяцам».
В имении Киреевских, как это часто случалось в родовых помещичьих гнездах, был организован своеобразный театральный кружок. Однако в нем не представляли пьесок и сценок иностранного или собственного сочинения. Артистами часто выступали крестьяне, преимущественно из числа дворовых, их репертуар был, скорее, народного происхождения, нежели авторского, что, впрочем, не исключало актерской импровизации, правда, не всегда успешной.
Рассказы современников донесли до нас черты помещичьего быта Киреевских начала 1810-х годов: «<…> дворовыми в Долбино оставались еще Арапка и гуслит. Гуслит настраивал фортепьяны и игрывал по святочным вечерам, на которые в барскую залу собирались наряженные из дворовых (кто петухом простым или индейским, журавлем, медведем с поводырем балагурным, всадником на коне, бабой-Ягой в ступе с пестом и помелом и пр.).<…> Однажды камердинер Киреевского явился Езопом и рассказывал наизусть басни Хемницера со своими прибаутками. Другой комнатный предстал в обличии архиерея и, поставив перед собою аналой, начал говорить проповедь с шутливым, хотя приличным тоном и содержанием. Но Василий Иванович его остановил и удалил из залы (он был набожным)»[70]70
Там же. С. 479–480.
[Закрыть].
М. О. Гершензон в очерке о младшем брате Ивана Васильевича П. В. Киреевском не случайно подчеркивал роль дворянских родов и родовых гнезд в первоначальном воспитании основателей славянофильского учения:
Совершенно так, только переменив имена и названия, приходится начинать биографию любого из первых славянофилов. Они все вышли из старых и прочных, тепло насиженных гнезд. На тучной почве крепостного права привольно, как дубы, вырастали эти роды, корнями незримо коренясь в народной жизни и питаясь ее соками, вершиной достигая европейского просвещения, по крайней мере в лучших семьях. <…> Это важнейший факт в биографии славянофилов. Он во многом определял и их личный характер, и направление их мысли. Такая старая, уравновешенная, уверенная в себе культура обладает огромной воспитательной силой. <…>Нам, нынешним, трудно понять славянофильство, потому что мы вырастаем совершенно иначе – катастрофически[71]71
Гершензон М. О. Грибоедовская Москва; П. Я. Чаадаев; Очерки прошлого. M., 1989. С. 315.
[Закрыть].
Второй причиной возможного сближения Хомякова и Киреевского уже в Московском университете могло стать трепетно-почтительное отношение к своим матерям. Вот что Хомяков подчеркивал в облике самого близкого ему человека – Марии Алексеевны: «Она была благородным и чистым образчиком своего времени; и в силе ее характера было что-то, принадлежащее эпохе более крепкой и смелой, чем эпохи последовавшие. Что до меня касается, то знаю, что, во сколько я могу быть полезен, ей обязан я и своим направлением, и своей неуклончивостью в этом направлении, хотя она этого и не думала. Счастлив тот, у кого была такая мать и наставница в детстве, а в то же время какой урок смирения дает такое убеждение!
Как мало из того доброго, что есть в человеке, принадлежит ему? И мысли, по большей части, сборные, и направление мыслей, заимствованное от первоначального воспитания»[72]72
Хомяков A. C. Собр. соч.: В 8 т. М., 1900. Т. VIII. С. 422.
[Закрыть]. Когда сыновья Марии Алексеевны пришли в соответствующий возраст, она призвала их к себе и высказала свой взгляд на то, что мужчина должен, как и девушка, сохранять свое целомудрие до женитьбы. Она взяла клятвы со своих сыновей, что они не вступят в связь ни с одной женщиной до брака. В случае нарушения клятвы она отказывала своим сыновьям в благословении. Клятва была дана и исполнена. Интересно воспоминание Александра Дмитриевича Свербеева, сына Дмитрия Николаевича и Екатерины Александровны Свербеевых. В своих записках, начатых в 1916 году, он, вспоминая детство и юность, немало теплых строк уделил Марии Алексеевне Хомяковой и ее сыну. Хомякова он называет «самым милым, самым увлекательным собеседником». «Я был, – отмечает мемуарист, – постоянным посетителем и поклонником его старушки матери, кот. (слово неразборчиво. – М. Р.) была современницей Екатерины II, что о встречах с ней говорила, будто это было вчера»[73]73
РГАЛИ. Ф. 472. Оп. 1. Ед. хр. 103. Л. 8. Рукопись А. Д. Свербеева «Мои воспоминания».
[Закрыть].
С не меньшей теплотой вспоминает А. Д. Свербеев и о матери Киреевского: «Студентом и в более поздние годы я часто бывал у А. П. (Авдотьи Петровны Елагиной. – M. P.) <…> у “божественной старушки”, как назвал ее Вл. Павл. Титов…»[74]74
Там же. Л. 10.
[Закрыть]. О ней большую статью написал К. Д. Кавелин, подробно рассказывает в своих мемуарах А. И. Кошелев, в «Русском архиве» не раз упоминается в публикациях. Словом, в литературном мире А. П. Елагина (Киреевская – в первом браке) достаточно известна.
Третьей причиной, объединившей Хомякова и Киреевского, была, как это ни парадоксально, лень. Общий их приятель А. И. Кошелев писал в начале 1830-х годов С. П. Шевыреву: «Ты не забыл, надеюсь, любезный друг Шевырев, что мы основали в Женеве общество, коего главною целию долженствовало быть: противодействовать свойственной нам, русским, лености… Теперь мы оба возвратились на родину, оба намерены здесь поселиться и заниматься дельно. К тому же мы в Москве имеем друзей (подразумевались в первую очередь Алексей Хомяков и Иван Киреевский. – М. Р.), которые также желают быть, по мере сил своих, полезными своей отчизне, но которые также страдают терзающей нас болезнью. Если мы не примем решительных мер против… то в удовольствии быть друг с другом мы найдем сильное поощрение к празднолюбию, а потому более, нежели когда-нибудь, необходимо привести в исполнение мысль об обществе трудолюбия, которому мы бросили основание в Женеве»[75]75
Колюпанов Н. П. Биография Александра Ивановича Кошелева: В 2 т. T. 2. М., 1889. С. 15–16.
[Закрыть]. В письме из Женевы, отосланном Шевыревым и Кошелевым 10 декабря 1831 года в Москву Киреевскому, друзья недоумевали по поводу решимости их адресата издавать журнал европейского уровня. Шевырев: «Итак, ты журналист. Я сначала этому удивился, потом обрадовался. С Богом! Сделаться от лени журналистом – я узнал тебя в этом. Но, чур, быть твердым до конца»[76]76
РГАЛИ. Ф. 236. ОП. 1. Ед. хр. 145. Л. 4.
[Закрыть]; Кошелев: «Узнав, что ты сделался журналистом, я обрадовался за твоих читателей, но пожалел о тебе. Журнал издавать можно только обществом, и даже большим обществом, а одному взвалить на свою шею такую обузу – кажется мне, безрассудно. Если б я мог поверить, что ты можешь развестись со своею возлюбленною женою – ленью, и то бы не понял. Как ты вдруг решился отдать себя в кабалу»[77]77
Там же. Л. 6.
[Закрыть].
Действительно, основания для беспокойств были. Достаточно только вспомнить деятельность «часовщика» Д. А. Валуева, племянника Хомякова, аккуратно обходившего всех славянофилов в Москве и тем самым побуждавшего их к творчеству, благодаря которому появились на свет многие научные труды, в том числе и хомяковская «Семирамида». Сам Хомяков как-то признавался Киреевскому в письме: «С твоего отъезда не делал я ровно ничего и только читал всякий вздор, да всякий вечер каялся в утраченном дне. Я так часто исповедуюсь в лени без исправления, что готов с лютеранцами полагать, что лучше не исповедаться. Сохраняешь стыд и еще можно исправиться, а когда признался, отложил всякий стыд, того и смотришь, что в грехе погрязнешь»[78]78
Цит. по: Колюпанов Н. П. Биография Александра Ивановича Кошелева. Т. 2. Приложения. С. 109–110.
[Закрыть].
Однако, пожалуй, более всего сближала Хомякова и Киреевского их горячая любовь к стране, народу, традициям и наукам. Оба сходились в своей любви к Западу как центру сосредоточения научных знаний, но при этом всегда помнили (если перефразировать известные слова Киреевского) о том, что наша философия должна родиться прежде всего из нашей жизни. Киреевского по праву считают одним из основателей христианской отечественной философии, кроме того, он был признанным литературным критиком и в меньшей степени известен как стихотворец и прозаик. Хомяков прославился не только своим учением о Церкви как живом организме истины и любви. Хомяков-литератор – драматург и поэт – был не менее известен, чем Баратынский, Языков, Тютчев и другие его современники-собратья по перу. Обращаясь к западникам, предшественникам нигилистов, разоривших Россию, он в сущности, призывал вернуться назад – от чуждых России принципов в православный отчий дом, преодолеть чувство неуважительного отношения к своей Родине. При этом оба славянофильских мыслителя обрушивались на булгариных и гречей, а также москвофилов, которых П. Я. Чаадаев упрекал в том, что они гордятся теми реликвиями, гордиться которыми вообще-то и не следовало бы:
Царь-пушкой, которая так и не участвовала в сражениях, и Царь-колоколом, так ни разу и не зазвучавшим.
Но Ивану Киреевскому, блестящему публицисту, не повезло, так как ему было запрещено заниматься журналистской деятельностью. С каждым годом все сильнее давал себя знать правительственный курс, направленный на удушение русской печати и литературы. Мысли о соборности Хомякова не разделялись тогдашними иерархами русского православия. Однако неординарность этих двух личностей была такова, что они не могли затеряться в той эпохе.
Интересен первый публичный отзыв молодого критика И. В. Киреевского о своем товарище-поэте в «Обозрении русской словесности 1829 года»: «Между поэтами немецкой школы отличаются имена Шевырева, Хомякова и Тютчева. Последний, однако же, напечатал в прошедшем году только одно стихотворение. Хомяков, которого стихи всегда дышат мыслию и чувством, а иногда блестят докончанностью отделки, отдал на театр своего “Ермака”, но чтобы судить об этой трагедии, подождем ее явления в большой печатный свет; давно уже сказано, что типографский станок есть единственно верный пробный камень для звонкой монеты стихов»[79]79
Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984. С. 50.
[Закрыть].
Уже в первых своих поэтических и драматических произведениях Хомяков поставил вопрос о том, что есть для нас Россия, в чем ее сущность, призвание и место в мире.
В деле православия Хомяков не испытывал сомнений и не метался, как Киреевский, от атеизма к религиозному аскетизму. Это дает ему право укорять Киреевского в излишнем пристрастии к православию, когда тот сблизился со старцами Оптиной пустыни: «Не грех предпочитать вино воде и слоеный пирог черствому хлебу, этому служит доказательством чудо в Канне Галилейской и слова Павла об еде и посте; но грех переносить требования и услаждения жизни земной (разумеется, своей, а не чужой) в молитву – Христос обратил воду в вино не для себя, а для других и тем научил нас стараться не только о сытости, но и о комфорте братий наших меньших <…> наперекор нашим псевдоаскетам и отчасти И. В. Киреевскому»[80]80
РГАЛИ. Ф. 10. Oп. 4. Ед. хр. 131. Л. 2. Из письма к К. С. Аксакову.
[Закрыть]. «<…> Я не допускаю, или, лучше сказать, с досадою отвергаю в христианстве все эти периодические чудеса (яйцо Пасхальное, воду Богоявленную и пр.), до которых много охотников. Это все мало-помалу (неразборчиво: придает? – М. Р.) самому христианству характер идолопоклонничества, и как Вы говорите, немало было и есть еще моментов обращать Веру в магию… <…> К этому особенно склонны паписты»[81]81
Там же.
[Закрыть].
Тем не менее своим православным образом жизни и Хомяков, и Киреевский оказывали влияние на свое ближнее окружение. Вот как об этом вспоминал Кошелев:
В конце этого года (1835) я лишился нежно мною любимой матери, а в начале следующего я был обрадован рождением сына. Летнее и осеннее время мы проводили в деревне, а зимы – в Москве, куда мы приезжали в конце ноября или начале декабря; я же ежемесячно совершал поездки в деревню. В Москве мы мало ездили в так называемый grand monde* (большой свет. – М. Р.) – на балы и вечера; а преимущественно проводили время с добрыми приятелями Киреевскими, Елагиными, Хомяковыми, Свербеевыми, Шевыревыми, Погодиным, Баратынским и пр. По вечерам постоянно три раза в неделю мы собирались у Елагиных, Свербеевых и у нас; и, сверх того, довольно часто съезжались у других наших приятелей. Беседы наши были самые оживленные; тут выказывались первые начатки борьбы между нарождавшимся русским направлением и господствовавшим тогда западничеством. Почти единственным представителем первого был Хомяков. <…> я погрузился в чтение богословских книг. Зимние беседы с Хомяковым и Ив. Киреевским были главною побудительною причиною к этим занятиям. Мне совестно было, что, считавши себя христианином и просвещенным человеком, я всегда менее знал основания моих верований. Чтение святых отцов особенно меня к себе привлекло, и я в одно лето прочел почти все творения Иоанна Златоустого и много из сочинений Василия Великого и Григория Богослова. Эти занятия меня оживляли, поднимали, и я чувствовал себя как бы возрожденным. <…> Здесь считаю уместным поговорить обстоятельно о нашем кружке. Он составился не искусственно – не с предварительно определенною какою-либо целью, а естественно, сам собою, без всяких предвзятых мыслей и видов. Люди, одушевленные одинаковыми чувствами к науке и к своей стране, движимые потребностью не попугаями повторять, что говорится там – где-то на Западе, а мыслить и жить самобытно, и связанные взаимною дружбою и пребыванием в одном и том же городе – в древней столице – в сердце России, – эти люди видались ежедневно, обсуживали сообща возникшие вопросы, делили друг с другом и общественные радости (которых было очень мало), и общественное горе (которого было в избытке), и таким образом незаметно даже для самих участников составился кружок единодушный и единомысленный. Он составился так незаметно, что нельзя даже приблизительно определить года его нарождения. Он имел влияние сперва слабое, а потом все более и более действенное не только в литературе, но и в общественной, даже политической жизни России; а потому некоторые сведения о людях, его составлявших, и вообще о направлении этого кружка будут, думаю, не лишними, и тем более что эти люди, как отдельно, так и в совокупности подвергались разным упрекам, насмешкам, клеветам и обвинениям, которых они нимало не заслуживали и которые главнейше исходили из того, что вообще мало знали эти личности, не понимали или не хотели понять их убеждений и даже нередко умышленно представляли последние в извращенном виде.
Этот кружок, как и многие другие ему подобные, исчез бы бесследно с лица земли, если бы в числе его участников не было одного человека замечательного по своему уму и характеру, по своим разнородным способностям и знаниям, и в особенности по своей самобытности и устойчивости, т. е. если бы не было Хомякова. Он не был специалистом ни по какой части; но все его интересовало; всем он занимался; все было ему более или менее известно и встречало в нем искреннее сочувствие. Всякий специалист, беседуя с ним, мог думать, что его именно часть в особенности изучена Алексеем Степановичем. Хомяков мог с полною справедливостью о себе сказать: «Nihil humanum a me alienum puto» (Ничто человеческое мне не чуждо. – М. Р.). Обширности его сведений особенно помогали, кроме необыкновенной живости ума, способность читать чрезвычайно быстро и сохранять в памяти навсегда все им прочтенное. Весьма замечательное было в Хомякове свойство проникать в сокровенный смысл явлений, схватывать их взаимную связь и их отношения к целому, – к тому единому, которое проявляется в истории человечества; и при этом чрезвычайная последовательность и устойчивость в главных основных убеждениях. Не Хомяковым ли указано нашей интеллигенции действие Православия на развитие русского народа и на великую будущность, православием ему подготовленную? Не Хомяковым ли впервые прочувствованна и ясно осознана связь наша с остальным славянством? Не им ли угаданы в русской истории, в русском человеке и в особенности в нашем крестьянине те задатки или залоги самобытности, которых прежде никто в них не видал, даже не подозревал и которые, однако, должны возвратить нашу отчасти слишком высоко и отчасти слишком униженно о себе мыслящую интеллигенцию на настоящую родную почву? Все товарищи Хомякова проходили через эпоху сомнения маловерия, даже неверия и увлекались то французскою, то английскою, то немецкою философиею; все перебывали более или менее тем, что впоследствии называлось западниками. Хомяков, глубоко изучивший творения главных мировых любомудров, прочитавший почти всех св. отцов и не пренебрегший ни одним существенным произведением католической и протестантской апологетики, никогда не уклонялся в неверие, всегда держался по убеждению учения нашей православной церкви и строго исполнял возлагаемые ею обязанности. С юности и до самой кончины он неуклонно соблюдал церковные установления.
<…> Безусловная преданность Православию, конечно, не такому, каким оно с примесью византийства и католичества являлось у нас в лице и устах некоторых наших иерархов, но Православию св. отцов нашей церкви, основанному на вере с полною свободою разума, высокое о нем мнение и убеждение в том, что изучение его истории и настоящего быта одно может вести нас к самобытности в мышлении и жизни, – составляли главные и отличительные основы и свойства образа мыслей Хомякова. Эти мысли свои он проводил всего больше в наших беседах, где они находили почву самую благодарную, особенно вследствие того, что философия, даже немецкая, далеко не вполне нас удовлетворяла; что мы чувствовали потребность большой жизненности в науке и во всем нашем внутреннем быте и что все мы ощущали и сознавали необходимость прекращения разрыва интеллигенции с народом, – разрыва, вредного для обоих, равно их ослаблявшего и препятствовавшего самостоятельному развитию России. Усиливали влияние Хомякова на нас следующие обстоятельства: полнейшая простота и искренность во всех его словах и действиях, отсутствие в нем всякого самомнения и всякой гордости и снисхождение его к людям, доходившее до того, что он отрицал существование дураков, утверждавши, что в уме самого ограниченного человека есть уголок, в котором он умен и который нужно только отыскать. Еще помогало Хомякову в усилении его на нас влияния то, что он вовсе не был доктринером, безжизненным систематиком, требовавшим безусловного подчинения провозглашенным им догматам. Он охотно подвергал обсуждению самые коренные свои убеждения, вовсе не выдавал себя за непогрешимого или за проглотившего всю науку докторанта и любил вести споры по сократовской методе. Хотя Хомяков никогда не выдавал себя за либерала, но никогда не укорял кого-либо в либерализме. Он уважал и ценил его и сам был отменно либерален как в своих мнениях и действиях вообще, так и в отношениях к собеседникам и даже к противникам, старавшись им доказать несостоятельность их убеждений и не позволявши себе действовать ни на кого, хотя словом, насильственно. Он легко переносился на точку зрения своих противников; иногда даже нарочно защищал крайние мнения в противоположность другим крайним мнениям. Так, не раз случалось ему прикидываться даже скептиком в спорах с людьми формально суеверно-набожными; и напротив того, он выказывал себя чуть-чуть не формалистом или суеверною старухою в спорах с людьми отрицательного направления. Это заставляло некоторых, плохо его понимавших, говорить, что Хомяков любит только спорить и что у него нет твердых постоянных убеждений; кто же хорошо его знал, тот видел в этом только способ, вовсе не предосудительный, часто весьма удачный и Хомяковым особенно любимый, к уяснению и уничтожению заблуждений и утверждению того, что он считал истиною. Хомяков был столько же устойчив в своих основных убеждениях, сколько расположен к изменению второстепенных мнений по требованию обстоятельств и согласно полученным сведениям. В этих последних мнениях он вовсе не коснел: он постоянно развивался и очень охотно принимал все, что наука и жизнь доставляли нового.
<…> Знаю, что заслуги и достоинства Хомякова еще далеко не оценены как следует, что его богословские сочинения, приведшие в трепет и ожесточение иезуитов, заставившие призадуматься некоторых англичан и протестантов и возвратившие к Православию многих колебавшихся и блуждавших сынов нашей церкви, в России еще запрещены и провозятся только в виде контрабанды; и что его творения вообще, по большей части, покоятся на полках в библиотеках и книжных лавках. Думаю, однако, что недалеко то время, когда, наконец, великая польза деятельности Хомякова будет общесознана; и тогда нашему кружку будет поставлено в заслугу, что он содействовал к развитию мыслей Хомякова и что пшеничное зерно пало не на бесплодную землю[82]82
Записки А. И. Кошелева. М., 1991. С. 77–78, 83, 85–88.
[Закрыть].
С потерей Хомякова круг его единомышленников почувствовал пустоту. Особенно горевала «Республика у Красных ворот» – семейный круг Киреевских-Елагиных. Хомяков был принят здесь как сын старшими и как брат младшими. Вот лишь малая толика воспоминаний о нем Авдотьи Петровны Елагиной из письма С. М. Боратынской от 27 октября 1860 года: «Мы в Москве не собираемся, без моего милого Хомякова так пусто»[83]83
РГАЛИ. Ф. 51. Оп 1. Ед. хр. 218. Л. 11 (об.).
[Закрыть]; из письма к Е. А. Свербеевой и Д. Н. Свербееву от 14 декабря 1860 года: «Мы многого лишились с Хомяковым, возьмем же из его гроба хотя одну из его добродетелей: эту любовь ко всем, которая так радушно никого не отталкивала»[84]84
РГАЛИ. Ф. 472. Oп. 1. Ед. хр. 632а. Л. 6.
[Закрыть]; из письма С. М. Боратынской от 15 февраля 1861 года: «Везде только и слышны потери. Наш маленький кружок совсем распался: за Хомяковым ушел Конс. Аксаков»[85]85
РГАЛИ. Ф. 51. Оп 1. Ед. хр. 218. Л. 14.
[Закрыть]; из письма Е. А. Свербеевой от 6 марта, очевидно, 1864 года: «Наш кружок, веселый, дружный, поэтический, изящный, теперь даже не мог бы понят быть денежным, расчетливым настоящим народом. Кто теперь ищет бескорыстно добра и пользы? Разве один Самарин; Самарин знал и любил моего Ивана Васильевича и Хомякова. – Нет, моя бесценная, будем беречь наши святые воспоминания; не стоят люди теперешние, чугунные, банковые, наших милых вечерних бесед. Бог с ними! Пусть их богатеют!»[86]86
РГАЛИ. Ф. 472. Оп. 1. Ед. хр. 632а. Л. 7.
[Закрыть]; из письма Е. А. Свербеевой от 20 декабря, очевидно, 1868 года: «Однажды (1 мая) я дала кошельки моего вязания Хомякову и Кошелеву. Хомяков ласково принял, даже поцеловал, а Кошелев: “На что это? Портмоне гораздо ловчее. Вот открыл, вот закрыл! А это все вздор”. – “Да хоть на медные деньги”. – “И на медные деньги не годится, они у меня на столе” <…> Я не понимаю слишком отвлеченной любви к человечеству в простом смертном человеке. Человечество – удел Искупителя, а мы действовать должны для человека»[87]87
Там же. Л. 10.
[Закрыть].