Текст книги "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1"
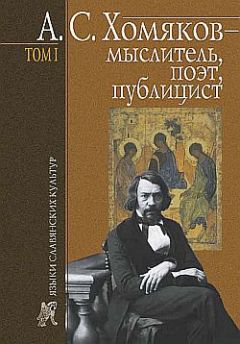
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Религиозные тексты, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 65 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Сама высота миссии дать органичное направление развитию русского ума и русского общества, которую возложили на себя славянофилы, побуждала Федорова предъявлять им (и в данном конкретном случае) наибольшие претензии. Так, он резко полемизирует с Юрием Самариным, одним из старших славянофилов, известным публицистом и общественным деятелем, точнее, с его мнением, высказанным в статье «Чему должны мы научиться?» (1856), запрещенной цензурой и ходившей в списках, где тот утверждал неизбежность поражения России в Крымской войне вследствие пороков николаевского режима: «Гордый славянофил, признающий самодержавие и говорящий конституционным языком, до того доводит свое поклонение Западу, что полагает, будто никакая сила не могла отвратить исторически законного исхода восточной войны. Другого исхода, по его мнению, быть не могло, и продолжение войны было бы безумным упорством… Но, искренно или неискренно, Европа объявляла войну рабовладельческой России; почему же Самарин и его собратья не предложили тогда же освобождение крестьян?![308]308
Впрочем, справедливости ради надо отметить, что именно Ю. Самарин был автором еще в середине 1850-х годов одного из проектов отмены крепостного права и позднее принимал непосредственное участие в ходе крестьянской реформы. Правда, Федоров имеет в виду совсем другой ее ход, к тому же тесно увязывая ее с возвращением дворянской службы.
[Закрыть] Не царь, а само дворянство должно было бы предложить и себя в службу, признав, что именно освобождение его, дворянства, от службы и обращение крестьян на службу ему, дворянству, и было причиною “исторически законного исхода войны”… Таким образом, на вопрос, поставленный Самариным в заглавии статьи, может быть один лишь ответ – должно было научиться винить себя, а не других» (II, 25).
Претензии и тон Федорова могут показаться чрезмерными для тех, кто не учитывает, что он выдвигал национально-объединительную нравственно-практическую, воодушевляющую альтернативу тому повороту исторических событий, который последовал за крымской катастрофой, унижением самодержавной России, торжеством демократического Запада, реформами, началом революционного брожения с его «восстанием молодого против старого, сынов против отцов» в студенческих кружках и забастовках, в нигилистическом направлении, в терроре (в чем Федоров видел «крайний нравственный упадок») – за всей этой еще относительно дальней прелюдией к революции… А ведь и интеллигенция, и та же молодежь, по точному чувству Николая Федоровича, хотела как раз того, что он предлагал: общего, самоотверженного служения цели благородной и высокой: «<…> все лучшее и особенно молодое в ней (в интеллигенции. – С. С.), требуя по недоразумению свободы, в сущности желало именно дела, службы и даже, можно сказать, ига, вследствие чего и делались орудием тех, которые указывали им дело, ведущее будто бы к свободе; благодаря такому настроению интеллигентной учащейся молодежи и образовалось в шестидесятых годах множество различных обществ, кружков, в которых была строгая дисциплина, подчиненность, не допускавшая никаких рассуждений. Требовалось, следовательно, не освобождение для того, чтобы было легче дышать, как это некоторые лицемерно или по недомыслию говорили тогда; дышать становилось невозможно именно вследствие отсутствия всякого дела, всякой обязанности, цели и смысла» (II, 26).
Учение всеобщего дела еще только формировалось в 1860–1870-е годы, в 1880–1890-е не смогло выйти в свет, в начале XX века, в предреволюционные годы, когда оно по меньшей мере дошло до крупнейших религиозных философов, почувствовавших его масштаб и вещую правду; те все же не сумели, по более позднему выражению С. Н. Булгакова, сказать ему ни «нет», ни решительного «да». Практический шанс для федоровского активного христианства как объединяющей идеологии был для России упущен, и разверзся кровавый галоп совсем другого братоубийственного опыта. В 1840-е – 1880-е годы авангардом выработки «православно-славянского» любомудрия, которое претендовало указать России ее истинный самобытный путь, были славянофилы, и Федорову надо было четко обозначить, что в их основоположениях не могло войти в «хлеб живой» богочеловеческого делового христианства.
И. М. Ивакин в своих «Воспоминаниях», составленных из его дневников, рассказывая о беседах с Федоровым, передает и его мнение о славянофилах, основное впечатление от их доктрин: «У славянофилов остается крайне неопределенно, что же такое православие. <…> У славянофилов все как-то неопределенно, все как-то нужно понимать внутренно, духовно… Штраус, описывая вход в Ерусалим, говорит, что, вероятно, в это время у Христа уже была мысль установить культ внутренний, духовный. <…> То же было у славянофилов, даже у Хомякова в его богословских трактатах. Относительно Троицы, напр<имер>, у него страшная неопределенность, мистичность. Славянофилы не умели прознавать за Троицей нравственного смысла, а между тем этим проникнуто все Евангелие, особенно Иоанна: “Я в Отце и Отец во Мне и тии едино суть” – вот Троица, хотя слова этого в Евангелиях и нет» (IV, 530). Как видим, ключевое здесь негативное определение – слово «неопределенность», которое варьируется во всех замечаниях и статьях Николая Федоровича о славянофилах: абрис настоящего онтологического христианского дела еще не прорисовывается в их построениях, особенно в конкретном, практическом смысле, как у самого Федорова: «Славянофилы много говорили о русской науке, но ничего определенного о свойствах и содержании этой науки сказать не могли, и это потому, что, воображая себя русскими, они были на самом деле иностранцами, и как иностранцы, они не понимали, какое важное значение в жизни народа имеет хлеб, обеспечение урожая, и даже не подумали, чтобы именно это сделать предметом науки, что именно в этом заключается предмет и содержание русской науки, как для Запада предмет науки заключается в мануфактурном производстве; точно так же никто из славянофилов не подумал о приложении способа, предложенного Карамзиным, самый же правоверный из славянофилов – Хомяков – выдумал какую-то паровую машину для несуществующей русской мануфактуры и отправил ее на выставку в Лондон» (III, 20). Иначе говоря, новую проективную русскую науку, совпадающую в данном случае с общечеловеческой[309]309
В статье о Киреевском Федоров так говорит об учении всеобщего дела: «Такое славянофильство (новое) не враждебно Западу, также претерпевающему холод и голод, также чувствующему нужду и в хлебе насущном, и в жилище» (II, 196), т. е. онтологическое дело, касающееся самых основ жизни и жизни самой, никак не может разъединять, а только объединяет всех сынов и дочерей человеческих, всех смертных
[Закрыть], Федоров видит на путях существенного, субстанциального обеспечения жизни от голода, разрушительных стихий и смерти.
В заметке «Неопределенность мыслей славянофилов об единении» Федоров обращается к одной из центральных их идей, разработанной Хомяковым в экклезиологическом (церковном) смысле, но фактически примененной другими славянофилами уже в отражении на общественное бытие. Соборность являлась тогда в качестве гармонического принципа устроения, находимого ими в крестьянском мире: так было в учении К. С. Аксакова о земле[310]310
К. С. Аксаков свою концепцию земли.(страны, общины) строил в контрастно-дополнительной паре с государством, возникшим под давлением военных угроз соседей и на отличных от общины началах, связанных с внешним законом, властным принуждением. Ю. Ф. Самарин держался подобного же взгляда на общину, где, по его мнению, развивается личность, умеющая свободно и сознательно отказаться от своего эгоистического полновластия, свойственного индивидуалистическому секуляризованному сознанию. У него, правда, нет аксаковской полярности община – государство, – напротив, и самодержавие, и община служат одной цели – противостояния отвлеченной, юридико-экономической цивилизации.
[Закрыть], общине, стоящей на нравственно-христианских принципах, где личность утишена в своих эгоистически-самостных импульсах, свободно, «как в хоре», объединена и согласована с другими. Впрочем, сам Хомяков, невиданный до того в России тип светского богослова, впервые подключивший философское умозрение к вопросам христианско-православной веры, в упоминавшейся выше программной статье «О старом и новом» фактически формулировал принцип соборности именно в его проекции на социум: «<…> настало для нас время понимать, что человек достигает своей нравственной цели только в обществе, где силы каждого принадлежат всем и силы всех каждому»[311]311
Хомяков А. С. О старом и новом. С. 55.
[Закрыть].
Во взгляде на общинность как характерную черту русско-славянского народного жизненного уклада, на ее самобытные, плодотворные качества – родственность, уважение общих целей и задач, отсутствие духа юридизма – Федоров, по сути, чрезвычайно созвучен славянофильским взглядам. Да и Церковная соборность Хомякова как «единство во множестве»[312]312
Хомяков А. С. Письмо к редактору L’Union chrétienne о значении слов «кафолический» и «соборный». По поводу речи отца Гагарина, иезуита // Хомяков А. С. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 242.
[Закрыть], свободное единение членов Церкви на основе и в духе Христовой любви и благодати (свобода, основанная «на силе взаимной любви», «смирении взаимной любви»)[313]313
Хомяков А. С. Письмо к В. Пальмеру // Там же. С. 284. Подробнее см.: Хоружий С. С. Хомяков и принцип соборности // Хоружий С. С. После перерыва. Пути русской философии. СПб., 1994. С. 17–31.
[Закрыть], где каждая личность утверждает себя в своей цельности, разумности, творческом потенциале, в неразрывности со всеми, во многом описывает то, что Федоров называл всехъединством, для коего образец находится в бытии трех Божественных ипостасей, нераздельных и неслиянных. Правда, у самого Хомякова, чьи идеи соборности разбросаны большей частью в полемических сочинениях и письмах на французском языке, публиковавшихся первоначально за границей, прямо не раскрыто то, что Федоров считал главным: уподобление соборного всехъединства Божественной Троице, раскрытие догмата Троичности как заповеди для организации человеческого общежития на новых бессмертно-преображенных началах. Концентрированно суть своих претензий к пониманию соборности славянофилами Федоров выразил так: «Соборность славянофильство видит и в мирском слое славянства (община, артель), и в церковном (соборы). Конечно, оно видит в этом строе не завершение, а только предзнаменование великой, хотя и совсем неопределенной будущности. Но славянофильство вовсе не думает, не дает себе даже и труда подумать: во-первых, для чего, для какого дела нужно такое соединение сил? Какой долг нужно исполнить? Какой цели нужно достигнуть? Во-вторых, не думает оно также и о том, как, какими способами можно произвести теснейшее соединение в целом и в частях? В-третьих, славянофильство не задает даже вопроса, во имя кого и по какому образцу должно происходить собирание? Одним словом, славянофильство относится к будущему не активно, а пассивно, суесловя о любви и правде и злоупотребляя этими словами, особенно последним» (II, 193). Мы видим, что в серии этих кардинальных вопросов, какие славянофилы, по мнению Федорова, не поставили себе, он, по существу, очерчивает круг того нового содержания богочеловеческого дела, что раскрыло уже только активное христианство Федорова и русских религиозных философов конца XIX – первой трети XX века.
Философ и публицист В. А. Кожевников, близкий друг Федорова и будущий издатель его трудов, полагал, что на «нерасположение» Николая Федоровича к славянофилам, вызывавшее его резкости в их адрес, не всегда справедливые, повлияла одна конкретная история, связанная с самой чувствительной для мыслителя темой. Речь идет о сцене умирания поэта Николая Михайловича Языкова (1803–1847), друга и единомышленника славянофилов, которую передал в своих «Воспоминаниях о Н. М. Языкове» Михаил Петрович Погодин[314]314
Москвитянин. 1846. № 11–12. С. 254–258.
[Закрыть] (на них и ссылается Федоров): «За два дня до кончины, среди горячки, в ясную минуту возвратившегося сознания, вдруг обратился он к людям, стоявшим около его смертного одра, и спросил твердым голосом, веруют ли они воскресению мертвых»[315]315
Там же. С. 255.
[Закрыть]. В письме к матери Киреевский описывал этот же предсмертный эпизод так: «Накануне кончины он (Языков. – С. С.) собрал вокруг себя всех живущих у него и у каждого поодиночке спрашивал, верят ли они воскресению душ? Когда видел, что они молчат, то просил их достать какую-то книгу, которая совсем переменит их образ мысли, – но они забыли название этой книги!»[316]316
Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. I. М., 1861. С. 98.
[Закрыть] Было отчего горестно изумиться и вскипеть от негодования великому борцу со смертью и философу воскрешения! Тут и спиритуальная, явно личная версия Киреевского о «воскресении душ» вместо целостного «воскресения мертвых», и дружное молчание на вопрос умирающего, и даже поразительное невнимание к последним словам Языкова о книге, которая убедила бы их в возможности восстания из мертвых[317]317
Для Федорова такое «можно сказать – нечестивое отношение славянофилов к словам умиравшего друга» – свидетельство их глубинного неверия в воскресение. «Невнимательным отношением к воскресению славянофилы превзошли, можно сказать, даже афинян, которые слушали ап. Павла с большим вниманием, но лишь до тех пор, пока он не сказал о воскресении; услыхав же о воскресении, афиняне сказали апостолу: “…об этом послушаем тебя в другое время”» (II, 9–10).
[Закрыть]. Сам Федоров предполагал, что это была, скорее всего, вышедшая за шесть лет до того в Париже книга Шарля Стоффеля «Воскрешение»[318]318
Stoffels Ch. Resurrection. Paris, 1840.
[Закрыть]. «Языков, – пишет Федоров, – обладавший сильным словом и привыкший видеть внимательных слушателей, должен был пережить страшные минуты при смерти, видя, что окружившие его <…>, считавшиеся его друзьями, не удостоили даже ответить на его вопрос» (II, 192). Для Федорова с его конкретно-цепким восприятием вещей этот эпизод стал своего рода лакмусовой бумажкой, проверкой на центральный пункт, по которому он судил людей: отношение к смерти, к возможности радикальной победы над ней.
Кстати, Николай Федорович особенно теплел сердцем к тем, у кого встречал проблески глубинно-христианского неприятия основного зла – смерти: так было с его отношением к Николаю Михайловичу Карамзину (1766–1826) за драгоценнейшее для философа воскрешения чувство-мысль русского писателя и историка, когда тот – в отличие от Гёте и его героя – сумел единственно правильно обозначить воистину прекрасное, высшее мгновение, достойное того, чтобы приказать тогда потоку времени: «Остановись!» Федоров так передавал выраженную Карамзиным «великую истину <…> в слишком мало оцененных словах: “Я бы сказал времени: „остановись!“, если бы мог тогда воскликнуть: „Воскресните, мертвые!“”»[319]319
Неточная цитата из финала рассуждения «О счастливейшем времени жизни», где Карамзин отказывает в чувстве счастья молодым годам «пылких желаний», наслаждений и мук, да и нынешней своей светской жизни: «…но не в летах кипения страстей, а в полном действии ума, в мирных трудах его, в тихих удовольствиях жизни единообразной, успокоенной, хотел бы я сказать солнцу: остановися! Если бы в то же время мог сказать мертвым: восстаньте из гроба!» (Карамзин Н. М. Соч. Т. 8. СПб., 1835. С. 137–138).
[Закрыть].
В письме 1895 года, скорее всего, неотправленном, к генералу А. А. Кирееву (1833–1910), публицисту, общественному деятелю, позднему славянофилу, кого Николай Федорович внимательно читал, следя и за его полемикой с Вл. Соловьевым по вопросу возможного соединения церквей, Федоров высказывает упрек в отсутствии у славянофилов конкретного дела для соборного единения, долга, высшей цели, средств ее достижения и образца, по которому «должно происходить собирание» (IV, 291), объясняя, почему это происходит: «Не замечать такой непрерывно и повсеместно действующей силы, как смерть, значит ли это сознавать действительность?» (IV, 292). Вот это игнорирование онтологического смертно-природного, гиблого фундамента, на котором славянофилы, особенно поздние, выстраивали свои прекрасные, национально-достойные общественные и религиозные проекты, надеясь на их исторический успех, и представлялось ему очередной утопией.
Только в общехристианском деле преодоления смерти, разрушительных природно-космических сил, несовершенства физической и нравственной природы смертного человека, в деле, заповеданном Христом и касающемся всех и каждого, и возможно, по убеждению Федорова, постепенное – с залогом настоящей прочности – соединение инославных (для начала), а потом и иноверных. В работе «Проект соединения церквей» философ представляет воссоединение распавшегося христианства как процесс длительный и приходящий к успеху лишь в векторе и поле онтологически-христианского дела: «Очевидно, что примирению церквей, примирению не временному, а вечному, исключающему войны внутренние и внешние, <…> должно предшествовать примирение верующих с неверующими, примирение знания с верою, принятие наукою христианства и усвоение науки христианством. Терпимости для этого дела примирения веры и знания недостаточно; чтобы состоялось их соединение, нужно сокрушение о раздоре верующих с неверующими, т. е. нужно печалование об их разъединении» (I, 377–378).
Вопрос о веротерпимости был из тех, которые разводили Федорова и большинство славянофилов. Для И. С. Аксакова, одного из темпераментных защитников свободы совести, религиозная нетерпимость основывается на чувствах и побуждениях, противных христианскому духу: на насилии, страхе, лицемерии; он считал «принцип религиозной свободы» органически присущим вере, «ибо все здание церкви стоит на том свободном действии духа, которое называется верою»[320]320
Аксаков И. С. Почему в православной России не допускается свобода совести? // Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? М., 2002. С. 756.
[Закрыть]. Федоров видел в веротерпимости другое: выражение отчаяния человечества найти общую истину и верный путь, право на бесконечное блуждание среди частичных и ложных правд, релятивистский принцип (относительность всего и вся), зацикливающий человека в его неизменно-несовершенной природе. Со своей максималистской позиции, позиции сугубой религиозной серьезности, нацеливающей род людской, сынов человеческих и сынов Божьих, на единственно верное опознание своей задачи в мире, пророк всеобщего богочеловеческого дела так обрушивался на относительную историческую правду тех, кто на деле был так или иначе среди предшественников активного христианства, пусть еще не осознавая в полном объеме всех его главным образом онтологических целей: «В деле нашего подчинения Западу, нашего обезличения дальше идти нельзя, если уже партия, считающая себя самобытною (славянофилы), определяет православие, в котором видит нашу отличительную черту от Запада, веротерпимостью, составляющею принадлежность именно Запада, и притом эпохи упадка, когда иссякла всякая вера, потеряна всякая надежда на истину и на такое благо, которое могло бы объединить всех, которое исключало бы рознь. <…> Определять православие веротерпимостью тем удивительнее, что православие само себя определило не терпимостью ко вражде и розни, а именно печалованием о всякой розни и вражде» (I, 451). Иными словами, на прискорбное и вполне реальное, слишком даже реальное время расхождения и споров, вытеснения и борьбы (заполняющих историю как факт) вместо терпимости, спокойно узаконивающей состояние духовного разброда человечества, Федоров выдвигает православное понятие, православную реакцию печалования, с одной стороны, душевно-мягкую, вовсе не предполагающую полицейских мер пресечения, и вместе твердую в своем горестном неприятии такого положения вещей («печалование о несогласии, требующее и ведущее к общему делу» – I, 378).
И вместе с тем из всех славянофилов ближе всего к федоровскому пониманию христианской задачи в мире подошел как раз Иван Аксаков. У него есть положения, дорогие философу общего дела, углубленно им развитые: это и критика фетиша линейного секулярного прогресса, когда в противовес ему признается за истинный прогресс «лишь то, что согласно с истиною христианства»[321]321
Аксаков И. С. Ответ на рукописную статью «Христианство и прогресс», присланную в редакцию газеты «Русь» // Там же. С. 797.
[Закрыть]; это и развенчание западной демократической лозунговой триады «свобода, равенство, братство» с указанием «целой бездны», лежащей между ними, «оголенными от всякой веры», и, казалось бы, близкими евангельскими принципами, с таким утверждением, поразительно совпадающим с федоровским источным кредо: «Ибо братство предполагает сыновство и без сыновства, без понятия об общем отце, немыслимо»[322]322
Там же. С. 798.
[Закрыть]; это и указание на утопичность «мечтателей и поэтов», социальных реформаторов, в своих проектах земного счастья забывающих о смертоносных натуральных бедах («…какое же внешнее материальное благополучие там, где царствует болезнь, смерть – холеры, дифтериты, свирепствующие пуще царя Ирода, избивавшего младенцев?»[323]323
Там же. С. 804.
[Закрыть]); это и метафизический идеал Божественного совершенства, поставленный как цель роду людскому: «…будьте совершенни яко Отец ваш небесный совершен есть» (Мф. 5: 48).
Наконец, самое существенное: к пути «личного, индивидуального» совершенствования и спасения, открытому каждому независимо от любых внешних обстоятельств (как чаще всего и единственно так воспринимают христианство), Иван Аксаков добавляет еще одни путь – «общемировой, исторический», понимая под ним «воздействие христианской истины на историческую судьбу и бытовое развитие всего человечества, медленный процесс брожения, перерождения, преобразования на дрожжах, брошенных в мир Христом»[324]324
Там же. С. 805, 804.
[Закрыть]. Закваска Христова уже вошла в тело земного человечества и мировой процесс вскисания, брожения, вызревания в нем высшего сознания, «совершеннолетнего» (как выражался Федоров) пришедшего «в меру возраста исполнения Христа» (как определяет Аксаков, вспоминая слова ап. Павла), продолжается в истории, готовя залоги будущего Царствия Божия. Правда, у Аксакова это лишь в общем виде заявленная, но не раскрытая историософская интуиция об органически-эволюционном движении рода людского к исполнению христианских эсхатологических чаяний. И хотя он высказывает замечательную мысль, что слово Божие – это «сила, действующая в истории человечества – именно чрез каждого человека в отдельности», его выводы не распространяются дальше воспитания этой силой «внутреннего человека»[325]325
Там же. С. 807.
[Закрыть]. Отказав Церкви в «задаче практического социального переустройства в данную минуту» (что верно, если имеются в виду прагматические текущие задачи), Аксаков все же не дерзает сделать ее возглавителем христианского онтологического дела, так традиционно ограничив призвание церкви: «…хранение догмы и проповедь Евангелия, призыв индивидуумов к подвигу личного совершенствования и спасения»[326]326
Там же. С. 809.
[Закрыть].
Славянофильство так и не совершило решающего скачка в осознании миссии не только отдельного человека, но рода людского в целом – стать коллективным орудием осуществления Божьей воли в мире, орудием реализации онтологических обетований христианства в их полноте, что и открывает новую бессмертно-преображенную, вселенскую эру бытия и творчества сознательных обоженных существ. Однако именно мыслители этого направления в своих идеалах «целостного знания», соборности, нравственных начал родственности, любви, гармонического согласия части и целого (личности и общины), христианской политики, в своих отдельных историософских прозрениях готовили в России явление активного христианства, идей богочеловечества, истории как «работы спасения», творческой эсхатологии русской религиозной мысли.









































