Текст книги "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1"
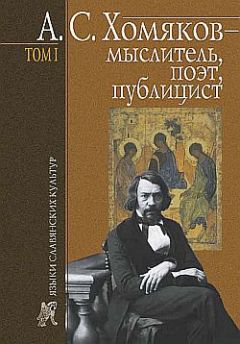
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Религиозные тексты, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 65 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
«Недоступная для отдельного мышления истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью»[270]270
Там же. Т. I. C. 283.
[Закрыть]. Этот вывод был сделан Хомяковым в результате осмысления опыта вселенской соборной церкви: русский богослов был первым, кто возвел этот опыт в ранг идеи, сделал соборность, бывшую церковным установлением и преданием, категорией философского мировоззрения. Соборность – форма земного воплощения идеальной христианской любви, единственно адекватная этому началу организация единоверцев. Причем организация не внешнего характера (по этому пути пошла западная церковь, как полагал Хомяков), но сугубо внутреннего, духовного. «Духовное общение молитвы»[271]271
Там же. Т. II. С. 108.
[Закрыть] – вот что позволяет, по Хомякову, преодолеть одиночество человека, отлученность от братьев и от Бога. Сцены молитвенного единения, как мы уже видели, появляются в творчестве Достоевского еще в 1840-е годы («Хозяйка», «Неточка Незванова»), когда лишь намечалось сближение писателя со славянофильством. По свидетельству тогдашнего знакомца Достоевского С. Д. Яновского, «вернейшее лекарство у него всегда была молитва. Молился он не за одних невинных, но и за заведомых грешников»[272]272
Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. I. М., 1990. С. 246. Нелишне отметить, что в первом издании этого сборника (1964) приведенные строки, как и другие подобные им, были выпущены.
[Закрыть].
Мотив молитвенного братства настойчиво проходит через поздние романы писателя («Преступление и наказание», «Идиот», «Подросток»), пока, наконец, явственно и мощно не воплощается в кульминационной сцене прозрения и духовного воскресения Алеши в «Братьях Карамазовых» (глава «Кана Галилейская»): «Простить хотелось ему всех и за все и просить прощения, о! не себе, а за всех, за все и за вся, а “за меня и другие просят”, – прозвенело опять в душе его» (XIV, 328).
Человек, как утверждал Хомяков, есть часть целого, и только в этом качестве он способен самоосуществиться как богоподобная личность. Хомяков не был исключительно богословом, его богословие стремилось охватить всю полноту земной жизни, и естественно, что принцип соборности он распространял за границы церковной организации: жизнь человека в обществе, в хозяйстве, в семье, по его мнению, устремлена к «живому единству» в не меньшей степени, чем жизнь в вере. В конечном счете эта устремленность проявляет себя в единстве национальном, народном. В черновиках Достоевского 1877 года читаем: «<…> связан и объединен наш народ пока так, что его трудно расшатать. Хомяков говаривал, говорят, смеясь, что русский народ на Страшном суде будет судиться не единицами, не по головам, а целыми деревнями, так что и в ад и в рай будет отсылаться деревнями. Шутка тонкая и чрезвычайно меткая и глубокая» (XXV, 305).
Сформированное в иных условиях жизни мировосприятие Хомякова не было эсхатологическим. Он, безусловно, ощущал собственную личность в гармоническом и несомненном единстве с народным «море-океаном», подчас до растворения в нем. «Отделенная (от народа. – В. В.) личность есть совершенное бессилие и внутренний непримиренный разлад»[273]273
Хомяков А. С. О старом и новом. С. 211.
[Закрыть] – Хомяков писал об этом как бы со стороны, сохраняя душевное спокойствие. Его вера в русский народ, в его будущее была ничем не поколеблена. Достоевский утверждал то же самое (хотя и с оговорками, вроде «пока» в приведенном выше анекдоте о Страшном суде), но чем горячее, исступленнее он делал это, тем более выдавал гнездящееся в душе сомнение. Так, его Шатов («Бесы») во многом автобиографичен своим переходом от социализма к христианству, от западничества к славянофильству. Однако он, Шатов, весь в этом переходе, он только еще жаждет единения с народным целым.
Хомяков-мыслитель не мог не привлечь Достоевского как естественное продолжение того духовного мира и покоя, непоколебленной цельности, что источают книги Священного Писания и святоотеческая литература. Сам Достоевский был уже человеком иной эпохи, утратившим полноту соборного мироощущения и тоскующим об этой полноте. В нем заключался Зосима и в нем же – Иван Карамазов; что касается Хомякова, то, необыкновенно близкий «радостному» христианству первого, он духовно чужд оспариванию «мира Божьего» последним. Проблема теодицеи не была для него столь трагичной, как для Достоевского. Хомяков, очевидно, был явлением пограничным: самый переход соборности из бытия непосредственного в бытие осознанное, в категорию долженствования уже предвещал неизбежный переход в новое качество. Творческое сознание Достоевского – продолжение этого перехода: в него вошел Хомяков с его непоколебленным коллективизмом, но одновременно в него вошел и Ап. Григорьев с его обостренно-личностным стремлением к целостности бытия.
Европейская история представлялась Достоевскому так же не лишенной глубочайшего трагизма, как некое трудное и противоречивое становление «идеи всемирного единения людей», начала в форме «всемирной римской монархии» и лишь затем как «единение во Христе» (XXV, 151). Славянский, особенно русский мир, по Достоевскому, оказывался внутренне наиболее готовым к восприятию этой новой формы единения. Начиная «Дневник писателя» 1877 года, он заявляет: «Национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение» (XXV, 20).
Не лишним будет отметить одну особенность: в постановке «русской идеи» Достоевский чаще всего пользовался сослагательным наклонением и будущим временем. В предсмертном «Дневнике писателя» 1881 года он делает важное уточнение: «Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя Христово. И если нет еще этого единения, если не созижделась еще церковь вполне, уже не в молитве одной, а на деле, то все-таки инстинкт этой церкви и неустанная жажда ее <…> в сердце многомиллионного народа нашего несомненно присутствует» (XXVII, 19). Здесь очевидна идея, идущая от Хомякова, но столь же очевидна и существенна поправка к ней: Церковь (православная), которую Хомяков активно выставлял в назидание западным братьям, по Достоевскому, «не созижделась еще вполне» (в ней не одни Зосимы, есть и Ферапонты).
Разграничению этого, впрочем, не чужд был и Хомяков, еще в 1839 году («О старом и новом») писавший о «порабощении церкви» государством на Руси и вычленявший в связи с этим «церковь возможную», «просвещенную», «торжествующую над земными началами»: «Она не была таковой ни в какое время и ни в какой земле». Позднее, в борьбе с католицизмом, Хомяков в полемическом увлечении отступил от собственного умозаключения: как выразился Н. А. Бердяев, он «реальной» западной церкви противопоставил «идеальную» восточную.
Хомяковская критика католичества (впрочем, как и критика его Достоевским, что замечал еще В. В. Розанов) могла быть перенесена во многом и на реальную православную церковь. Первым это сделал Ю. Ф. Самарин в предисловии к тому богословских сочинений Хомякова (1867), а затем И. С. Аксаков в своих обвинениях в адрес православных иерархов, не гнушавшихся «вещественной силой» полицейских мер[274]274
См., напр.: Москва. 1868. 22 и 23 октября (передовые, статьи).
[Закрыть]. По глубочайшему убеждению славянофилов, вера может существовать лишь вне насилия.
Мы подошли ко второму после соборности фундаментальному принципу христианского любомудрия Хомякова. «Закон Христов есть свобода» – таково самое краткое определение, им данное[275]275
Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. II. С. 230.
[Закрыть]. Христианство отнесено мыслителем к «иранскому» типу религиозного сознания (начавшегося с иудаизма), преодолевающего косную необходимость, вырывающегося на просторы творческой духовности, в отличие от «кушитства», религии необходимости (к этому типу Хомяков относил все формы язычества, буддизм, а также и «искаженное» христианство – католичество). В первом случае вера есть «акт свободы», во втором – исключительное подчинение «авторитету». Богословская концепция Хомякова уже сама по себе была таким «актом свободы», русский богослов смело ступил на путь религиозного творчества, покусился на толкование внутреннего смысла учения Христа, разумеется, опираясь на Священное Писание и традицию святоотеческой литературы. Ю. Ф. Самарин свидетельствовал, что «Хомяков представлял собою оригинальное, почти небывалое у нас явление полнейшей свободы в религиозном сознании»[276]276
Там же. С. XX.
[Закрыть]. Еще сильнее выражался Н. А. Бердяев: «Если в традиционном учении Церкви нет такого учения о свободе и человеке, то это указывает на его неполноту и недостаточную раскрытость христианской истины. В этом была творческая задача русской религиозной мысли»[277]277
Бердяев Н. А. Собр. соч. Т. 3: Типы религиозной мысли в России. Париж, 1989. С. 23.
[Закрыть]. Впрочем, эта «свобода» показалась уклонением и подверглась жесткой критике хранителей ортодоксии, резонно при этом указывавших на необходимость подчинения в церкви[278]278
См. особенно: Флоренский П. Около Хомякова: Критические заметки. Сергиев Посад, 1916 .
[Закрыть]. Что касается Достоевского, то он был на стороне Самарина и решительно двинулся по хомяковскому пути осмысления христианства как религии свободы.
В «Братьях Карамазовых» в главе «Великий инквизитор» Достоевский показал, насколько глубоко он освоил философско-богословские уроки Хомякова. «Чудо, тайна и авторитет», выставленные на знамени Инквизитора, – развитие идей, на которых, по Хомякову, построилось искаженное христианство, христианство без Христа, ибо и сам Христос, согласно Хомякову, «не авторитет, а истина»[279]279
Хомяков А. С. Полн. собр. соч. Т. II. С. 49.
[Закрыть]. Эти слова вполне мог бы сказать молчащий Христос Достоевского. Достоевский сравнительно с Хомяковым укрупнил и усилил аргументацию противной стороны: защитник авторитарного начала, Великий инквизитор представлен своеобразным апостолом христианства без Христа, нарочитым гуманистом, жалеющим «слабого» человека, не готового к свободе. Такие жалельщики всегда умели склонить на свою сторону толпу, для которой свобода совсем уж не такая очевидная ценность.
Развитие, продолжение славянофильской мысли, недосказанной самими основоположниками, – христология Достоевского. Он говорил: сияющая личность Христа. Это сияние разливается во всех романах, начиная с «Преступления и наказания», и чем мрачнее описываемый автором современный мир, тем, кажется, ярче светит нездешний лик. Образ Христа в романной поэтике Достоевского, равно как и в поэтике «Дневника писателя», – высшая инстанция Истины и одновременно критерий Красоты. В мире Достоевского вначале был образ Его, и только потом – идея, мораль, поучение.
Очевидно, как хорошо Достоевский усвоил уроки Хомякова. Можно даже сказать: присвоил его философско-богословские открытия. Точно так же он поступил когда-то с интеллектуальной собственностью Аполлона Григорьева. Для гения нет чужой собственности в области духа, он в себе, в своей творческой личности воплощает соборность национальной и общечеловеческой культуры.
Достоевский не повторял зады воспринятого им учения, о чем говорит хотя бы то, что он соединил в себе вечно текучего Аполлона Григорьева с неколебимо последовательным Алексеем Хомяковым. Он проникся истиной славянофильствующих и додумал ее по-своему. Дискурс, устремленный к целостности человеческого духа, он облек плотью художественной реальности в романной пенталогии «русской идеи», сопровождаемой злободневным комментарием «Дневника писателя». Уже поэтому историю славянофильства недостаточно рассматривать как историю мысли – она, несомненно, входит в историю русской культуры. Мир Достоевского не существует вне этой связи.
Еще раз вернемся к словам, которые Достоевский мог прочесть в томе сочинений Хомякова 1861 года и которые, что не удивительно, совпали с его собственными выводами: «Отделенная личность есть совершенное бессилие и внутренний непримиренный разлад».
Поэтика раннего Достоевского зиждилась на законах расщепленного, «разорванного» сознания. В этом уже тогда виделась автору трагедия современного человека и казалось, что иное, целостное состояние им безвозвратно утрачено, как потеряно то Доброе Село, из которого происходила Варенька Доброселова. Любопытно, что именно славянофильская критика поставила тогда вопрос о тупиковости избранного молодым автором направления, колеблющегося между мечтательным и реальным. Но если история «Бедных людей» – это история трагической несостоятельности разъединенных людей, то «Неточка Незванова» (нет незваных!) находится уже на выходе из этого замкнутого на себе духовного пространства.
Начало новому этапу творчества Достоевского, несомненно, положили «Записки из подполья», трагедия духовного разложения уединенного сознания. Мерещится идеал, как говаривал сам автор, – это предполагаемый и зовущий к себе полюс антиэгоизма, открытость личности вовне, к другому, что на соседних журнальных страницах было выражено с открытой, какой-то даже простодушной прямотой:
«Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, <…> ничего не может и сделать другого из своей личности <…> как отдать ее всю всем <…>. Это закон природы; к этому тянет нормального человека» (V, 79). Эта мысль имеет фундаментальное значение в художественной антропологии писателя. В начале ХХ века перед нею в недоумении остановился Андре Жид: примирение, то есть преодоление крайностей «индивидуализма и самоотречения», показалось даже нелепым «с точки зрения западного сознания», личностно ориентированного, но открылся наконец и ему, этому сознанию, источник, питавший Достоевского: «Это решение указано ему Христом: “Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее”»[280]280
Жид A. Достоевский. Эссе. Томск, 1994. С. 28–29.
[Закрыть].
Может быть, для того и явился в этот мир русский писатель Достоевский, чтобы растолковать данную задолго до него истину: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Евангелие от Иоанна – эпиграф к роману «Братья Карамазовы» – эпитафия на могиле Достоевского).
К 1864 году относится набросок статьи «Социализм и христианство», где соотношение «личного» и «общего» положено Достоевским в основу периодизации истории человечества. На первом этапе «человек живет массами», «непосредственно». На втором, «переходном», выделившаяся из массы личность становится во «враждебное, отрицательное отношение к авторитетному закону масс и всех». Наконец, третий исторический этап развития: «Человек возвращается в массу, в непосредственную жизнь <…>, но как? Не авторитетно, а, напротив, в высшей степени самовольно и сознательно» (XX, 191–194).
Историософия Достоевского, воплощенная затем в художественной форме в «Сне смешного человека», в целом следует славянофильству в общем понимании исторического развития как возвращения «я» ко «всем». Достоевский лишь уточняет, что средний, переходный момент этого процесса – отпочкование личности – не провал истории, не пустое время, но необходимость, пусть «болезненная» и трагическая. Человечество, по Достоевскому, как бы повторяет путь отдельного человека: от непосредственного, детского – через бездну сомнения, через утрату «веры и в Бога» – к зрелой и теперь уже свободной «непосредственности». Не растворение и утрата личности[281]281
Так уверяют некоторые современные исследователи. См., напр.: Носов О. H. Проблема личности в мировоззрении Ап. Григорьева и Ф. М. Достоевского // Достоевский: Материалы и исследования: Вып. 48. Л., 1988.
[Закрыть] смысл этого процесса, а качественно новое утверждение ее.
В. А. Никитин
Священник Павел Флоренский и А. С. Хомяков. Парадоксы и метаморфозы славянофильства
Творческое наследие А. С. Хомякова и священника Павла Флоренского имеет большое значение для анализа, осмысления идейной эволюции и метаморфоз славянофильства. Парадоксально, что, хотя Хомякова можно считать идейным предшественником Флоренского, именно о. Павел подверг некоторые идеи Хомякова довольно существенной критике. Оба мыслителя отличались энциклопедичностью познаний, синтетическим складом ума и глубокими интуициями, оба сделали открытия и изобретения в области естественнонаучной («удельный вес» Флоренского здесь гораздо значительнее), оба были самобытными поэтами (пальма первенства здесь за Хомяковым).
Со славянофилами, в частности с Хомяковым, Флоренского связывает прежде всего историческая память, неотделимая от пафоса почвенности: «Славянофильство, в его раннейших стадиях, – писал Флоренский Федору Дмитриевичу Самарину 1 августа 1912 года, – это anamnesis (припоминание) чего-то дорогого, давно знакомого, но позабытого, словно воспоминание детства… И то лучшее, что думается относительно русской культуры, всегда органически срастается со славянофильством. Вот почему славянофильские идеи как символ всегда являются в моем сознании центром кристаллизации всяких идейных движений» (НИОР РГБ, ф. 265, ед. хр. 205.29, л. 3–4).
Ф. Д. Самарин в своем ответе высказал знаменательные обобщения:
Не умею Вам передать, как меня радует то, что Вы пишете о славянофильстве и о Вашем отношении к нему. Вы совершенно верно, думается мне, определили значение славянофильства в умственной жизни нашего общества. Его сила, конечно, в том, что оно было первым ярким проявлением русского народного самосознания. Только теперь начинают это понимать, и потому только теперь настает пора для правильной оценки того, что высказано и сделано славянофилами. Однако и теперь, к сожалению, мало еще людей, способных, например, вполне освоиться с мыслью Хомякова и судить о ней самостоятельно. С этим не справился и Бердяев, несмотря на то, что он, видимо, исполнен сочувствием к Хомякову и посвятил немало труда на его изучение (Самарин подразумевает книгу Бердяева «А. С. Хомяков» – М., 1912. – Прим. авт.). А Гершензон при всем своем литературном таланте и при всем проявляемом им интересе к славянофильству, – родоначальника этого направления совсем знать не хочет, и если бы даже знал, то, видимо, и понять в нем ничего бы не мог (Памяти Ф. Д. Самарина. Сергиев Посад, 1917. С. 15).
Далее, обращаясь к Флоренскому, Самарин пишет:
Признавая свое духовное родство с Хомяковым и его ближайшими друзьями, Вы, конечно, ничуть не жертвуя своей самостоятельностью, примыкаете к тому умственному течению, которое оказалось наиболее здоровым и жизнеспособным из всех наших так называемых направлений. Казалось еще недавно (и многие в этом были искренно убеждены), что славянофильство давно умерло, погребено и не воскреснет. Теперь даже люди совсем другого склада мыслей не решаются это утверждать; напротив, у этих самых “отпетых” славянофилов ищут и находят многое такое, что оказывается пригодным для возрождения духовной жизни в наше время, исполненное всякого рода разочарований. Это оправдавшее себя, таким образом, могучее течение когда-нибудь вынесет нас, я твердо верю, из того круговорота, которым мы захвачены и который грозит нам духовной гибелью (Там же. С. 16).
Через шесть лет В. В. Розанов, как бы подтверждая характеристику Самарина, назвал Флоренского вождем всего молодого славянофильства, под воздействием которого находится множество умов и сердец в Москве, Сергиевом Посаде, Петербурге и всей России (см.: Спасовский М. В. В. Розанов в последние годы своей жизни. Берлин. 1923. С. 62). Именно эта репутация вождя славянофилов, поборника Православия и ревнителя церковности, убежденного монархиста и идейного вдохновителя «русской идеи», сторонника реставрации всего дореволюционного уклада жизни привели впоследствии к аресту, ссылкам и безвременной кончине отца Павла Флоренского, священномученика милостью Божией (расстрелян 8 декабря 1937 года).
Сам Флоренский глубоко чтил память Хомякова, считал его «величайшим идейным борцом за Святую Русь», подчеркивал благородство его личности и безупречную честность его мысли. «Хомяков, – писал Флоренский, – и как личность, и как мыслитель, величина настолько большая, даже исключительно большая, – что апологетический тон в отношении к нему и к его воззрениям представляется как будто излишним» (Вокруг Хомякова. С. 4).
В экклезиологии (то есть учении о Церкви) Хомякова и Флоренского, на наш взгляд, очень много общего. Мы имеем в виду сам пафос православной соборности, утверждение необходимости живого церковного опыта. Вне такого опыта, подчеркивал Хомяков, непостижимо ни Писание, ни Предание, ни дело. Приобщенному же к духу соборности единство их самоочевидно и явно по духу благодати, живущему и действующему прежде всего в Церкви (см.: «Церковь одна»). Именно эта мысль воодушевляет и пронизывает знаменитую книгу Флоренского «Столп и утверждение Истины». Но наиболее полно отношение Флоренского к Хомякову запечатлелось в его статье «Около Хомякова», опубликованной в журнале «Богословский вестник» (1916. № 7–8), а затем вышедшей отдельным изданием (Сергиев Посад, 1916).
Статья эта написана в форме развернутой рецензии на двухтомную монографию профессора В. В. Завитневича «Алексей Степанович Хомяков» (Т. 1. Киев, 1902; Т. 2. Киев, 1913). Но это не просто рецензия, а своеобразное подведение итога многолетнему изучению Хомякова Флоренским.
Отдавая дань уважения исследованию маститого профессора (Завитневич работал над своей монографией более 20 лет, ее объем превзошел 2000 страниц!), Флоренский тем не менее не может воздержаться от упреков в отсутствии самостоятельности, вследствие сугубо описательного метода Завитневича, в неумении взглянуть на исследуемый предмет со стороны, что невольно граничит с неизбежным эпигонством. Флоренский сравнивает труд Завитневича с уменьшенной копией, точно передающей рисунок оригинала, но не более того: «Рисунок проф. Завитневича, формально правильный и точный, походит на калькированную сводку ровными линиями без нажимов: все контуры – одинаковой толщины, рисунок без тени и красок… Ничто не задевает заживо в этих обширных томах, и по ним тащишься без оживления, радости и гнева, как по длинной-предлинной однообразной аллее» (с. 20).
Не вдаваясь в дальнейшую оценку упомянутой монографии, будем признательны ее автору хотя бы за то, что он дал творческий импульс для рецензии Флоренского, благодаря которой мы можем теперь с большой уверенностью судить об отношении отца Павла к Хомякову и славянофильству вообще.
Основной из тревожных вопросов, который, по мнению Флоренского, возбуждал Хомякова, – подозрение в протестантизме. Сущность протестантизма, как подчеркивал сам Хомяков, сводится к протесту против католицизма при сохранении, однако, основных предпосылок католицизма.
Так ли это? – вопрошает Флоренский, подвергая ретроспективному анализу концепцию Хомякова, и справедливо отмечает, что развитие протестантизма (уже после кончины Хомякова) обнаружило в его основе, как главного выразителя культуры нового времени, наличие возрожденческого гуманизма, сущность которого – человекоутверждение, человекобожие, то есть, прибегая к философским терминам, имманентизм. Флоренский же подчеркивает, что существо Православия есть онтологизм – «приятие реальности от Бога, как данной, а не человеком творимой, – смирение и благодарение» (с. 21).
Нельзя не согласиться с Флоренским, когда он высказывает глубокую мысль: критика (надо сказать, односторонняя) Хомяковым католицизма легко переносима и на Православие: «…выпалывая плевелы католицизма, не рискует ли такая полемика вырвать из почвы и пшеницу Православия?» (с. 15).
Занимаясь изучением другого гениального мыслителя – Н. Ф. Федорова (1829–1903), мы должны признать, что у него много общего с Хомяковым; можно с определенной долей уверенности говорить даже о влиянии Хомякова на Федорова: столь же резкая, весьма радикальная критика католицизма имеет место и у Федорова, который договаривается до следующего утверждения (цитируем по неизданной рукописи): «Католицизм есть религия ужаса, управление католической Церковью – терроризм (! – В. Н.). Причиною воскресения там является не любовь, восстанавливающая жизнь, а гнев, – гнев раскрывает могилы, гнев выбрасывает тела, которым жизнь возвращается под грозные звуки трубы: Христос – неумолимый Судия, даже Дева Мария не ходатаица, а все святые – обвинители» (НИОР РГБ, ф. 657). Между тем картину Страшного Суда и Православная Церковь представляет примерно так же, как Католическая. Эту обличительную тираду Федорова (и другие аналогичные высказывания Федорова и Хомякова) легко проецировать на Православие.
К сомнительным сторонам хомяковского богословия Флоренский относит также критику католического учения о церковных Таинствах, равно как и критику протестантского учения о Богодухновенности Библии. Он был убежден, что «замена чисто юридических понятий понятиями социологическими, на которых зиждется все построение Хомякова, вовсе не доказывает еще истинности его учения, а доказывает только, что право и принуждение, – стихию романских народов, – он хочет вытеснить общественностью и родственностью, – стихиею народов славянских» (с. 24). «Это, может быть, и хорошо, – продолжает Флоренский, – но замена одной земной силы другою не решает вопроса: община как таковая вовсе не есть, сама по себе, приближение к Церкви». Тут, думается, Флоренский не только глубоко прав, но и оказывается провидцем; мы можем судить об этом, учитывая весь трагический опыт коллективизации в 1930-е годы, разворачивавшейся на селе параллельно с деятельностью «Союза воинствующих безбожников». Об этом до сих пор безмолвно вопиют поруганные храмы…
Отмечая двойственность Хомякова, Флоренский задается вопросом, основал ли он в действительности новую школу подлинно православного (а не католического и не протестантского) богословия или же учение Хомякова является утонченным рационализмом, «гегельянством», как несколько наивно выражались в свое время противники Хомякова. Следует помнить, что Флоренский отрицательно относился к рационализму, считая его системой «гибких и ядовитых» формул, разъедающих сами основы церковности.
Далее Флоренский вопрошает: был ли в действительности Хомяков верным охранителем самодержавия или, наоборот, являлся творцом наиболее опасной формы эгалитарности, то есть уравнительности? И наконец, третье вопрошание Флоренского: был ли Хомяков охранителем и углубителем корней Святой Руси или, наоборот, фактическим искоренителем ее традиционных основ во имя некоего мечтательного образа «проектируемой России будущего»?
Вопросы эти, поставленные очень остро, и в настоящее время не утратили своей чрезвычайной актуальности.
Флоренский отмечает, что совсем не случайны притязания на творческое наследие Хомякова не только со стороны М. Н. Каткова и позднейших славянофилов-государственников, но и со стороны народников и эсеров. Флоренский обращает внимание на чрезмерную эластичность хомяковских формул, «удобопревратимых, когда ими пользуется человек партии» (с. 16–17). Однако тут же он делает многозначительную оговорку, что отнюдь не имеет права и основания считать, что эти вопросы должны разрешиться в сторону, неблагоприятную для Хомякова; но то,что они должны быть поставлены, и в настоящее время в особенности, – в этом Флоренский не сомневается.
Упрекая Хомякова в отсутствии подлинно православного онтологизма, Флоренский считает, что теориям Хомякова свойствен несомненный привкус имманентизма. Здесь он, безусловно, расходится с Н. А. Бердяевым, книгу которого о Хомякове (А. С. Хомяков. М., 1912) считает, по сравнению с монографией Завитневича, гораздо более интересной, актуальной, но не вполне церковной и недостаточно обстоятельной.
Заслуживает особого внимания тот факт, что Бердяев откликнулся на рецензию Флоренского статьей «Идеи и жизнь. Хомяков и священник П. А. Флоренский» (Русская мысль. 1917. № 2. С. 72–81), в которой выступил на защиту Хомякова от упреков Флоренского в недостаточной православности и, в частности, от упреков в имманентизме.
Работу Флоренского «Около Хомякова» Бердяев охарактеризовал в целом как «крупное событие» и в то же время «настоящий скандал» в право-православном, славянофильствующем лагере. Не без преувеличения, впадая временами в пафос оракула-обличителя, ставя точки над i по собственному произволу, Бердяев заклеймил статью Флоренского как акт отречения от Хомякова. Со свойственной ему блистательной диалектикой и изобретательностью мысли Бердяев противопоставил Флоренского и Хомякова, с одной стороны, как апологета официального Православия, принуждения и покорности, с другой – как поборника духовной свободы и общественно-церковного либерализма. Замечательно и глубоко поучительно писал Бердяев: «И Хомяков, и Достоевский хотели видеть в русском народе такую свободу духа, Христову свободу, которой они не находили у народов Западной Европы. Священник Флоренский разрывает не только с Хомяковым, но и с Достоевским, он принужден искать иных истоков – в епископе Феофане Затворнике, в митрополите Филарете (Дроздове), в православии официальном… Он, именно он, – восклицает с неподдельным возмущением Бердяев, – отщепенец, изменивший заветам религиозной души, ея духовным алканиям, ея взысканиям Града Грядущего» (Указ. соч. С. 74). Здесь, думается, Бердяев не только впадает в присущий ему максимализм, но и не прав по существу. Гораздо больше оснований рассматривать статью Флоренского «Около Хомякова» не как антиславянофильский манифест, но лишь как критику отдельных моментов, которая отнюдь не подрывает авторитета старших славянофилов.
Впоследствии, уже в эмиграции, Бердяев произвел некоторую «переоценку ценностей», в частности смягчил свое пристрастное отношение к Флоренскому, который олицетворял для него «стилизованное православие». В «Русской идее», одной из последних своих работ, Бердяев пишет, что консервативность и правость Флоренского носили не столько реалистический, сколько романтический характер, положительно оценивает его борьбу с рационализмом в богословии и философии, в защиту антиномичности, а также постановку проблемы о Софии Премудрости Божией, о соотношении космической жизни и тварного мира (см.: Русская идея. Париж, 1971. С. 238–240).
В известной мере пересмотрел Бердяев и свою точку зрения относительно Флоренского и Хомякова. В своей малоизвестной рецензии на книгу графа Ю. П. Граббе «Алексей Степанович Хомяков» (Варшава, 1929) Бердяев как будто соглашается с Флоренским, когда пишет: «Хомякову была чужда мистическая сторона христианства… Боязнь магии искажала его понимание Таинств» (Путь. Париж, 1939. № 17).
В заключение следует сказать, что в оценке Хомякова как гениального мыслителя, в учении которого русская национальная мысль осознала себя, выразила своеобразие своих духовных исканий, Бердяев и Флоренский были солидарны. В то же время их взгляды почти совпадали в оценке того, что религиозное сознание Хомякова было отмечено печатью конфессионализма, было именно восточное, а не вселенское, оставалось чуждым идее христианского единства, было слишком радикально направлено против католического Запада, которому Хомяков отказывал даже в принадлежности к Церкви Христовой. Именно на этой почве, указывал Бердяев, выросли все грехи славянофильства (и неославянофильства, добавим мы). В этом его ограниченность, но в этом и диалектическая неизбежность развития любого национально-мессианского самосознания. Остановка на этой стадии без перехода к идее вселенского единства чревата рецидивами квазиправославного национализма, с проявлениями которого мы сегодня нередко сталкиваемся. Увы. В этом, на мой взгляд, один из парадоксов (если не сказать – пароксизмов) в эволюции славянофильства.









































