Текст книги "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1"
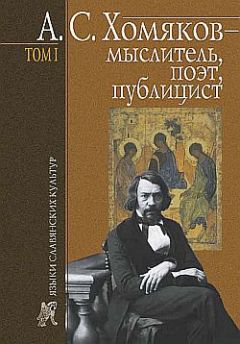
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Религиозные тексты, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 65 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Во-первых, хомяковской представляется сама идея о соборной природе человеческого сознания, применения экклезиологического термина, взятого из Символа веры – соборность, кафоличность христианской Церкви к области философской, к учению о познании. Сознание понимается здесь не как индивидуальная способность человеческой личности, но как универсальная или, говоря философским языком, трансцендентная реальность, в которой отдельный эмпирический человек участвует, к которой он причастен. Начать можно с самого подхода к истории философии, где конкретные философские (и не только философские) формы связываются с религиозным характером культуры. Это хомяковское изобретение стало в дальнейшем важнейшим методологическим приемом русской религиозной философии. Так, С. Н. Трубецкой отмечал, что идея личного сознания неотделима от протестантского субъективизма в целом: «Средневековая схоластика, так же как и греческая философия, не ставила прямо вопроса о личности сознания… логический и психологический принцип средневековой, точнее общехристианской мысли был шире исключительно протестантского субъективизма: ибо наряду с личным началом человеческого сознания признавалась, очевидно, и возможная соборность этого сознания» (стоит заметить, что на эту цитату обращает внимание Г. Шпет в статье «Сознание и его собственник» (1916) и в принципе с ней соглашается)[453]453
Шпет Г. Г. Философские этюды. М., 1994. С. 79.
[Закрыть]. «Сознание обще всем нам, и то, что я познаю им и в нем объективно, т. е. всеобщим образом, то я признаю истинным – от всех и за всех, не для себя только. Фактически я по поводу всего держу внутри себя собор со всеми»[454]454
Трубецкой С. Н. Сочинения. М., 1994. С. 495.
[Закрыть].
Тезис о соборности сознания, высказанный С. Н. Трубецким, является по своей сути хомяковским. Вот что писал А. С. Хомяков в статье «По поводу отрывков, найденных в бумагах И. В. Киреевского»: «Недоступная для отдельного мышления, истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью. Эта черта резко отделяет учение православное от всех остальных: от латинства, стоящего на внешнем авторитете, и от протестантства, отрицающего личности, от свободы в пустыне рассудочной отвлеченности». Именно слово «Любовь» оказывается здесь ключевым и для Хомякова, и для Трубецкого. Логичность и позитивность познания предполагают для Трубецкого лишь его «формальную соборность». Именно любовь сообщает этому познанию действенную конкретность: «…как признание реальности и причинности существ вытекает из возможной солидарности нашего сознания, так любовь есть деятельное осуществление этой солидарности» (588). Любовь, по Трубецкому, «является человеку сначала как инстинкт, затем как подвиг, наконец, как благодать», удивительно проявляя диалектику божественного и человеческого, восходящего и нисходящего в любви. Общество, скрепленное любовью и основанное на любви, – такова была мечта Трубецкого. Совершенная, божественная Любовь осуществима только в Церкви, но и земные организации в своем идеале должны стремиться к осуществлению «метафизического социализма». Не являлся ли таким воплощением соборной природы человеческого сознания Московский университет, которому Трубецкой отдал зрелые годы своей довольно короткой жизни и на посту ректора которого он отстаивал его автономию и умер? Хомяков также экстерном окончил физико-математический факультет Московского университета, а его дом на арбатской Собачей площадке собирал целый круг московских студентов, многие из которых составили потом цвет русской интеллигенции.
Не будем приводить здесь полный ряд аргументов, высказанных Трубецким в пользу тезиса о соборной природе сознания, но укажем на один из них, опять-таки в весьма значительной степени связанный с духом мысли Хомякова. Говоря о человеческой памяти и указывая на то, что феномен памяти шире сознания, что память включает в себя и чувственный опыт – причем не только отдельного человека, но и целых поколений и даже наций, Трубецкой выдвигает идею родовой памяти. Есть своеобразная взаимозависимость между личностью и родом: то, что приобретает личность в своем собственном опыте, становится достоянием рода, и напротив, сам личностный опыт организуется универсальными, родовыми формами.
В этих бесспорных словах – залог политической позиции братьев Трубецких, стремившихся к общественному идеалу благородного либерализма, мере и здравому смыслу в политике. Но ведь и Хомяков отнюдь не был охранителем и ретроградом, помышляя о будущем России, о ее гражданских свободах. Только эта свобода и на личностном уровне, и на уровне общественном была связана для него с той самой «родовой памятью», с нажитым отцами и дедами богатством веры и духа. «В оковах предания есть свобода, потому что внешняя жизнь уже готова для внутреннего духа; в свободе реформы есть рабский труд, потому что мысль должна себе создать внешние образы, заклейменные неизбежным произволом»[455]455
Хомяков А. С. Записки о Всемирной истории // Хомяков А. С. Собр. соч. Т. 3. М., 1871. С. 322.
[Закрыть].
И еще один момент философского преемства (они нами далеко не исчерпаны) стоит здесь отметить. Это воспринятое Трубецким у Хомякова (возможно, через Вл. Соловьева) философское употребление понятия веры, которая превращается в одну из познавательных способностей, необходимую и даже первоначальную данность цельного разума. По словам апостола Павла, вера – «уповаемых извещение, вещей обличение невидимых» (Евр. 11, 1). Во Втором письме к Ю. Ф. Самарину А. С. Хомяков дал такое определение веры: «Я назвал верою ту способность разума, которая воспринимает действительные (реальные) данные, передаваемые ею на разбор и сознание рассудка. В этой только области данные еще носят в себе полноту своего характера и признаки своего начала. В этой области, предшествующей логическому сознанию и наполненной сознанием жизненным, не нуждающимся в доказательствах и доводах, сознает человек, что принадлежит его умственному миру и что миру внешнему. Тут, на оселке воли, сказывается ему, что в его предметном (объективном) мире создано его творческою (субъективною) деятельностью и что независимо от нее»[456]456
Хомяков А. С. Второе письмо к Ю. Ф. Самарину // Хомяков А. С. Собр. соч. Т. 1. М., 1866. С. 327.
[Закрыть]. Вера, которая, казалось бы, могла быть отнесена в сторону субъективного элемента в познании, и дает по Хомякову отчетливое различение (с помощью воли) мира субъективного, внутреннего и объективного, не зависящего от человека. Именно такую функцию выполняет вера и у Трубецкого: «Вера, как неизбежный элемент нашего чувственного и рационального познания, имеет другой предмет, отличный от духа: она убеждает нас в реальности внешнего мира, в реальности предметов чувства и разума. Мы верим в реальность других существ вне нас, которые мы признаем либо на основании чувственного опыта, либо на основании логических умозаключений от такого опыта»[457]457
Трубецкой С. Н. Основания идеализма // Трубецкой С. Н. Сочинения. М., 1994. С. 663.
[Закрыть].
Две большие философские статьи С. Н. Трубецкого носят, бесспорно, приготовительный характер. В них даются контуры большого философского замысла, осуществить который философу было не суждено. Но и здесь есть удивительное сходство с Хомяковым. Его философские статьи и письма, таящие в себе буквально россыпь мысленных жемчужин, были написаны на закате жизни, как продолжение дела, начатого его умершим другом Иваном Киреевским. Они не составляют большой части в наследии Хомякова, считавшего себя прежде всего историком и жившего в мире религиозных систем и языковых этимологий. Этой части хомяковского наследия меньше всего повезло, его наиболее существенные работы по философии до сих пор не переизданы и, по сути, не востребованы современной культурой. Может, и к ним обратиться пора, чтобы получить неожиданные и живительные просветления среди запутавшихся философов-тугодумов, «держа внутри себя собор» со всеми родственными нам душами в прошлом русской культуры.
И. В. Дубинина, А. Д. Кожевникова, Д. А. Кожевников
Славянофильская традиция в творчестве В. А. Кожевникова
Владимир Александрович Кожевников (1852–1917) при жизни был мало известен русскому обществу, а по смерти разделил судьбу многих религиозных философов и богословов предреволюционной эпохи: труды его не переиздавались, даже имя упоминалось редко, в основном в перечислениях, в тени более знаменитых имен – П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, А. С. Хомякова, М. А. Новоселова.
Первое слово, согласно повторяемое многими, писавшими о Кожевникове, – ученый, «человек необъятной учености» (Бердяев). Современники удивлялись универсальности и основательности его знаний, но еще удивительнее было то, что Кожевников никогда никаких учебных заведений не оканчивал и дипломов не имел.
Владимир Александрович Кожевников родился 12 мая 1852 года в уездном городке Козлове Тамбовской губернии в состоятельной образованной купеческой семье потомственного почетного гражданина, получил прекрасное домашнее образование. Учебными пособиями для него служили труды Платона, Пифагора и Никомаха, Архимеда, Гиппарха и Птолемея, Аристотеля, Эвклида, Теофраста, Плиния и Диоскорида. В конце жизни Кожевников знал 14 языков, свободно владел восьмью. В Козлове в круг общения семьи входили Дуловы, Игумновы, И. В. Мичурин.
После смерти отца (мать потерял еще раньше) он вынужден был заняться финансовыми делами семьи и образованием двух младших братьев. Все это помешало ему получить университетский диплом: курс истории философии он прослушал как вольнослушатель Московского университета.
Хотя внешне жизнь Владимира Александровича была небогата яркими событиями, она обладала внутренним напряжением и целеустремленностью. В письме к Павлу Флоренскому он отмечал: «Интенсивность и разнообразие личных запросов, стремлений и переживаний были столь велики, что они постоянно усиленно просились вылиться наружу, и подавить это желание было мучительно трудно»[458]458
Письмо Владимира Александровича к П. А. Флоренскому // Вопросы философии. 1991. № 6.
[Закрыть].
Будучи обеспеченным человеком, Владимир Александрович никогда не состоял на государственной службе, являя собой едва ли не единственный для России пример независимого ученого. Он хорошо разбирался в музыке и живописи, много путешествовал (страны Европы, Аравия, Алжир, Тунис, Палестина), работал в крупнейших книгохранилищах Европы, занимался благотворительной деятельностью. Был женат на Анне Васильевне Андреевой, выпускнице Московской консерватории по классу фортепианной игры проф. В. И. Сафонова.
Он пристально следил за западноевропейским книжным рынком, был в тесном контакте с крупнейшими западными антиквариатами, собрал уникальную коллекцию ценнейших и редчайших монографий по духовной жизни древности, раннего христианства, Средних веков, эпохи Возрождения. Свою богатейшую библиотеку (десять тысяч томов) он завещал книжному собранию Румянцевского музея (ныне РГБ). Уже с 1881 года Кожевников периодически передавал в фонды музея различные издания – научные труды и архив своего рано умершего младшего брата-ботаника, каталоги художественных галерей, математические труды и др.
При всей универсальности интересов Кожевникова в нем как толкователе и ценителе явлений культуры совершенно не было того, что о. Павел Флоренский называл «идейной безродностью и культурным самочинием». Его вкусы отличались некоторой консервативностью и привязанностью к русской национальной традиции. Осознание своих исторических корней, острое чувство связи прошедшего с настоящим, любовь к русской культуре – при широкой европейской просвещенности – делали Кожевникова «носителем славяфильской и даже старомосковской» культурной традиции.
В начале 1900-х годов произошло сближение Кожевникова с кругом московских славянофилов (М. А. Новоселовым, Ф. Д. Самариным и др., позже – С. Н. Булгаковым и П. А. Флоренским), которое определило направление его дальнейшей жизни и деятельности. При его участии (вероятно, и денежном) Новоселовым было организовано издание «Религиозно-философской библиотеки», он с самого начала был постоянным членом «Кружка (или Общества) ищущих христианского просвещения», активным участником чтений для учащейся молодежи. Постепенно вокруг этого издания сложился круг лиц, который назвал себя «Обществом ищущих христианского просвещения». Общество находилось под покровительством еп. Феодора (Поздеевского) и духовно окормлялось старцами Зосимовской пустыни во главе со схимонахом Германом.
Вот список выявленных членов общества: М. А. Новоселов, Ф. Д. Самарин, о. Павел Флоренский, С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн, В. А. Кожевников, кн. Г. Н. Трубецкой, Ф. К. Андреев, Л. А. Тихомиров, прот. Иосиф Фудель, В. Свенцицкий, П. Б. Мансуров, А. С. Глинка-Волжский, С. А. Цветков.
«Возглавителями» кружка были M. А. Новоселов, которого друзья называли «авва Михаил», и Ф. Д. Самарин. Роль последнего в Обществе была велика. Он был племянником одного из столпов раннего славянофильства Ю. Ф. Самарина и нес в себе живое предание славянофильства. Федор Дмитриевич и его брат Петр Дмитриевич были живыми свидетелями заката славянофильства «золотого века», благоговейно относились к памяти дяди, были хранителями его рукописного наследия и бережными его издателями. Более того, их внешний и внутренний облик нес в себе дыхание той эпохи. О. Павел Флоренский следующим образом оценивал значение Ф. Д. Самарина для Общества:
Но для нас этот авторитет его был еще укреплен и усилен историческим местом Феодора Дмитриевича – именно местом его в истории славянофильства. Когда-то юнейший из старых, он стал потом старейшим из молодых. Этим определилось его особое значение для нас. Соборность сознания, этот важнейший член славянофильского исповедания, во времени являет себя как преемство. И если преемство мысли и культуры вообще есть для славянофильства один из основных признаков подлинной культуры, то преемство самого славянофильства не может не быть в этом понимании жизни непременным требованием, почти критерием истинности. Живое предание славянофильства явилось нам в лице Феодора Дмитриевича. Из его рук мы, внуки, получали нить, связующую с славянофилами-дедами, с славянофильством золотого века[459]459
Федору Дмитриевичу Самарину 23 октября 1916 года от друзей. Сергиев Посад, 1917. С. 15–16.
[Закрыть].
Но, как писал Николай Арсеньев, «главной вдохновляющей силой Общества» был Владимир Александрович Кожевников. По словам Арсеньева, Кожевников был одним из самых выдающихся ученых, с которым я вообще имел дело в своей жизни, человеком огромных знаний, сильной и пытливой научной мысли, талантливым, глубоко самостоятельным исследователем, прямо поражающем ширью своего захвата и из ряда вон выходящей эрудицией – не той, которой довольствуются заурядные ученые, а более вглубь идущей, основанной на умении пытливо искать и находить все новые и новые данные, характеризующие предмет или данную эпоху. <…> Он был серьезным специалистом в самых различных областях, как, например, в области истории религий, которая была особенно близка его сердцу. Еще в юности он написал серьезнейшее исследование, основанное на самостоятельном изучении первоисточников, о религиозной жизни римского общества во II и III веках нашей эры; под старость он написал огромный двухтомный труд «Буддизм и христианство». Все более или менее значительные исследования и монографии из этой обширной области были ему хорошо знакомы, особенно все, что касается эпохи эллинизма и религиозной истории Индии, а также религиозной жизни и всей духовной культуры Средних веков. Далее, он был выдающимся специалистом по истории итальянского Возрождения.
Огромное исследование по культуре Ренессанса, и особенно по истории его эстетических идеалов, лежало у него готовым в 14 рукописных томах, но так и осталось ненапечатанным. Он был также большим знатоком идейных и философских течений XVIII века, в особенности тех, которые шли вразрез с господствующим в этом веке рационализмом. Им было напечатано обширное, исследование (в 700 убористых печатных страниц) о «Философии чувства и веры» Фрица Якоби. Но чтобы верно воспроизвести тот философский задний фон эпохи, против которого восставала философия Якоби, он не ограничился ссылками на руководящих философов или на исследования и монографии, характеризующие то время. Он сам по первоисточникам проделал интересную, хотя и неблагодарную работу – восстановить «философское лицо» эпохи по ее средним представителям, по всем тем многочисленным популярным философам-рационалистам, главным образом вольфианского направления, которые читали в многочисленных тогдашних германских университетах. Но Кожевников эту работу проделал и начертил яркую картину идей эпохи, той и идейной мещанской мелкоты и умственного бескровия, против которого боролся Якоби.
Кожевников был крупным богословом, знатоком истории древней церкви и трудов святых отцов; он особенно хорошо знал мистико-аскетическое богословие не только великих учителей восточной церкви, но и мистиков христианского Запада, занимался сравнительным изучением аскетических идеалов и написал небольшую, но чрезвычайно ценную и насыщенную знанием книжку об истории христианского аскетизма.
Зимой 1913 года М. А. Новоселов, Ф. Д. Самарин и В. А. Кожевников Советом Московской духовной академии избраны и Святейшим Синодом утверждены в звании почетных членов МДА. Представления к избранию написаны о. Павлом Флоренским (о М. А. Новоселове и В. А. Кожевникове) и Ф. К. Андреевым (о Ф. Д. Самарине)[460]460
См.: Из Академической жизни. I. Избрание новых почетных членов МДА // Богословский вестник. 1913. С. 863–871.
[Закрыть]. Эти избрания были, в том числе, свидетельством и заслуг Общества. Ф. Д. Самарин в письме о. Павлу Флоренскому в 1913 году сообщал: «Я вполне сознаю, что не имею никаких прав на это почетное звание и обязан избранием лишь имени, которое ношу, и благосклонному отношению ко мне преосвященного Феодора, а также, может быть, моему скромному участию в Новоселовском кружке, которому хотели оказать внимание»[461]461
Переписка Ф. Д. Самарина и свящ. П. А. Флоренского. С. 263–264.
[Закрыть]. В целом же избрание было свидетельством высоких заслуг членов Общества перед Церковью Православной: «Этим избранием совет Моск. Дух. Академии заявил, что он ценит и ставит высоко заслуги указанных работников на поле церковном»[462]462
Из Академической жизни. С. 863.
[Закрыть].
Дружеское единение Общества было воплощением идеи соборности и подобно духовному родству первоначальных славянофилов. Об этом можно судить по письму о. Павла Флоренского к В. В. Розанову от 7 июня 1913 года:
Конечно, московская «церковная дружба» есть лучшее, что есть у Нас, и в дружбе это полная coincidentia oppositorum. Все свободны, и все связаны; все по-своему, и все – «как другие». Вы пишете о «новом» в богословии, что внесено нами, но к перечисленным Вами лицам не забудьте добавить Новоселова и Булгакова, Самарина и др., не выступающих в литературе, но мыслящих оригинально и соучаствующих в общей работе разговорами, советами, дружбой, книгами и т. п. Весь смысл московского движения в том, что для нас смысл жизни вовсе не в литературном запечатлении своих воззрений, а в непосредственности личных связей. Мы не пишем, а говорим, и даже не говорим, а скорее общаемся. Мы переписываем, беседуем, пьем чай; Новоселов ради одной запятой в корректуре приезжает посоветоваться в Посад или вызывает к себе в Москву. Но это не Флоберовские запятые, да удивляется им потомство, а искание поводов к общению. Вас удивляет отсутствие зависти. Но ведь у нас друг к другу не может быть зависти, ибо почти все работается сообща и лишь небольшая часть работы в том или другом случае падает на того или другого. Дело другого, скажем Новоселова, Булгакова, Андреева, Цветкова и т. д. и т. д., для меня и для каждого из нас – не чужое дело, не дело соперника, которое «чем хуже – тем лучше», а мое дело, отчасти и мое. В совершенстве его заинтересованы все, как и успех относят часто и к себе. Поэтому естественно, что каждому хочется вплести в это гнездо хоть одну и свою соломинку, исправить хоть одну ошибку в корректуре или чем-нибудь помочь. В сущности фамилии «Новоселов», «Флоренский», «Булгаков» и т. д., на этих трудах надписываемые, означают не собственника, а скорее стиль, сорт, вкус работы.
«Новоселов» – это значит, что работа выполняется в стиле Новоселова, т. е. в стиле «строгого Православия», немного монастырского уклада; «Булгаков» – значит в профессорском стиле, более для внешних, апологетического значения и т. д. Вы нередко удивлялись, как я мало работаю, т. е. выпускаю в свет. А между тем я ведь сижу целый день. Но время уходит на корректуру одному, исправление перевода другому, подыскание справок третьему, обширное письмо четвертому, разговор – с пятым, выслушание какой-нибудь статьи или плана работы шестому и т. д.[463]463
Цит. по: Игумен Андроник.(Трубачев). Священник Павел Флоренский – профессор МДА… С. 304.
[Закрыть]
Мысль о соборном поиске истины, в котором отступает на задний план личное начало, о. Павел Флоренский развил в своем выступлении на заседании «Братства Святителей московских» 1 декабря 1916 года, посвященном памяти Ф. Д. Самарина:
Современная литература изобилует, как известно, плагиатами, выдаванием чужого за свое. Но в древней письменности было распространено явление обратное – псевдоэпиграфы, когда свое выдавали за чужое. Мне думается, что если понятия плагиата и псевдоэпиграфа расширить и разуметь их не как законченные дела, а как деятельности и как стремления, то любое литературное произведение можно причислить к одному из этих двух родов: все, что не псевдоэпиграф, – то плагиат. И, переходя от произведений к их творцам и далее к людям вообще, можно сказать, что в смысле стремлений есть люди-плагиаты и есть люди-псевдоэпиграфы.
Там, где средоточием внимания бывает «я», правда неизбежно делается одним из средств к процветанию «я», одним из его украшений. Важно не то, что нечто – истина, а то, что оно – моя истина. Если ударение поставлено на моя, то дальше неизбежно и стремление выдавать всякую истину за свою.
Совсем наоборот бывает при сосредоточении внимания на правде. Если ударение и поставлено именно на ней, то делается мало интересным, чья это правда; а далее, при углубляющемся сознании, что правда не может быть чьей-нибудь, а что познается она – сознанием соборным, чувство собственности в отношении к правде замолкает. Так возникает псевдоэпиграф, т. е. условное отнесение познания к любому лицу, только не к себе; так возникает и нравственная спутница псевдоэпиграфа – скромность[464]464
Федору Дмитриевичу Самарину… С. 12–13.
[Закрыть].
Эти идеи способны помочь по-новому взглянуть на индивидуальное творчество членов Общества.
В обширном научном наследии Кожевникова особое место занимает книга «Н. Ф. Федоров. Опыт изложения его учения по изданным и неизданным произведениям, переписке и личным беседам» (M., 1908). Этот труд, в котором Кожевников, по мнению С. Н. Булгакова, настолько сумел с Федоровым «слиться и заслониться его тению, что поистине не знаешь, где кончается один и начинается другой…» Однако стиль Кожевникова заметно отличается от стиля Федорова. Его книга до сих пор является самым авторитетным и надежным источником для знакомства с личностью и идеями оригинального русского мыслителя. «До сих пор меня отвлекала довольно упорная работа над окончанием моей книги об учении Ник. Фед. Федорова: для укрепления его мыслей об активном мировоззрении и об управлении природою пришлось делать экскурсы в область новейших естественно-исторических и даже математических теорий, и эта ответственная работа потребовала немалого напряжения мысли и некоторой подготовки в соответствующей литературе»[465]465
Из письма В. А. Кожевникова к Ф. Д. Самарину (1905–1913) // НИОР РГБ. Ф. 265. К. 191. № 4.
[Закрыть].
Одним из порождений пессимистического настроения последних десятилетий надо признать учение о преступной толпе, точнее – о понижающем и развращающем влиянии, которое оказывает на нравственное достоинство человеческой личности ее общение с народною массой, с толпою и самое настроение толпы.
Таким образом, утверждать, что сообщество людей всегда или почти всегда влияет принижающе или развращающе на личность, значит клеветать на человечество, произносить хулу на согласие.
Слишком смелые перехватки и ошибочные обобщения учения о преступной толпе объясняются его происхождением. Учение это – всецело создание западной философской мысли, и возведено оно на почве фактов, взятых из истории западных народов; равным образом и в своих новых психологических наблюдениях оно ограничилось данными общественной психологии современного западного строя. Забыта целая половина человечества и его половина истории: восточная, русская, православная – пробел огромный, непозволительный в будто бы научном исследовании! Положим, даже и на Западе сплочение единиц в крупную массу и массовое движение не всегда влияли понижающим образом на рассуждения, чувства и волю людей: иначе пришлось бы забыть или исказить то, что было благородного в крестовых походах, во францисканском движении XIII века и в других менее крупных событиях. Но допустим даже, хотя и с большой натяжкою, что учение о преступной толпе в значительной степени верно для Запада. Следует ли из этого, что оно одинаково применимо и к Востоку, к прошлому русского народа и к его настоящему? И на Востоке, и в России, бесспорно, были сходные с западными и свои, самобытные, ничуть не лучшие случаи проявления преступности толпы. Но, слава Богу, было место и другому явлению, противоположному, и притом (что особенно важно) не в качестве исключения, а, скорее, как правило.
Где, как не в русском народе, искони были особенно сильны родовые, общинные связи и права, «мирские» чувства и «мирские» обязанности? Расовые инстинкты славянского племени, предания старины, природные условия страны и климата; отовсюду открытое для врагов необозримое пространство, необъятная длина порубежной, сторожевой линии, пустынность степей, глушь дремучих лесов, дебри и топи полуночного края, суровые, долгие зимы при кратком лете, наконец, непрерывный ряд народных бедствий, глады, моры, нашествия иноплеменных – все, все на Руси более чем где-либо побуждало по необходимости и по долгу, сплотив силы, напрягать их в дружном, могучем порыве для общего дела, для спасения общежития, вне которого человеческая единица, всегда и всюду малосильная, здесь в особенности становилась беспомощною, обреченною почти на неизбежную гибель. Правда, междоусобная рознь была исконным грехом древней Руси, но грехом, за который она и несла непрестанное, тягчайшее наказание, в большей мере, нежели какая-либо другая страна. Грех раздора, то, что предки наши называли «разностию, неодиначеством и неимоверством» или просто «нелюбием», нигде не влек за собою столь быстрой грозной кары, как в стране, и природою, и судьбою понуждаемой помнить истину: «Друг к другу пособляя и брат брату помогая, град тверд есть». И столь часто, столь пламенными, кровавыми чертами отражалась эта истина на жизни частной и государственной, что убеждение в ее непреложности вошло в плоть и кровь народного древнерусского сознания.
Если ценны все проявления народного согласия, на благо направленного, то в особенности священны должны быть те памятники народного единодушия, где это братское чувство, это основание всех добродетелей человеческого общежития сказалось с безупречною чистотой. Такими памятниками должны быть признаны храмы, превосходившие другие проявления совокупного народного труда своей полною добровольностью и полным бескорыстием. Здесь исчезали последние остатки принуждения, с одной стороны, и расчета – с другой; братски, по доброй воле подъятый народным множеством труд был здесь нечто само себе довлеющим, всецело нравственным и благочестивым. Отсюда отличие этих скромных, не больших и не блестящих храмов православной Руси от огромных и пышных храмов Востока и Запада.
Мысль об «общем идеале» выражена в статье В. А. Кожевникова «О задачах русской живописи»: «Русское искусство, если оно хочет быть жизнеспособным и влиятельным, не должно подменять своего <…> ярко-национального и народного характера <…> бесцветно-подражательным космополитизмом» (М., 1907. С. 4). Народный, национальный характер русской культуры, в понимании Кожевникова, немыслим вне православия. Не реализм сам по себе, не простое «обличение общественных язв», а в соединении с «умилением» и жалостью, побуждающими к помощи и спасению, то есть с религиозной идеей, изображение не одной «мерзости запустения на месте святе», но и русской святыни, ее подвижников – в этом видел Кожевников задачу русской живописи. Знаменательна концовка статьи: на картине К. А. Савицкого «Крючник» изображен мужик – как бы образ всего русского народа. Что сдерживает его почти животную силу? – Медный крестик на груди. «Прогляди художник одну эту подробность, – пишет Кожевников, – в его величавом типе не хватило бы существенного: остатка души, еще оживляющей исстрадавшуюся, распадающуюся громаду нашей Родины».
Во время революции 1905 года Кожевников входил в «Кружок москвичей» (консервативно-монархического славянофильского направления), участвовал во Всероссийском Съезде русских людей (апрель 1908, Москва), в составлении «Записок» по аграрному вопросу и по избирательной системе от «Кружка москвичей», участвовал в газете того же направления «Московский голос».
Не будучи «публичным» человеком, в предреволюционную пору всеобщего разброда и озлобления Кожевников не мог оставаться в стороне от подлинно соборного единения людей, преследующих цель сплочения разлагающегося общества.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































