Текст книги "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1"
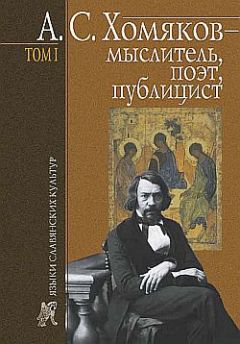
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Религиозные тексты, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 65 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
В годы опалы, после воцарения Александра III, суждения Константина Николаевича становятся особенно созвучны и близки давним высказываниям родоначальников славянофильства. Предвидение грядущего «переворота» и страшных общественных потрясений – все это не раз встречается на страницах откровенных писем великого князя к Головнину. Константин Николаевич противопоставлял русское общество «петербургскому правительству», которое «России не знает, России не понимает», «идет по фальшивой дороге, которая неминуемо приведет к ужасающим последствиям»[371]371
Там же. Ед. хр. 1118. Л. 45 об.
[Закрыть]. Земство – начало «не заморское, а вполне русское»[372]372
Там же. Л. 130 об. – 131.
[Закрыть] – он рассматривал в качестве главной общественной силы, способной взять в свои руки будущую судьбу страны. Власть на местах, по мысли великого князя, должна быть отнята у своекорыстной бюрократии и передана деятельным представителям образованного общества – бессословной интеллигенции, хорошо знающей нужды своего уезда, губернии, города: «Благо, что мы имеем земство, которое заключает или должно заключать в себе всю местную интеллигенцию. К ней надо обратиться, к ее содействию. Единственно этим средством можно было бы обновить, оживить местную администрацию и отделаться от всепожирающего чиновничества. В этом и исключительно в этом я вижу будущность России»[373]373
Там же. Л. 72–72 об.
[Закрыть].
Однако вера в спасительность «земщины» перемежалась у великого князя с мучительными сомнениями. М. Е. Салтыков-Щедрин, его любимый писатель, в своих «Письмах к тетеньке» с присущей ему злой иронией развенчивал подобные надежды. Земские воротилы представлялись наблюдательному литератору достойными продолжателями чинуш николаевского времени, Константина Николаевича охватывало отчаяние. «Великим реформам» и великим иллюзиям прошлого наступал конец, своего места в ожидавшем Россию будущем великий князь не находил. «Щедрин, – писал он из Парижа в конце 1881 года, – как будто угадывая, в чем мои мысли заключаются, выливает вдруг на них ушат холодной воды. Он делает параллель между старыми Сквозниками-Дмухановскими, Держимордами и будущими земскими деятелями или дельцами, и выходит, что из двух зол старое чуть ли не менее скверно – и горько и гадко! <…> Но если нельзя выезжать ни на чиновничестве, ни на дворянстве, ни на земстве, то где же искать те элементы, которые могут спасти Россию! Что же тогда остается делать? <…> Я вижу, что я увлекался несбыточными идеалами, другими словами, что я опять-таки человек, переживший свой век и в теперешние обстоятельства более уже не годящийся. Действительно, я лишний человек для России. Если б какая-либо неведомая сила меня бы вдруг перенесла назад, на берега Невы, – что бы я мог там делать, на что был бы годен и полезен, <…> коль скоро Держиморды даже лучше теперешних земцев, а идеалы мои распадаются как призраки». Но, вспылив, Константин Николаевич через некоторое время вновь возвращался к своей мечте о полноправном земстве – «среде бессословной или всесословной, заключающей в себе все жизненные силы России». В земстве опальному великому князю виделись «надежды лучшего будущего» и «вся будущность возрожденной России»[374]374
Там же. Л. 144–145 об.
[Закрыть].
С начала 1870-х годов великий князь являлся фактическим главой Петербургского отдела Общества любителей духовного просвещения. Вместе со своим адъютантом – видным славянофилом А. А. Киреевым, занимавшим должность секретаря правления, он многое сделал для установления связей между православной церковью России и старокатолическим движением Западной Европы. Целью Общества стало содействие переходу старокатоликов, осудивших папизм и его догматы, в лоно православия. Это должно было укрепить духовное влияние русской церкви на Западе, способствовать распространению там православия. В последние годы жизни Константина Николаевича его мировоззрение приобретает сильнейшее «религиозное, христианское направление»[375]375
РГАВМФ. Ф. 224. Оп. 1. Ед. хр. 353. Л. 29.
[Закрыть]. Претерпев многие семейные невзгоды, он посвятил оставшиеся у него жизненные силы, волю и энергию постройке церкви Покрова в своем крымском имении – Ореанде. Рассуждение о вере в устах пожилого человека звучало иначе, чем у вдохновенного юного царевича. Вот эти по-житейски простые слова: «Странное дело Вера!!! Ведь материально она ничего произвести не может. Совершившегося факта она не может изменить. <…> Покоряемся ли мы Воле Божией или не покоряемся, это все равно, Она все-таки совершается совершенно помимо нашей воли. И несмотря на то, в Вере, в молитве, в Причастии есть какая-то непонятная нам сила, действительно успокаивающая и утешающая, которую материально объяснить невозможно, но которая есть. И горе несется легче, и жизнь живется спокойнее и тише!»[376]376
ГАРФ. Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 1124. Л. 39.
[Закрыть].
Итак, великий князь Константин Николаевич пережил многие учения, надежды и заблуждения людей своего поколения. Не склонный к скрупулезной разработке политических и нравственных доктрин, он основывался в своей деятельности на представлениях о здравом смысле и государственном интересе – с одной стороны; и о вере, справедливости и патриотизме – с другой. Эти представления были свойственны ему как сыну императора Николая I, брату царя-освободителя, христианину и человеку, любящему свою Отчизну. Мировоззрение великого князя, лишенное всякой ортодоксальности, можно назвать «либеральным» лишь при соответствующей трактовке «либерализма» как понятия – применительно к России времен «Великих реформ». Невозможно согласиться с В. В. Леонтовичем и другими исследователями русского либерализма, характеризовавшими его как течение западническое, лишенное каких-либо русских национальных корней. Анализ социальных и духовных начал в мировоззрении «либерального» великого князя наглядно свидетельствует о невозможности объяснить данный исторический феномен вне русской самобытности, вне «светлой мысли благодати» А. С. Хомякова и других славянофилов.
А. А. Попов
Влияние А. С. Хомякова на формирование философских воззрений Ю. Ф. Самарина
В биографии А. С. Хомякова заслуживает особого внимания период начала 40-х годов XIX века, когда начался процесс формирования учения славянофильства. Ему, как основателю этого течения русской мысли, необходимо было привлечь новых сторонников. Многие приходили к славянофильству в результате сложной внутренней борьбы, долгих дискуссий со своими оппонентами и постепенного отказа от прежних воззрений.
Проблема влияния Хомякова на своих будущих соратников актуальна и для понимания становления его собственных воззрений. Вопрос о том, как Хомяков «становился» славянофилом, может быть исследован именно после рассмотрения споров между ним и его будущими единомышленниками. Многие идейные положения, легшие в основу его аргументации в этих спорах, затем использовались им в своих философских и богословских сочинениях. Г. Флоровский писал о своеобразии формирования воззрений Хомякова, что «его мысль развивается и даже впервые становится всегда именно в разговоре, в споре ли или в наставлении, но всегда в каком-то обмене и размене мнений»[377]377
Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 271.
[Закрыть]. В воспоминаниях современников и друзей Хомякова обращалось внимание на его пристрастие к различного рода спорам, которые велись в духе бесед Сократа. Его талант «прирожденного диалектика» – побеждать в спорах – считался непревзойденным. Даже такой искушенный полемист, как А. И. Герцен, видел в нем наиболее опасного оппонента.
Знакомство Хомякова с Ю. Ф. Самариным произошло в начале 40-х годов XIX века. Их дружба была основана не только на идейном единстве, но и на близких человеческих отношениях, постоянном интересе друг к другу.
Для Хомякова единственным человеком, с кем он мог поделиться такими сложными переживаниями своей жизни, как болезнь и смерть жены, был Самарин. Ко всему прочему он видел в нем человека, который может благодаря своей способности к практической деятельности в общественной жизни принести большую пользу славянофильству.
В начале 40-х годов XIX века для идейно-теоретического развития Самарина была характерна постепенная эволюция в направлении зарождающегося славянофильства. Он, как многие российские последователи Гегеля, постепенно отказывался от идейных построений немецкого философа, когда увидел чужеродность идей последнего для российской почвы. Одни нашли для себя новых учителей в лице Фейербаха и западноевропейских социалистов, другие обнаружили «пророка в своем Отечестве» в лице Хомякова. Авторитет Хомякова для Самарина был настолько велик, что он называл его учителем Церкви.
Важным моментом в жизни Самарина, который впоследствии повлиял на его идейную эволюцию и переход в лагерь славянофилов, были лекции М. П. Погодина, которые он слушал во время учебы в Московском университете. Известный русский историк сумел убедить своих студентов в том, что западные теории неприменимы к объяснению русской истории. В те годы Самарин был всецело увлечен философией Гегеля, и все, о чем он писал, имело в своей основе философские положения немецкого мыслителя.
В первой половине 40-х годов XIX века Самарин работал над магистерской диссертацией «Стефан Яворский и Феофан Прокопович». Этим объясняется его пристальное внимание к вопросам философии и богословия, однако в то время расхождения его взглядов с идеями зарождавшегося славянофильства были очевидными. Он не соглашался с Хомяковым, который стремился выявить полноту славянского духа на основе изучения всего многообразия культуры и исторического опыта славянских племен. Россия, по мнению Самарина, является целью и результатом развития всех славянских народов, только в ней можно найти сосредоточие и всю полноту славянского духа. Россия должна осознать себя только в себе самой.
Другое расхождение во взглядах Самарина и Хомякова в эти годы заключалось в том, что роль науки рассматривалась основателем славянофильства как второстепенная по отношению к вопросам общественной жизни. Самарин, в свою очередь, считал, что наука должна быть в особом положении и не может находиться в зависимости от религии и политики. В своих рассуждениях о науке он подразумевал главным образом философию, а под философией – учение Гегеля. Вопросы религии тогда для Самарина являлись второстепенными. «Я думаю, что если наука существует как отдельная от искусства и религии сфера духа, то она должна быть сферою высшею, последним моментом развития идеи»[378]378
Самарин Ю. Ф. Соч. М., 1911. T. 12. С. 131.
[Закрыть].
«Православие, – писал он в одном из своих писем в 1842 году, – явится тем, чем оно может быть, и восторжествует только тогда, когда его оправдает наука, что вопрос о Церкви зависит от вопроса философского и что участь Церкви тесно, неразрывно связана с участью Гегеля. Это для меня совершенно ясно, и потому с полным сознанием отлагаю занятия богословские и приступаю к философии»[379]379
Там же. С. 99–100.
[Закрыть]. При всем уважительном отношении к взглядам Гегеля Самарина не устраивала его философия религии. Он стремился дополнить ее собственными положениями, где раскрывалось своеобразное положение Православия по сравнению с католичеством и протестантизмом. Спор между ними нельзя разрешить, оставаясь в сфере религии, – по его мнению, он должен быть перенесен в область философского знания. Православие, согласно воззрениям Самарина, является верой, где нет односторонностей, характерных для других религий. Так, католицизм стремится к исключительности, являясь одновременно и наукой, и государством. Протестантизм, признавая свободу науки и государства, отрицает не только исключительность Церкви, но и Церковь в целом. Сознавая себя только Церковью, Православие не является ни наукой и ни государством. Таким образом, одним из главных доказательств истинности Православия является, по Самарину, невмешательство веры в дела науки и государства. Если эта взаимосвязь претерпит изменение, то преимущество Православия перед католицизмом и протестантизмом будет потеряно.
Решая религиозные вопросы, Самарин стремился остаться в пределах философского исследования, способного провести границу между разумом и верой. Религия в свою очередь должна быть признана вечноприсущим моментом в развитии духа, тогда как высшим моментом его развития является философия. В философии религии Самарин старался соответствовать основным положениям гегелевской диалектики, выделяя два нераздельных аспекта церковности: таинства и догматику. В Церкви, как в школе таинств, не допускается никакое развитие, изменяются только догматы. Формирование стройной системы догматов является свидетельством развития Церкви. Данная сторона церковности, хотя и проявилась позднее, однако по сравнению с таинствами занимает более значительное место, поэтому Вселенский собор является высшей ступенью в развитии Церкви. Это развитие должно быть постоянным. Из него необходимо исключить лишь элемент личного произвола.
Несмотря на результаты собственных философских исканий, Самарин понимал всю их неубедительность и неопределенность. Внутренняя борьба, которая происходила в нем, требовала ясности в ответах на поставленные вопросы. Выходом из этого кризиса стали для него идеи, которые были сформулированы Хомяковым. Один из главных вопросов касался необходимости примирения жизни и науки. Хомяков считал, что человек не может отступиться от требований науки и для всякого развития выводы науки необходимо принимать во внимание. При существующем раздвоении между наукой (анализом) и жизнью (синтезом) необходимо обратиться к анализу, ибо синтез сам себя проверить не может. От этой проверки зависит возможность примирения между наукой и жизнью.
Другим важным аспектом системы аргументации Хомякова является положение о том, что ошибка науки заключается в смешении сознанного и признанного. Данный недостаток заметен, по его мнению, не только в философии Гегеля, но и у Шеллинга. В научном исследовании, рациональном по самой своей сути, главное место отводится формальной логике, которая не в состоянии оперировать такими понятиями, как «добро» и «зло». Преодолеть эту ограниченность может только религия, для которой «добро» и «зло» являются основополагающими принципами ее существования.
В вопросах веры Хомяков руководствовался тем положением, что она «есть крайний предел человеческого знания, в каком бы виде она не являлась: она определяет собой всю область мысли»[380]380
Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1900. Т. 6. С. 251.
[Закрыть]. В то же время он был далек от отрицания роли философии. «Никому в голову не приходит, – писал Хомяков, – что сама практическая жизнь есть только осуществление отвлеченных понятий (более или менее осознанных) и что самый практический вопрос содержит в себе отвлеченное зерно, доступное философскому определению, приводящему к правильному разрешению самого вопроса»[381]381
Там же. М., 1900. Т. 1. С. 287.
[Закрыть]. В трактовке соотношения понятий «вера – философия – жизнь» Хомяков разделял мысль И. В. Киреевского, что «философия есть не что иное, как переходное движение разума человеческого из области веры в область многообразного приложения мысли бытовой»[382]382
Там же. М., 1914. Т. 3. С. 240–241.
[Закрыть].
В отношении к вере у Самарина, по словам Хомякова, недоставало любви, без которой сущность христианства не может быть понята. Из-за этого в его диссертации нераскрытой осталась созидательная сторона веры, которая преобразила всю историю человечества с момента принятия христианства. Основное внимание в работе было уделено полемике с католичеством и протестантизмом. В диссертации Самарина, писал Хомяков, «нет любви откровенной к Православию. Тайник жизни и ее внутренние источники недоступны для науки и принадлежат только любви»[383]383
Там же. М., 1900. Т. 12. С. 240.
[Закрыть]. Познание божественных истин дано лишь взаимной любви.
В своих богословских рассуждениях Хомяков всегда оставался верен древнейшей отеческой традиции. Из источников, способных повлиять на его религиозные воззрения, исследователи чаще всего выделяют работы западного богослова Меллера, в которых Хомяков вполне мог обратить внимание на такое определение кафоличности, как единство во множестве и непрерывность общей жизни.
На протяжении всей жизни Хомяков занимал последовательную позицию, согласно которой в богословии окончательная система не дана и невозможна. «To, что вся Церковь высказала, тому веровать безусловно. Знать, что она когда выскажет, будет безусловно истинно, но что она еще не высказала, того за нее не высказывать авторитетно, а стараться уразуметь со смирением и искренностью, не признавая, впрочем, над собою ничьего суда, покуда Церковь своего суда не изрекла»[384]384
Там же. С. 134.
[Закрыть]. Благодатная действительность, по Хомякову, явлена и открыта в непогрешимом и непреложном опыте Церкви. Сама Церковь – это «не доктрина, не система и не учреждение. Церковь есть живой организм истины и любви, или точнее – истины и любви, как организм».
Хомяков был убежденным волюнтаристом, для которого понятие «волящего разума» в сознании человека значило чрезвычайно много. Он стремился повлиять на Самарина, которому, по его словам, необходимо принять систему славянофильских воззрений в целом, что приведет его к новому взгляду на историю, искусство, право. Хомяков писал Самарину, что в этом случае отдельные выводы «сольются для вас в одну общую гармонию, в один общий вывод освобожденной жизни»[385]385
Там же. М., 1900. Т. 8. С. 245.
[Закрыть]. Однако главное изменение должно произойти в отношении к Православию, познание веры возможно только изнутри, жизнь духа подвластна только верующему члену Церкви.
Цель славянофильского учения, по мнению Хомякова, двояка: оно должно не только сформироваться в теории, но и реализоваться на практике. «Наша эпоха, может быть, по преимуществу зовет и требует к практическому приложению. Вопросы подняты, и так как это вопросы исторические, то они могут быть разрушены не иначе, как путем историческим, т. е. реальным проявлением в жизни»[386]386
Там же. С. 273.
[Закрыть].
Влияние Хомякова на взгляды Самарина в середине 1840-х годов дало свои результаты. В письме к Н. В. Гоголю в 1846 году Самарин писал, что прошел весь круг философского отрицания благодаря новому для себя осознанию христианства, которое не только является одним из учений, но составляет начало всей его жизни и творчества. Христианство нельзя понять одним разумом, оно сознается существом человека во всей его полноте.
Эволюцию взглядов собственных Самарин рассматривал через призму развития мировой философии, которая пришла к отрицанию не только христианства, но и всякого бытия, независимого от знания. После такого крайнего предела уничтожения для человека наступает понимание необходимости воссоздания всего разрушенного. Однако, уничтожив бытие, мысль сама по себе не способна к сотворению живого начала. Тут в права вступает творчество как начало самобытное и независимое. Свое новое состояние Самарин рассматривал как начало новой жизни, где главное – признание существования живой истины и возможности ее постижения во всей полноте.
В письме к К. С. Аксакову в 1847 году Самарин признался, что его диссертация опоздала на 2–3 года: взгляды значительно изменились, произошел перелом в его отношении к Гегелю, русскую историю нельзя объяснить гегелевской философией, т. к. само начало логики немецкого мыслителя ложно. Закон двойного отрицания и гегелевская триада совершаются в замкнутом круге бытия Божественного, выход в мир конечных явлений есть акт не логической необходимости, а нравственной свободы, не развитие, а творчество. Закон двойного отрицания, когда он понят формально, не имеет никакой ценности для философии.
Положения, истинность которых доказывалась Хомяковым, повлияли не только на окончательный переход Самарина на позиции славянофильства, но и помогли ему самому более четко осознать свои богословские воззрения. В дальнейшем многие из этих аргументов были изложены в целом ряде его трудов, среди которых особое место занимает работа «Церковь одна».
В истории взаимоотношений Хомякова и Самарина был еще один эпизод, связанный с философией. В конце 1850-х годов Хомяков написал Самарину два письма, посвященных рассмотрению философских вопросов. Второе из них, к сожалению, не было закончено из-за внезапной смерти автора в 1860 году. Эти письма были рассчитаны на публичное прочтение, и их можно рассматривать как философское завещание.
Самарин стал одним из наиболее благодарных учеников Хомякова. Впоследствии он много сделал для популяризации идей своего учителя. После получения разрешения на издание его трудов он написал предисловие к богословским работам Хомякова, которое не потеряло своей значимости до настоящего времени.
Н. Г. Ястребова
Славянофильские идеи Ф. Н. Глинки
Любовь к своей славянской родине имеет у Ф. Н. Глинки глубокие корни. Славянофильские настроения возникли у него задолго до 1840-х годов (времени начала славянофильских выступлений Хомякова, Шевырева). Корни славянофильства Глинки уходят в 1810-е годы. Именно в этот период – в связи с Отечественной войной 1812 года и сопутствующими ей заграничными походами, в которых Глинка принимал непосредственное участие, – у него крайне обостряется чувство патриотизма.
В многообразном литературном наследии Глинки сохранилось множество высказываний поэта по поводу царящего на Западе нравственного беспредела, который вызывал у поэта самые негативные оценки.
Сравнивая две культуры – русскую и западную (в основном французскую), Глинка приходил к невольному выводу о превосходстве первой. Отдавая должное уровню просвещения, образования Европы, искренне восхищаясь достижениями западного искусства, Глинка тем не менее в нравственном, этическом смысле ставил Запад много ниже России.
Уже в «Письмах русского офицера», первом значительном печатном произведении, принесшим Глинке заслуженную славу, слышатся критические замечания в адрес Запада и соответственно хвалебные отзывы о русской культуре, т. е. те идеи, которые вполне правомерно назвать славянофильскими.
Любовь к русской культуре как одна из сторон любви к родине, к русским людям, помимо того что она была присуща Глинке уже потому, что он был русским дворянином, образованным, просвещенным человеком, явилась логическим следствием общественно-политических событий начала XIX века. Участие в Отечественной войне 1812 года убедило Глинку, что русский народ является носителем особой культуры, основу которой составляет православная вера. Мужество и героизм, проявленные в этой войне крестьянством, заставили весь мир говорить о той великой роли, которую сыграл русский мужик в победе России над Наполеоном. Глинка, непосредственный участник тех событий, имел удовольствие лично видеть лучшие стороны русской души. Он был свидетелем не только мужества, храбрости, героизма русских солдат, но и их великодушия, доброты, христианского милосердия, которые они проявляли к побежденным французам.
«Письма русского офицера» примечательны тем, что в них с максимальной полнотой отразилось отношение Глинки к французской культуре. Конечно, отношение это не лишено значительной доли субъективизма: не следует забывать, что после вторжения Наполеона в Россию французы стали восприниматься прямыми врагами, особенно это касалось мнений тех русских, которые сталкивались с французами на поле боя, а Ф. Н. Глинка относился именно к ним.
Процесс резкого перехода от галломании XVIII – начала XIX веков к категорическому неприятию всего французского с замечательной полнотой отобразил Л. Н. Толстой в романе-эпопее «Война и мир». Нечто сходное есть и у Глинки: «Вчера брат мой, Сергей Николаевич, выпроводил жену и своих детей. Сегодня жег и рвал он все французские книги из прекрасной своей библиотеки, в богатых переплетах, истребляя у себя все предметы роскоши и моды. Тому, кто семь лет пишет в пользу отечества против зараз французского воспитания, простительно доходить до такой степени огорчения в те минуты, когда злодеи ужу приближаются к самому сердцу России»[387]387
Глинка Ф. Н. Письма русского офицера: Проза. Публицистика. Поэзия. Статьи. Письма. М., 1985. С. 162.
[Закрыть]. В «Письмах русского офицера» указываются причины этого резкого перехода. Помимо того, что французы были врагами на поле боя, они, по мысли Ф. Н. Глинки, несли в себе моральное, нравственное разложение, царящее в Европе; конечно, Глинка не хотел, чтобы оно передалось России. Как истинный патриот, он представлял Россию носительницей всего самого прекрасного в духовно-нравственном отношении, Франция же была для него воплощением зла и порока.
В «Письмах русского офицера» с негодованием описываются нравы французов. Автор недоумевает, как могли русские на протяжении длительного времени допускать их к воспитанию своих детей: «Кстати, не надобно ль в вашу губернию учителей? Намедни один француз, у которого на коленях лежало конское мясо, взламывая череп недавно убитого своего товарища, говорил мне: “Возьми меня: я могу быть полезен России – могу воспитывать детей!” Кто знает, может быть, эти выморозки поправятся, и наши расхватают их по рукам – в учители, не дав им даже и очеловечиться…»[388]388
Там же. С. 175.
[Закрыть] Здесь недавние завоеватели предстают уже в самом убогом виде, после поражения в войне они терпят всевозможные лишения, и Глинка говорит о самой низшей ступени их морального разложения – каннибализме.
То, что потерпевшие поражение французы испытывают голод и холод, не вызывает у него жалости, это воспринимается им как наказание Божие, настигшее вероломных иноземцев; и все же христианское милосердие заставляет русских оказывать бывшим врагам посильную помощь. Глинка одновременно негодует и иронизирует, описывая французов:
Каждый (француз. – Н. Я.) предлагал свои услуги. Один просился в повара; другой – в лекаря; третий – в учителя! Мы дали им по куску хлеба, и они поползли под печь. В самом деле, если вам уж очень надобны французы, то вместо того, чтоб выписывать их за дорогие деньги, присылайте сюда побольше подвод и забирайте даром. Их можно ловить легче раков. Покажи кусок хлеба – и целую колонну сманишь! Сколько годных в повара, в музыканты, в лекаря, особливо для госпож, которые наизусть перескажут им всего Монто; в друзья дома и – в учителя!!! За недостатком русских мужчин, сражающихся за отечество, они могут блистать и на балах ваших богатых помещиков, которые знают о разорении России только по слуху! И как ручаться, что эти же запечные французы, доползя до России, прихолясь и приосанясь, не вскружат голов прекрасным россиянкам, воспитанницам француженок!.. Некогда случалось в древней Скифии, что рабы отбили у господ своих, бывших на войне, жен и невест их. Чтоб не сыграли такой штуки и прелестные людоеды с героями русскими!..[389]389
Там же. С. 177.
[Закрыть]
В другом письме Глинка задается гневным вопросом: «Долго ли русские будут поручать детей своих французам, а крестьян – полякам и прочим пришельцам?..»[390]390
Там же. С. 153.
[Закрыть], имея в виду помещичьих управляющих, которые, действительно, часто были нерусскими. Вопрос же этот возникает у него в связи с тем, что он встречает вступивших в народное ополчение крестьян, которые «горько жаловались, что бывший управитель-поляк отобрал у них всякое оружие при приближении французов».
Но, несмотря на естественную в условиях войны ненависть к врагам, русские нередко проявляли по отношению к ним доброту и милосердие – черты, столь свойственные русскому национальному характеру. Глинка не без гордости за соотечественников описывает, например, такой случай:
Между сими злополучными жертвами честолюбия случился один заслуженный французский капитан, кавалер Почетного легиона. Он лежал без ноги под лавкой. Невозможно описать, как благодарил он за то, что ему перевязали рану и дали несколько ложек супу. Генерал Милорадович, не могший равнодушно видеть сиих беспримерных страдальцев, велел все, что можно было, сделать в их пользу. В Красном оправили дом для лазарета; все полковые лекари явились их перевязывать; больных оделили последними сухарями и водкою, а те, которые были поздоровее, выпросили себе несколько лошадей и тотчас их съели![391]391
Там же. С. 175.
[Закрыть]
Подобных случаев было немало. В другом письме Глинка рассказывает:
Тогда же, в пылу самого жаркого боя, под сильным картечным огнем, двое маленьких детей, брат и сестра, как Павел и Виргиния, взявшись за руки, бежали по мертвым телам, сами не зная куда. Генерал Милорадович приказал их тотчас взять и отвести на свою квартиру. С того времени их возят в его коляске. Пьер и Лизавета, один 7, а другой 5 лет, очень милые и, по-видимому, благовоспитанные дети. Всякий вечер они, сами собой, молятся Богу, поминают своих родителей и потом подходят к генералу целовать его руку.
Теперь эти бедняжки не вовсе сироты. Вчера между несколькими тысячами пленных увидели они как-то одного и вдруг вместе закричали: «Вот наш батюшка!» В самом деле это был отец их, полковой слесарь. Генерал тотчас взял его к себе, и он плачет от радости, глядя на детей. Мать их – немка – убита. Рассказать ли тебе об ужасном состоянии людей, которые давно ль были нам так страшны?…[392]392
Там же. С. 173.
[Закрыть]
Таким образом, Глинка и в «Письмах русского офицера» явно противопоставляет «чужую» – французскую – культуру «своей» – русской. Если первую за ее нравственное разложение он критикует, то второй он, безусловно, восхищается. Он с гордостью говорит о русском национальном характере, в котором в годы войны с Наполеоном проявились лучшие черты. Демонстрируя на поле боя чудеса мужества, храбрости, отваги, русские, в отличие от французов, сумели сохранить человечность. Испытывая к недавним врагам жалость, они, порой даже в ущерб себе, великодушно проявляли по отношению к ним заботу, доброту и милосердие.
Неудивительно, что Федор Николаевич всегда оставался патриотом, восхищающимся всем истинно русским. Причем эта любовь ко всему русскому была определена прежде всего его православной верой. Об этой обусловленности говорит и крупнейший современный глинковед В. П. Зверев: «Православные традиции русской литературы – это духовный источник и атмосфера, в которой вызрело сердцевинное зерно таланта, а затем и все обилие многоцветного художественного мира Федора Николаевича Глинки»[393]393
Зверев В. П. Федор Глинка – русский духовный писатель: Монография. М., 2002. С. 34.
[Закрыть]. Православная вера, по мысли Глинки, является стержнем русской культуры, и именно этот стержень, эта основа отсутствует в «чужой» культуре, в которой царит абсолютная безнравственность, определяемая безверием. Эти идеи и настроения позволяют считать Ф. Н. Глинку предтечей славянофилов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































