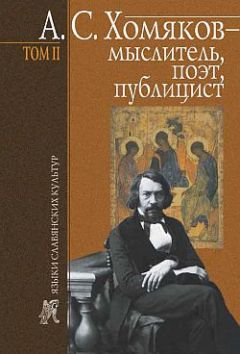Читать книгу "А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 2"
М. Ф. Маливанов
Историософия П. Я. Чаадаева и А. С. Хомякова в ее отношении к высшим целям человеческого разума (И. Кант и русская самобытность)
* * *
«Печальным представляется мне упорное нежелание русской интеллигенции познакомиться с зачатками русской философии – после первой русской революции, когда западничество уже продемонстрировало свои цели в России, – писал в 1909 году в сборнике „Вехи“ Николай Бердяев. – Эти зачатки можно найти уже у Хомякова <…>. Русская философия таит в себе религиозный интерес и примиряет знание и веру <…> в ней жив еще дух Платона и классического германского идеализма. <…> Русская философия в основной своей тенденции пpoдoлжaeт великиe традиции прошлого, греческие и германские»[119]119
Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 26.
[Закрыть]. Мечта Бердяева сбылась. Сегодня Алексей Степанович Хомяков достиг официального признания, и представление о самобытной философии славянофилов имеет, наверное, каждый студент гуманитарного факультета.
Считается, что импульс к развитию славянофильских идей дал П. Я. Чаадаев. Как философ, он начинает с историзации всей реальности, с сакрализации историй Запада и с принципа провиденциализма – базовой идеи Просвещения. Им была открыта «антиномия» между военно-стратегическим могуществом России и ee идейно-теоретической немощью: «Опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию», после 1812 года совершив «триумфальное шествие по самым просвещенным странам мира», в 1829 году «на Босфоре и Евфрате прогремел гром наших пушек», Россия в то же время «совсем не имеет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда». «Кто из нас когда-нибудь думал? <…> Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет»[120]120
Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма: В 2 т. Т. 1. М., 1991. С. 320–339.
[Закрыть]. «Истории (идей) мы не имеем. Мы должны привыкнуть обходиться без нее, а не побивать камнями тех, кто первый это подметил»[121]121
Там же. С. 528.
[Закрыть].
С точки зрения западного Просвещения, вся русская жизнь была сплошным парадоксом и не имела смысла. Авторитеты Запада не объясняли административно-сырьевого величия и мощи России. Если бы Россия 1829 года была политически слабой и отсталой страной, то «антитезу» «Философических писем» можно было бы решить просто: завести у нас европейскую науку, соответствующее образование в школах, обычаи и порядки, как в начале царствования Петра I. Чтобы стать объяснимой частью цивилизации, России понадобилось бы только в ускоренном темпе и сознательно повторить у себя дома все этапы, пройденные Европой в ходе ее исторического развития. Тогда бы еще в школе Чаадаеву рассказали, почему наша страна так слаба и неразвита: ведь раньше-то ничего западного в ней не было! Однако в первой половине XIX века Россия являла собой поистине географическое зрелище, разительно отличающееся от того, что наблюдаем сегодня… В идеальном случае, конечно, было бы желательно, чтобы не мы, а Запад в ускоренном темпе прошел все этапы российского становления: нашествие орд, тотальную войну на своей территории, Смуту, Петра – и тогда бы понял все и сам снял все противоречия теории. Но на это у Чаадаева надежд, видимо, не было никаких, поэтому он замыслил переворот почище петровского.
После его «Писем» русской общественной мысли оставались два пути: либо способствовать отказу России от территориального и политического величия и так привести ее в соответствие с мировым «интеллектуальным порядком», либо опрокинуть этот порядок и «выразить» Россию, обосновав теоретически ее самостоятельность. Для этого России нужна была собственная философия.
Герцен, когда писал, что славянофилы и западники были как «двуликий Янус» и что «сердце у них билось одно»[122]122
Герцен А. И. Былое и думы. Л., 1947. С. 304.
[Закрыть], прав был только диалектически. С точки зрения общей логики, если прислушаться внимательно, эти сердца стучали совершенно по-разному. Вопрос уже нельзя было свести к безобидным тактическим разногласиям, речь шла о том, что продолжит свое существование на шестой части суши: то, что все-таки стало великой Россией, или то, что превратится в нечто, наподобие маленькой «милой Франции», доброй Германии» или «Польши». Речь шла о русской свободе.
Российская историография переполнена опытами диалектического синтезирования славянофильства и западничества, неизбежно сводящими оба течения к двум разновидностям одного и того же западничества. При этом, как правило, подразумевается, что никакой особенной русской философии не может быть, а славянофил философствующий – уже западник, и дважды западник потому, что он еще и историк. Спор славянофилов и западников оказывается по существу всего лишь очередной домашней дискуссией по поводу двух программ завоевания России: кого на этот раз станем грабить – «славян» или «общечеловеков», и каким именно образом – по-немецки или по-русски? Здесь лежит фундаментальное противоречие отечественного славянофиловедения, рассматривающего предмет в русле рационалистической платоновской традиции и гегельянства и утверждающего при этом, что именно с рационализмом славянофилы каким-то образом боролись. Из бодрой славянофильской мысли делают смесь синкретизма и эклектики, выливающуюся затем в некое вялое и покорное судьбе квазитеологическое мировоззрение, каковых и на Западе было предостаточно. Это в свою очередь крайне затрудняет преподавание и изучение действительно своеобразного явления в русском обществе.
К счастью, окончательно сузить философский горизонт не дают фигуры вроде Чаадаева, свидетельствующие о том, что о России не просто надо думать другое, но и думать-то о ней надо по-другому. Его блестящие парадоксы, наблюдения некоторых «самобытных», «случайных» приключений и качеств русского народа не исчерпываются категориями диалектики и не укладываются в традиционную западную философию истории или во что-либо на нее похожее. Эта ситуация была зафиксирована также и Хомяковым, и Константином Аксаковым, безуспешно пытавшимся «натянуть» гегелевские схемы на русскую историю, и другими славянофилами. К сожалению, в огромном количестве посвященных этой теме работ двоякая идея России как явления и как «вещи в себе» понимается только в качестве мифа, который даже его создатель Чаадаев не смог объяснить «нормальными законами нашего ума» и в который поэтому можно «только верить», что само по себе звучит простовато. Позиция самого Чаадаева расценивается как позиция «последовательного западника, еще до того как славянофильство отчетливо осознало себя <…> начавшего борьбу с ним»; западничество же одевается в «позитивную национальную форму», в которой Россия уже ничем по существу не отличается от Европы и (всего лишь!) должна осуществить одну из ее идей[123]123
См.: Рудницкая Е. Л. Поиск пути. Русская мысль после 14 декабря 1825 г. М., 1999. С. 172; В раздумьях о России / Под ред. Е. Л. Рудницкой. М., 1996.
[Закрыть]. При этом остается принципиально непонятным, как, пользуясь одними «нормальными законами своего ума», он смог хотя бы различить в России то, чего не заметили другие, пользовавшиеся теми же «нормальными» гегелевскими понятиями?
Если, наконец, перестать смотреть диалектически на борьбу западников и славянофилов и продумать «скорбную» антитезу Чаадаева, все же отделяя значения от значений, то славянофильство отличится от западничества гораздо глубже, нежели это описано в большинстве исторических монографий. Уже сам Чаадаев, наблюдая формирование славянофильского направления, писал в «Апологии сумасшедшего»: «<…> у нас совершается настоящий переворот в национальной мысли, страстная реакция против Просвещения, против идей Запада»[124]124
Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 1. С. 530.
[Закрыть]. Это была естественная реакция «фанатичных славян»[125]125
Там же. С. 528.
[Закрыть], осознавших, что чужое просвещение не допустимо ни при каких обстоятельствах, даже при том, что завести собственную философию некоторым народам труднее, чем завести собственную армию. Славянофилы осознали первое условие возможности русской философии: «просвещаясь», не выразить интересы чужой идеологии и не потерять фиксированного значения русской мысли. Поэтому их конечной целью могло быть лишь создание независимой и самодостаточной, архитектонически устойчивой и понятной всякому русскому системы суждений, позволяющей видеть и оценивать как факты сегодняшнего дня, так и виртуальные реконструкции прошедшего. Хотя вместо того, чтобы лишить Петра Яковлевича именно философской почвы, славянофилы в ответ на его обвинение («Истории мы не имеем») первоначально занялись той же самой историей. «У нас есть история», – таков в самых общих чертах был их ответ. Оставалось только уточнить, какая история у нас есть? К сожалению, мыслители славянофильского круга, насколько это известно, не задавались вопросами, что есть история, чья это идея и действительно ли она так необходима России? Как и европейцы, они были захвачены общим движением к историзации всего сущего, когда большинство наук так или иначе начинали становиться историями или обзаводились самостоятельными историческими разделами. Хомяков заявил, что наше прошлое разрушалось «образованным обществом» намеренно, это Петр организовал разрушение исторических воспоминаний и нужно восстановить национальную память. Ту же академическую историографию, которая возникла в России благодаря реформам Петра I, Хомяков, видимо, не причислял к «национальным воспоминаниям». Ведь это немцы первыми обратили внимание русских на их собственные летописи («Нате, дурни, почитайте!»). Именно немецкие профессора Петербурга, которых один Ломоносов от отчаянья порою бил палкой по голове, подняли из небытия, перевели и издали тот корпус исторических документов, который и по сей день является главным источником для наших ученых и во многом предопределяет содержание их трудов, а в конечном счете и наше представление о самих себе.
Получается, Чаадаев действительно спровоцировал рождение славянофильства. Он славянофилов, так сказать, «спугнул» и «погнал на номера». Он русское прошлое обругал – они воспели и опоэтизировали, что само по себе отдаленно напоминает спор отца Федора с Кисой Воробьяниновым. Кажется, что сердце у них и в самом деле «билось одно». Вопрос лишь в том, что это было за сердце? На возмущенные реплики Чаадаева, зачем они сразу извлекли из истории «старые идеи» и «старые антипатии», славянофилы по существу ответили, что, мол, мы так хотим, и хотим именно этого, а не «светлых католических идеалов», которые тот в свою очередь точно так же извлек из идейного богатства очерченного Гегелем конечного и европоцентричного исторического процесса. Здесь «бежать на номера» пришла очередь Чаадаева: «В наши дни плохие писатели, неумелые антикварии и несколько неудавшихся поэтов <…> самоуверенно рисуют и воскрешают времена и нравы, которых уже никто у нас не помнит и не любит»[126]126
Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма: В 2 т. Т. 2. М., 1991. С. 225
[Закрыть]. В этой фразе отчетливо слышен окрик аристократа, и это, конечно, его поражение. Ореол диссидента и ненавистника России над ним окончательно так и не развеялся. Заметим, что в этом историческом споре наука историософия играет глубоко случайную роль. Речь с таким же успехом и общественным резонансом могла идти и о целесообразности прокладки какого-нибудь водного канала или о способах ведения войны. Вообще славянофильство – мерцающее учение. Чем более грозные тучи сгущаются над русским славянством, тем ярче вспыхивает оно, потом затухая и вырождаясь. Формы его могут быть самыми paзными – от узко историографических и историософских построений, имеющих целью повернуть общественное сознание в направлении того или иного проекта освобождения крестьян, до борьбы против поворота северных рек или чего-нибудь в этом роде. Поэтому историософия – не определяющий, собственный или родовой, а случайный признак славянофильства, всецело зависимый от всегда одной и той же сути дела, защищаемого этим вспыхивающим учением. В центре же его неизменно находятся вопросы истины, справедливости и свободы, проблематика самоидентификации русских, взаимоотношения народа и власти, славянства и его соседей.
* * *
Сегодня историософию определяют как интуитивное переживание судеб народов, эстетическое и этическое осмысление основ их бытия, отыскание «корней» и прозрение будущей «судьбы». Н. А. Нарочницкая в монографии «Россия и русские в мировой истории» определяет «историософский подход в рассмотрении исторических событий» как «имеющий своим объектом и события, и самосознание, то есть мотивации к совершению исторического акта»[127]127
Нарочницкая Н. А. Россия и русские в мировой истории. М., 2003. С. 16.
[Закрыть]. Надо заметить, что в обоих этих весьма характерных для нашего времени определениях, наиболее мучительные и далекие от разрешения философские проблемы считаются как бы уже решенными, и о философии в самом широком ее понимании речи не ведется. История здесь полагается в качестве науки, давно покинувшей свою колыбель и самой превратившейся в целую философию, ревниво оберегающую свои пределы. В понятии «философия истории» история традиционно занимает главенствующее и первое место (отсюда и название «историософия»), философия – место только служебное (место «служанки истории») и в лучшем случае является, так сказать, «историчествующей философией», а чаще «философствующей историей». «Философской истории» в России, по-видимому, сегодня нет. Этим и объясняются многочисленные усилия историков отыскать ее в прошлом, чтобы заполнить зияющие пробелы в своих знаниях о человеческом обществе.
Одной из важнейших задач философии истории Л. П. Карсавин считал «конкретное познание исторического процесса в свете наивысших метафизических идей»[128]128
Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993. С. 15.
[Закрыть]. Таковых идей Иммануил Кант насчитывал только три: это – Бог, Свобода и Бессмертие. Он полагал, что все они, за исключением Свободы, должны рассматриваться только как «идеалы», то есть благие пожелания стремящегося к безусловному разума, ибо в человеческой реальности им ничто не соответствует и соответствовать не может. То, что нет идеи Бога и поэтому абсурдно доказывать его существование исходя из его идеи, было показано еще епископом Беркли[129]129
Беркли Д. Соч. М., 1978. С. 46–48.
[Закрыть]. Но это обстоятельство никак не может помешать нам верить в Него или, подобно Канту, следовать метафизическим идеям в качестве целей («как если бы они существовали на самом деле»), помня, однако, что это есть дело добровольное и принуждать кого-либо именем означенных виртуальных идей нельзя. Тем не менее в истории, особенно после секуляризации церковного знания, многое совершалось как раз «именем Революции», «именем Науки», «Культуры», «Цивилизации». Да и сама «История» («Традиция») в этом перечне продолжает занимать не последнее место. Отсюда понятно, что существование на положении страдающих и послушных рабов исторического процесса не может быть причислено к высшим целям человеческого разума и «свет метафизических идей» не должен отвлекать, например, от борьбы за справедливость. Вообще знание – это благо (Сократ). Достоверное и доказывающее знание – еще большая ценность, но не самоцель. Стремиться к нему и к точной ориентации в мире явлений следует ради каких-то действительно высших целей, ведь оно всегда ограничено. Поэтому представления о «смысле истории» или о «тенденциях и векторе исторического процесса» могут быть лишь ориентиром, дополнительным средством, но не программой безошибочных действий. (Мало ли куда надумает идти «История»!) Равно как тот или иной объем или степень наших исторических познаний не могут ни ослабить, ни увеличить человеческое в нас и не должны решающим образом влиять на наш выбор, который находится вне зависимости от уровня образованности общества или отдельного человека и от количества исторических сочинений, сохраняемых обществом. Ведь существовали народы и страны, мало интересовавшиеся всемирной историей, но не лишенные способности принимать разумные решения. В связи с этим хочется привести слова П. Я. Чаадаева, ясно поставившего еще одну задачу философии истории: «Пopa бросить ясный взгляд на наше прошлое затем, чтобы извлечь из него старые идеи, поглощенные временем, старые антипатии, с которыми давно покончил здравый смысл наших государей и самого народа, но для того, чтобы узнать, как мы должны относиться к нашему прошлому»[130]130
Чаадаев П. Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 1. С. 226.
[Закрыть]. Таким образом, ни «идейное богатство» прошедшего, ни даже идеалы и антипатии усопших людей, ни сама История как метафизическая идея (а она именно метафизическая, т. к. физически посетить прошлое еще никому не удавалось) не должны волновать исследователя. Что же остается от «философии истории»? Да одна философия и остается, зыбкая территория, «наука о самом главном» (Кант).
Склонность к историзации жизни, которую Давид Юм называл «привычкой» и которая заключается в переносе прошлого опыта на будущее либо имеет далеко впереди лежащую и еще никем не осознанную цель, либо, что на сегодняшний день наиболее вероятно, коренится в желании человека все предусмотреть. Для этого отыскиваем «закономерности» и «тенденции» исторического развития иногда даже там, где они, возможно, еще не сложились, и стараются в полном соответствии с ними выстроить жизнь сколь возможно комфортно. Для того прошлое и объявлено познаваемым и изучается неустанно, чтобы, становясь все более известным, укрепляло в надежде на то, что все так будет продолжаться и впредь. Однако появление неизвестного из неизвестного имеет место не только в астрономии, физике макропроцессов и квантовой физике, где предполагаются скорости, превышающие скорость света, и наблюдатель сначала фиксирует следствие, а лишь спустя некоторое время может «визуально» столкнуться с причиной. Так, выпущенная со сверхсветовой скоростью пуля сначала убивает утку, и только потом мы видим вспышку и слышим грохот выстрела. «Исторически» выстрел выступает здесь в качестве следствия гибели утки. В общественной жизни нечто подобное существует в поистине глобальных масштабах.
Если в исторических и диалектических построениях неизвестное в результате синтеза появляется из уже известного, то в действительности неизвестное довольно часто и появляется из неизвестности. Человек застигается врасплох последствиями неких тайных процессов, и уже в таком положении вынуждает себя догадываться об их причинах в прошедшем, как бы прокручивая время в обратном направлении. Это и обусловливает преимущественно ретроспективный, историчный характер нашего мышления, то, что в России весьма двусмысленно называется «задним умом». Это же порождает и две наиболее распространенные ошибки в умозаключениях. Первую можно условно назвать «ошибкой Гегеля», когда путь развития самой действительности прямо отождествляется с путем познания ее разумом, в результате чего, по критическому замечанию А. С. Хомякова, «Пруссия становится действительной причиной Египетской или Германской истории, и – вовсе не в смысле телеологическом»[131]131
Хомяков А. С. О современных явлениях в области философии. Письмо к Ю. Ф. Самарину // Благова Т. И. Родоначальники славянофильства. А. С. Хомяков и И. В. Киреевский. М., 1995. С. 251–252.
[Закрыть]. Вторая – «ошибка Хомякова»: «Пути понятия и реальности действительно тождественны, но только в обратном направлении, как лестница одна и та же для восходящего и нисходящего. <…> Для понятия вещь сознается, и потому она есть или может быть; в реальности же она есть, и потому она сознается или может быть сознана»[132]132
Там же.
[Закрыть].
Общее у Хомякова и Гегеля – то, что сам факт наличия сознания уже является для них достаточным основанием для отождествления его с действительностью (здесь неважно, в каком направлении) и для производства индукции. Но тогда непонятно, зачем вообще эта последняя людям нужна? Ведь если разум тождествен природе, значит, он сразу способен знать ее целое, и ему вовсе не нужно от общего мучительно идти к особенному, а от него – к единичному; не нужно эмпирические данные подводить под понятия, а поступки – под нравственные заповеди. Перед нами кредо «интуитивного рассудка»: если я все существую и существую, стало быть, мыслю правильно.
Если Гегель злоупотреблял своими «представлениями о целом» Пруссии в ущерб представлениям о случайности составивших ее частей, то Хомяков рисковал впасть в крайность отождествления причинной и временной последовательности явлений. В этом также можно усмотреть отличие Хомякова от Гегеля. В логике ошибка Хомякова имеет специальное наименование «post hoc, ergo propter hoc» («после этого – значит, по причине этого») и может быть проиллюстрирована не только такой явной глупостью, как та, что день является причиной ночи, но глупостью более утонченной и распространенной: предшествовавшая история России является причиной ее настоящего положения.
Предшествовавшая история лишь условно может считаться причиной сегодняшнего положения дел. Понятие причины (равно как и цели) не принадлежит вещи самой по себе, оно вносится только человеком. То, что «прошлое в себе» имеет сущность, которую можно найти, обладает внутренним единством и закономерностями, отнюдь не самоочевидно и требует хоть каких-нибудь доказательств. Действительность развивается свободно от прошлого к будущему, а познание следует в обратном направлении лишь с мнимой необходимостью. Мы шарим в пустоте уже совершившегося ощупью, ошибочно полагая, что прошлое известно нам уже в силу того, что оно совершилось «именно так, а не иначе», что «история – не шахматная доска» и «не терпит сослагательного наклонения». На самом деле она только частный случай, явление, «макушка айсберга» и несет в себе бесконечно больший потенциал событий, нежели те, что фиксируются в хрониках. Поэтому причиной сегодняшнего факта может быть то, что в истории не было замечено, зафиксировано, чему летописец когда-то не придал значения. В результате ошибки историка наше прошлое может оказываться совершенно иным, нежели мы его себе представляли. Историк может попросту перепутать причины. Кроме того, причиной современного события может быть то, что было специально опущено и память о чем намеренно стерта. В конце концов прошлое можно целиком сфальсифицировать, традицию забыть или уничтожить, а с помощью систем образования и пропаганды внушить сомнительные системы знаний и ценностей, чему немало исторических же примеров. Здесь можно вспомнить того же Хомякова, главным открытием которого стало то, что «России мы не знаем». (И это после «Истории» Н. М. Карамзина и общения с С. М. Соловьевым!) Причина также может находиться в той сфере, где, допустим, археология принципиально бессильна. После филолософского осмысления эффекта инерции стали говорить о причинах, которых в обозримой истории уже нет, но последствия которых тем не менее могут вести самостоятельную «беспричинную» жизнь. Но самое главное, причиной настоящего в состоянии оказаться и то, чего в истории вообще никогда не было, и о чем, следовательно, мы не можем иметь никакого «понятия апостериори», – спонтанный акт никогда ранее не существовавшего человека. Уже поэтому без необходимых и свободных оснований нельзя отождествлять наше познание с самой исторической действительностью. Историки же, роющиеся в одних лишь материальных и духовных предпосылках грядущего, увлеченные осмотром «следов» и «свидетельств» ушедших эпох, в основном занимаются незаконными приписками причинно-следственных связей: они учат результаты, а их предмет полон процессов, еще не угасших в своих результатах; они ищут обоснования будущего в некотором прошлом, которое формально (хотя и не содержательно) является не чем иным, как небытием, «меоном», легко доступным умозрительному анализу и творческому конструированию, и проблемы, поднятые оттуда, имеют все шансы оказаться либо чересчур злободневными, либо лжепроблемами в уже изменившемся мире. «Чистая история» изучает то, что уже сделано, в то время как сегодня всегда неизмеримо более насущно составить понятие о том, чего там не хватало, что не было сделано и как оно пока еще не было сделано. Но эту последнюю задачу нельзя путать с задачей исторического прогноза.
Если гегелевская история Абсолютного духа заканчивалась личным событием самого Гегеля, то гегельянцы отважились компетентно рассуждать о будущем и, более того, судить прошлое с позиций им одним известной будущей истории. В голове у Маркса коммунизм уже состоялся, равно как и Иоанн уже присутствовал при Апокалипсисе. Простым «опрокидыванием» прошлого в будущее и обратно они мистифицировали и то, и другое. Любая использующая подобные методы наука неизбежно обладает весьма ограниченной прогностической способностью. В итоге сбывается, как правило, всегда не то, чего мы ожидали, а «прогностический вакуум» как результат нашего глубокого гносеологического иррационализма естественно заполняется всевозможными гадалками, астрологами и всякими ясновидящими животными. Будущее же вовсе не обязано вытекать из прошлого с необходимостью. В этом его радикальное отличие от математики. В трехчастном уравнении человеческого бытия две части неизвестны. Это надо признать, как бы оно ни было противно всей нашей наклонности.
Само стремление к историческому прогнозированию или предсказанию судьбы как заранее известной будущей истории следует отнести к низшим целям человеческого разума. Ведь если бы будущее было нам известно, то наши поступки нельзя было бы назвать нравственными! Лишь фундаментальное незнание будущего и непременное присутствие выгодной возможности совершить пакость позволяют людям иногда блеснуть своей порядочностью. Но если бы высочайшие награды и ужасные наказания ждали нас с гарантированной неизбежностью, то у нас была бы не жизнь, а скучный товарообмен. Нравственный закон как идеал совершенства и высшую цель всех людей нельзя вывести из истории в принципе. Прошлое в состоянии только указать нам на попытки его достижения, но отнюдь не на его необходимость и тем более осуществимость. Какая в конце концов разница, что за прошлое у нас было? Было ли оно, как утверждал Бенкендорф, «великолепным», или наш народ подвергался систематическому насилию; норманны ли наградили нас государственностью, или это были наши местные проходимцы – в любом из возможных случаев поступать каждый обязан только так, как если бы наш народ всегда был самым могучим и просвещенным. Поэтому стремление историософов к «прозрению будущей судьбы» само по себе имеет мало общего с высшими целями человеческого разума.
* * *
Интересуясь происхождением базисных рационалистических идей «интуитивного рассудка» и «тождества бытия и мышления», лежащих в основании любой историософии, даже такой самобытной, как славянофильская, мы выяснили следующее: в Новое время основоположником рационализма стал Рене Декарт. В «Рассуждении о методе» он заявил, что человек способен одним актом своего мышления порождать познаваемые объекты, созерцать их, как они есть сами по себе, и, следовательно, уже обладает истиной. Эту поразительную способность, которую в Средние века приписывали только Богу, в новоевропейской метафизике стали «называть интеллектуальной интуицией», умозрением или «самосознанием» и демократично распространили на всех желающих. Совершенно самодостоверным и истинным Декарт считал интуитивное суждение «cogito ergo sum», которое, по его мнению, являлось ясным доказательством существования самостоятельной духовной субстанции – сознания, обладающей абсолютным ньютоновским атрибутом, – временем. Следовательно, мышление сперва объявлялось причиной существования. С другой стороны, столь же произвольно полагалось существование материальной субстанции и ее атрибута – абсолютного пространства. Значит, затем время было назначено причиной пространства. Декарт полагал, что познание начал бытия возможно при помощи одной интуиции без премудростей формальной логики, а следствия выводятся посредством одной дедукции, получающей свою достоверность от памяти. Складывалась механистическая картина мира. Свое «cogito ergo sum» Декарт пытался представить не в качестве умозаключения, а в виде интуиции, данной непосредственно и безусловно. Однако по своей логической форме это все же энтимема с пропущенной большей посылкой, а пропущено именно парменидовское «мыслить и быть – одно и то же», которое в свою очередь является аналитическим суждением, не дающим приращения нашего знания. Сам Аристотель считал энтимему не научным, а только риторическим силлогизмом, годным лишь для большой аудитории, не способной следить за строгой научностью хода доказательства.
Именно так в философии появилась проблема «тождества» бытия и мышления. Логически беспочвенная вера в соразмерность и «тождество» сознания и материи – времени и пространства, внутреннего и внешнего человеку, вера в возможность непосредственного «усмотрения сущности» внешнего мира – все это стало отличительной чертой европейского Просвещения и философии рационализма на континенте. Идеи «тождества» так или иначе придерживались Лейбниц, Вольф, главной целью своей философии считавший «познание Бога, насколько оно должно быть возможным без веры», Гегель, называвший ее «самой плодотворной идеей Нового времени», Маркс, Ленин, который, хотя и настаивал, наоборот, на первичности материи, однако (вспомним «лестницу» Хомякова) утверждал, что диалектика и есть способ саморазвития мира и одновременно способ познания его человеком, – в этом положении усматривал самую суть марксизма, каковой не поняли меньшевики.
Еще Юм предоставил доказательства того, что принцип причинности не является ни интуитивно ясным, ни достоверным, его также невозможно вывести ни из опыта, ни a priori. Коль скоро мы в состоянии отчетливо помыслить беспричинное событие, то доказать невозможность таких событий нельзя в принципе. Поэтому причиной нашей убежденности в существовании внешних предметов может быть только наша «каузальная вера», основанная на фундаментальном свойстве нашего воображения переносить прошлый опыт на будущее, то есть «историзировать» сущее; причинную связь следует искать не между вещами, а лишь между убеждениями, на путях феноменологической дедукции достигая аподиктического знания. Главный же удар по идее «тождества» нанес Иммануил Кант. Им были открыты «антиномии» человеческого разума – не просто противоречия, а, по собственному его признанию, неразрешимые противоречия, пробудившие его «от догматического сна». Пользуясь средствами формальной логики, Кант обнаружил, что появление в картезианском «Я мыслю» внешних пространственных впечатлений предполагает «аффицирование» (т. е. воздействие на) самого себя, что невозможно, так как изначально Декарт объявляет «Я мыслю» ясным предметом внутреннего чувства, значит, определяет посредством времени. Если бы внешний мир попадал в душу в результате ее «самоаффицирования», то он и был бы временем. Но пространственные предметы не сводятся лишь к временным определениям!
Отсюда становится понятной и известная мысль Ф. М. Достоевского: «Не от сознания происходят болезни (что и так ясно как аксиома), но само сознание – болезнь»[133]133
Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Т. 20. М., 1980. С. 196–197.
[Закрыть]. Картезианская метафизика с ее механицизмом собственно «болезнью» и была.