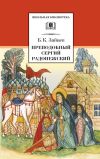Текст книги "Река времен. От Афона до Оптиной Пустыни"

Автор книги: Борис Зайцев
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
Давид признает: «Согрешил я пред Господом». Саул в свое время тоже сознался. Бог его не простил. Давида наказывает, но от Себя не отталкивает – путь Давида иной.
Наказание же начинается тотчас. По грозному духу Ветхого Завета переносится сначала на невинного младенца: сын Давида и Вирсавии, как бы символ греха, заболевает. Давид мучается, постится, проводит ночи лежа на земле. На седьмой день ребенок умер. Слуги, видя горе Давида, боялись даже сообщить ему об этом. Оказалось – напрасно.
Как Давид любит жизнь, живое! Мальчик был жив, он терзался за него, искренно пытался Бога умилостивить постом, молитвою. Молитва не услышана – значит так надо. Свершилось. Взор его опять направлен на живое. «Могу ли уже я возвратить его? Я пойду к нему, а он уже не возвратится ко мне». А жизнь есть что? Пламя! Умер сын, пылай далее. Осталась прекрасная Вирсавия. Что бы ни говорить, а она прекрасна. И «утешил Давид Вирсавию, жену свою, вошел к ней, спал с нею». Одна жизнь ушла, другая появится. Был грех, но вот теперь Сам Господь принимает их союз. Вирсавия вновь зачинает. И какой рождается у нее сын! Соломон, будущий царь, созидатель храма. «И Господь возлюбил его» – Бога как будто радовало в Давиде его жизнелюбие.
Это не значит, что он уже прощен. Но безнадежности нет. У него не отымается царство, оно за ним даже закрепляется, передастся в род. Искупить же содеянное еще предстоит.
* * *
Борьба с Саулом, «скитания в земле безводной» дали одну часть псалмов. Вирсавия и убийство Урии – другую.
В преддверии знаменитого пятидесятого псалма сказано: «Когда приходит к нему пророк Нафан, после того, как он вошел к Вирсавии». Далее и идет вопль: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей».
Грех, двойственность – в самом корне бытия, в глубине человека. Нет такого, кто хотел бы быть преступником. А преступники все. Через тысячу лет после Давида скажет апостол: «Добра, которого хочу, не делаю, а зло, которого не хочу, а что ненавижу, то делаю». Вовсе Давиду не нравилось убивать Урию. Но Вирсавия нравилась больше, чем не нравилось убийство. И в вечность летят слова из-под гуслей, увеселявших некогда Саула: «Яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною есть выну»; «Окропиши мя иссопом и очищуся: омыеши мя и паче снега убелюся». Жить в грехе – значит дышать зараженным воздухом, задыхаться и томиться, как Саул. Вот, поэтому: «Слуху моему даси радость и веселие» – не прожить ведь без радости. Но для этого нужно, чтобы Бог создал «сердце чисто» и не отверг от Себя. «Духа Твоего Святого не отыми от мене». Он же сам, грешный и последний Давид, уже «умалился» и «смирился», поэтому и надеется на милость Божию, ибо «сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничтожит».
По духу смирения и сокрушения своего и вошел этот псалом целиком в христианское богослужение – тысячи раз повторяет его Церковь, тысячи раз повторяет и отдельный христианский человек в общении с Богом. Пятидесятый псалом есть дверь к Богу.
Из сыновей Давида выдавался Авессалом. Был он знаменит красотою, как в молодости и отец. А особенная слава – волосы. «И когда он стриг свою голову (а стригся он из года в год, так волосы тяготили его), то остриженные волосы с головы его весили двести сиклей царского веса».
Этот Авессалом рано начал проявлять себя: убил брата, вынужден был бежать в Гессур, там пробыл несколько лет, но, прощенный Давидом, вернулся в Иерусалим. Сначала отец не принимал его, наконец допустил и к себе. Что-то нравилось ему в Авессаломе, может быть, напоминая собственную молодость, – красота, смелость, бурный нрав?
Авессалом завел себе колесницы с конями, пятьдесят скороходов – видимо, зажил роскошно. Никак не скажешь, чтобы он любил отца! Действовал даже против него: по утрам перехватывал просителей у дверей дома Давида, льстил им, убеждал, что у царя нет праведного суда (а вот у него, когда он получит царство, будет). К славе, власти явно влекло его. И еще при жизни он поставил сам себе памятник.
Кончилось все это открытым восстанием. Авессалом ушел в Хеврон и там объявил себя царем Израильским. Давид, начавший с победы над Голиафом, всю жизнь воевавший, поражавший «острием меча», не оказал сопротивления. Со слугами своими и всем домом вышел пешком из Иерусалима. Только жен оставил – стеречь добро. Священники несли Ковчег Завета. Ратники гефские и палестинские сопровождали его; царь перешел через поток Кедрон, направился к пустыне. Тут на пути его Масличная гора, Елеонская, та самая. Гефсимании еще нет, но оливки при Давиде могли быть и те, под которыми позже молился Спаситель, – оливковое дерево долговечно.
Давид шел босой, с покрытою головой, и плакал. И вокруг все плакали – в бедствии своем Давид не был так одинок, как Иисус. Спустившись несколько с вершины в направлении пустыни Иудейской, издавна ему знакомой, он встретил даже знак внимания и любви: Сива, слуга Мемфивосфея, сына Ионафанова, встретил его с двумя ослами, на которых навьючено было двести хлебов, сто связок изюму, сто караваев сушеных плодов и мех вина – все это для скитания царя в пустыне. Сива и объяснил: пусть царь кормится, вином утоляет жажду, а на осле может ехать. Так и вышло. «На осляти» въезжал Спаситель в Иерусалим перед Голгофой. «На осляти» же Давид с горы Елеонской к своей Голгофе, в изгнание. Стенал на горе стенаний, получил от Сивы каплю утоления, а далее, в Бахуриме, принял и поношение. Сквозь библейское повествование так чувствуется этот Семей «из родства дома Саулова» – все еще отголосок прежних распрей. Яростный облик тех же иудеев, что Пилату кричали: «Распни его!», при виде апостола Павла раздирали на себе одежды и «метали пыль в воздух». Семей шел рядом с караваном Давида и бросал в царя камни. Ругал его, именно шел и «лаялся», так и этак обзывая свергнутого владыку: кровопийцей, палачом, преступником. Когда один из приближенных сказал Давиду: «Зачем ругает этот мертвый пес государя моего, царя? Позволь, я пойду и сниму с него голову», – Давид предварил позднейшее: «Вложи меч твой в ножницу». Он не прибавил, что «взявший меч от меча погибнет», но слова его все равно остались золотом.
«Пусть ругает: может быть, Господь повелел ему обругать Давида».
Да, ответ за Вирсавию, Урию.
«Вот, и сын мой, который произошел из моей утробы, посягает на жизнь мою; тем более может это вениаминянин. Оставьте его, пусть ругает: верно, Господь повелел ему».
Давид, в ущербе своем, продолжал путь. А Семей шел рядом по скату горы, «и все проклинал его, бросал камнями сбоку и осыпал его пылью».
Так удалился Давид в пустыню, Авессалом же занял Иерусалим. Хитроумный Ахитофел, бывший ранее при Давиде, а теперь перебежчик, посоветовал Авессалому так: «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил для присмотра за домом». Расчет будто бы правильный: Авессалом станет «омерзительным» отцу, примирение невозможно, и это «укрепит руки» сторонников Авессалома.
Авессалом так и сделал. На той самой кровле, с которой любовался Давид окрестностями Иерусалима и Вирсавией, поставили палатку. «И вошел Авессалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля».
* * *
Давид, очевидно, чувствовал, что все это бедствие есть расплата. Он ее претерпевал, но и верил, что царство у него не отымется. Путь голгофский проделал, поношения принял, в пустыне кочевал, как во времена борьбы с Саулом, сушеными плодами Сивы питался. Но рук не полагал. Наступил час – начал действовать.
Можно думать, что пока Авессалом сидел в Иерусалиме, занимаясь наложницами отца, упиваясь «вином и сикером», Давид не терял времени: устраивал свое войско, сзывал сторонников, внезапно переправился чрез Иордан и засел в городе Маханаиме. Авессалом наконец (сильно опоздав: это и дало возможность Давиду окрепнуть) двинулся также в Заиорданье. Давид разделил свои силы на три части, под начальством Иоава, Авессы и Еффея гефянина. Хотел идти с ними сам, но народ потребовал, чтобы он остался в городе и оттуда помогал им: боялись, что, если убьют царя в сражении, это сразу решит дело, – может быть, был он уже и не так крепок, как раньше.
Давид остался. Военачальникам же дал приказ: пощадить юношу Авессалома.
Авессалом со своими израильтянами стоял где-то недалеко от Маханаима: по-видимому, близ «леса Ефремова». Вряд ли лагерь его хорошо охранялся. Вероятно, Давид знал об этом и не напрасно разделил свои силы натрое. Сражение произошло, по Библии, «в лесу Ефремовом». Не указывается ли здесь, однако, заключительная его часть – бегство израильтян Авессалома?
Не напали ли на них внезапно, с трех сторон, полководцы Давида где-нибудь около леса, а в лесу уж избивали бегущих?
Сам Авессалом скакал сквозь чащу на своем лошаке. Со времен ученических врезается в память: Авессалом, зацепившийся длинными своими волосами за ветви дуба, повис на них – лошак же выскочил из-под него. Иоав не послушался Давида, всадил Авессалому в сердце три стрелы. Израильтяне оказались совершенно разбиты коленом Иудиным.
А Давид сидел между двумя воротами у входа в Маханаим. Ждал исхода боя. Был вечер. Сторож ходил по кровле над стеною, карауля вестника. Удлинялась тень сикоморы, под которою сидел Давид. Вот он, еще новый день его томлений и борьбы, закатный день бурной жизни… – тогда с Саулом боролся, пред которым и благоговел. Теперь с собственным сыном, которого – неизвестно за что! – так любил.
Сторож закричал: бежит кто-то!
Действительно, вестник. Добежал, поклонился царю до земли – победа. На вопрос же об Авессаломе ничего не ответил. Но вот и второй бежит, эфиоплянин. И когда у него спросил Давид: «Благополучен ли юноша Авессалом?» – тот отвечал: «Что сбылось с этим юношей, пусть сбудется с врагами государя моего, царя».
Этого-то Давид и не мог вынести. Царство, Иерусалим, дворец, жены – все возвратилось, только не «юноша Авессалом», который чуть было его не погубил.
Царь был подавлен. Поднялся в горницу над воротами и все плакал и все восклицал: «Сын мой Авессалом, сын мой, сын мой Авессалом! Кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!»
Странная победа. Лучше бы победителю умереть вместо побежденного! Народ тотчас узнал, что царь скорбит смертельно. И возвращались в город смущенные, точно беглецы после поражения. Узнал об этом и Иоав. А царь все стонал: «Сын мой Авессалом, Авессалом, сын мой, сын мой!»
Иоав в гневе явился к царю. «Посрамил ты сегодня лице всех слуг твоих», – Иоав совершенно прав: они спасли и самого Давида, и жен его, и дочерей его, и наложниц, а он плачет как о несчастий. «Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя», – ведь если бы все умерли, и сам ты. «Теперь я знаю, что если бы только Авессалом был жив, а мы все умерли сегодня, то было бы для тебя лучше».
«Любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя», – не впервые священное безумие владело Давидом. Приходилось и раньше действовать против здравого смысла. Но как царь и вождь, в технике дела своего он не мог быть безумцем. И теперь внял совету Иоава («Встань, выйди и скажи что-нибудь приятное для сердца слуг твоих – иначе все они разбегутся».) Давид встал, пересилил себя, вышел к народу и сел у ворот – вновь спокойный, разумный, народу благодарный царь Давид. Все отложившиеся израильтяне перешли к нему.
* * *
«Дней лет наших всего до семидесяти лет, а при крепости до осьмидесяти», – как ни был крепок Давид, а до восьмидесяти не дожил, не вышел из меры обычного.
Вот и пришел его вечер. Все идет, как и надо. Ниже солнце, длиннее тень сикоморы, но врагов он или военачальники его продолжают поражать, восстание против него Вохора не удается. Как «сладкий песнопевец израилев» воздает он хвалу Богу за все, чем Он наделил его, а действия его странны и загадочны, иногда вызывают ужас, но, кажется, надо просто, не мудрствуя, смириться пред ними: понять то время и тех людей до конца мы не можем. Не нам разбирать грехи Давида. Мы лишь укажем на дела его. Скажем: «Значит, так почему-то надо было в его судьбе».
Три года преследует голод страну Давида. Он спрашивает Бога: за что? Ответ: за преступления Саула. Он избивал (неправедно) гаваонитян, соседей Иерусалима. Давид призывает гаваонитян и спрашивает, как загладить грех. Они потребовали, чтобы он выдал им семь человек из потомков Сауловых, чтобы они распяли их «пред Господом на холме Саула». «Царь отвечал: я выдам».
Последний отсвет юности Давида: Ионафан, Мелхола! «Скорблю о тебе, брат Ионафан: ты был для меня так драгоценен», – годы прошли, то и осталось: «Любовь твоя ко мне была превыше любви женской». Давид пощадил сына Ионафанова, Мемфивосфея, не выдал его гаваонитянам. А Мелхола? Некогда его спасшая, а потом «презревшая», посмеявшаяся над его «скаканием»?
Очевидно, она в третий раз была замужем – за некиим Адриелем, родила ему пятерых сыновей. Вот этих сыновей, как и ее сердце, не пощадил Давид. «Людей смиренных Ты спасешь», – это он сказал. «Сердце сокрушенна и смиренна Бог не уничижит». Но вот сам и отдал безответных и невинных, детей бывшей своей жены и спасительницы, на муку. «Распяли их на горе пред Господом… Они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя».
В один из последних годов царствования своего Давид сделал перепись народа. Это был грех – Бог чрез пророка Гада предложил ему на выбор три наказания: семилетний голод, три месяца бегать от врагов, три дня моровой язвы.
«Тогда сказал Давид Гаду: очень прискорбно мне; но пусть я впаду в руку Господа, ибо велико Его милосердие; только бы не впасть мне в руки человеческие».
Все что угодно, только не преследования врагов! Видно, не забыть ночей в пещере Адулламской, в зимний холод, с воем шакалов, блеском дальних звезд, вечным ужасом меча Саулова!
Лучше уж голод или моровая язва. Господь скорей помилует, чем люди.
Господь послал моровую язву. От нее сразу погибло семьдесят тысяч человек.
Ангела, поражавшего народ в Иерусалиме, увидал Давид и сказал Богу: «Вот, я согрешил, я поступил беззаконно: а эти овцы что сделали? Пусть будет, молю Тебя, рука Твоя на мне и на доме отца моего».
Дрогнуло сердце Давидово. Как некогда Авраам не задумался принести в жертву сына, так Давид предлагает себя – хотя, конечно, мог ранее выбрать тот род кары, который не задел бы народа.
Бог сжалился и над народом, и над Давидом. Остановил Ангела смерти «у гумна Орны Иевусеянина».
* * *
Жизнь идет к концу. Давид старится, холодеет. А как любит живое, теплое! Никакие одежды уж не согревают. Тогда отыскали для него прекрасную отроковицу. Это уже не жена, не любовница. Ависага-сунамитянка – нежное пламя бытия. Отходя «путем всей земли», завещая сыну царство и мужество («крепись и будь мужем»), приникал Давид к последнему очарованию земли. Ависага ухаживала за ним, спала на его груди, юностию своею согревала его. «Но царь не познал ее».
Он царствовал сорок лет. Семь в Хевроне, тридцать три в Иерусалиме. Наследнику своему Соломону оставлял прочное царство с крепостью Сионом. Но храма Иегове не было дано ему построить.
«Странник я у Тебя, пришлец, как и все отцы мои».
Соломон не был уже странником, храм построил.
Давид прожил семьдесят лет.
IllПробудись, слава моя; пробудись, псалтирь и гусли; пробужу я утреннюю зарю.
Псалом 57
Воззри на страдание мое и скорбь мою и прости все прегрешения мои.
Псалом 25
Сила моя! Тебе воспою; ибо Ты Бог, защита моя, милующий меня.
Псалом 58
Время течет, время проходит: Саул, Давид, Соломон.
Вот, помазал Саула Самуил, излил елей рога, дал ему Господь «другое сердце» – и оно не удержалось. Поддалось бесам. «Из глубины воззвах к Тебе» – и Саул взывал, рыдал на путях жизни. («Твой ли это голос, сын мой Давид?») Но будто проклятие над ним. И вновь, снова гонит он того, преследует, о котором уже знает, что он – Божий, ему венец, царство. Как отчаянный игрок, ставит и ставит. Чувствует, что проигрывает – удержаться нельзя: вихрь несет, в тоске, мраке. Первобытно все в Сауле, целина, никаким плугом не оранная. Слепая сила, как у Самсона. Копье его свистит, не убивает: ни Давида, ни Ионафана. А искра сердца (к Богу) как бы недостаточна: не прерывает тучи, все над ним, в нем бушующей. Не прорваться вверх. Но спуститься в преисподнюю. Не напрасно он в пустыне, у колдуньи, ночью, в темноте, муке: занесли бесы вовсе вдаль.
И могильный призрак Самуила, потревоженная тень в Эндорре! «Завтра ты и сыновья твои будете со мною» – завтра бои с филистимлянами; погибает Саул с Ионафаном. Плачьте, дщери израильские.
И Давид пел и плакал. Как же не оплакать Саула?
Все это было при Давиде. А вот что после: премудрый Соломон, «возлюбленный» Богом, наследник царства. У Саула отымается, Соломону само идет в руки. Саул неудачник, Соломон удачник. Слава, почет, богатство. И сколько даров излито! Правитель и судья, поэт, философ, собиратель и строитель – все хорошо, все благополучно. Но… все «суета сует». А что ни взять во дворце или храме – золотое. Херувим, пальмы и распустившиеся цветы, цепь и внутренность храма – все из золота. Во дворце трон слоновой кости обложен чистым золотом. И сосуды для питья золотые: серебро ни во что не считается.
Сколько всего! И для чего все это? Значит, для чего-то нужно. «Сорок тысяч стойл для коней колесничных и двенадцать тысяч всадников», «семьдесят тысяч носящих тяжести и восемьдесят тысяч каменотесов в горах».
Жен – только главных: семьсот. Наложниц триста. Но: «Все произошло из праха и все обратится в прах».
«Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли кверху и дух скотов сходит ли вниз, в землю».
Вот она, мудрость Соломона! С нею тяжко восседает он на троне из слоновой кости, как златой кумир, – старый и уже усталый даже и тогда, когда не стар.
Между Саулом и Соломоном Давид. Одному – странный враг, другому – отец. Этот не стар, даже когда отходит «путем всей земли» (телом холодеет, но завет сыну: «Крепись и будь мужем»). Не напрасно изобразил его Мике ль-Анджело юношей.
Его Давид, разумеется, только еще певец, Орфей, воин и победитель Голиафа. Давида борений, падений и прегрешений, как и Давида стенаний о грехах, выразил уж не мрамор, но псалмы и узор жизни.
Но и здесь он всегда молод. Он не может быть стар потому, что всегда раскален. Он не прозябал – пылал. И когда побеждал, и когда грешил. Когда каялся и когда, низвергнутый, брел под семеевой бранью в изгнание. И когда юродствовал, и когда скакал пред Господом, и когда притворялся безумным. И когда плакал, прощаясь с Ионафаном, и когда рыдал по Авессалому, и когда любил Вирсавию. Священный ветер Ветхого Завета, сквозь чащи мчащийся к райским рощам. Он один в его время чувствовал новый мир. «Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя», – с яростью упрекает его ветхозаветный Иоав.
И да, и нет. Необычны его чувства. Не то, чтобы он всегда ненавидел любящих. Но не всегда ненавидел врагов. «Кроткие наследуют землю». «Близок Господь к сокрушенным в сердце и смиренных духом он спасает». Кто первый разбил «око за око и зуб за зуб»? Царь Иудейский Давид.
«Исповедаюсь в преступлениях моих пред Господом» – никогда Давид не будни и не повседневность. Не спускал он глаз с Солнца Мира ни тогда, когда бедствовал в пещере Адулламской, ни на «скалах горных коз», – нигде вообще в земном своем странствии. Бог был и во взоре его, и в сердце. Был, когда он делал доброе. Когда же делал злое, тоже не мог от Него оторваться, хотя и бывал ослеплен: тем острее стенание. Не мог безысходно спускаться в отчаяние, богоотступничество, как Саул (Давида Бог любил, Саула нет – вот это тайна). Не мог и, как Соломон, впадать в оцепенение роскоши, наслаждений, славы. Не видишь Давида в дремоте.
В страшной силе жизни, жадности к ней путь его все же к Царствию Божию. Оттого он противоречив, пестр, с лепите лен. Но и вечно юн. Давид преобразует, дает лик человека вообще, Адама, трепещущего мощью и рожденного во грехе, с вечной тоской по безгрешности.
«Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его» – войдешь в храм, голос Давида раздается тотчас, будто и не было трех тысяч лет.
«На всяком месте Владычества Его благослови, душе моя, Господа».
Алексей Божий человек
IЕвфимий был знатный римлянин, полный и благодушный. Жил широко в великолепном доме у подножия Авентина. Любил гулять в своих садах, где кипарисы окаймляли Тибр, беседовать с философами, в жару сидеть под портиком и слушать флейту, запивая ледяной водой щербет. Все делалось вокруг легко и просто: кто-то подавал ему сандалии, застегивал одежду, накрывал на стол. И сами появлялись вина.
Тридцать лет правила домом его жена, белая, красивая и добрая, такая же дородная, почтенная, как муж. Сотни рабов прислуживали ей. С ними обращались хорошо. И им завидовали рабы других господ.
Каждый день Евфимий выставлял несколько столов для бедных – вдов, странников, детей, убогих. Правда, было это вблизи кухни и далеко от жилых покоев. Иногда он, улыбаясь, важно и приветливо проходил мимо обедающих, и те славили его. В другие дни, когда они слишком шумели, а он хотел читать возвышенное или поэтическое, то удалялся в сад, к Тибру, где у него был выстроен небольшой домик. Здесь шумел вечным, милым шумом Тибр. Евфимий безраздельно отдыхал за чтением от своей роскошной жизни.
Он полагал, что просвещение – вещь величайшая. И к его сыну Алексею приходили ежедневно риторы, грамматики, философы. Диакон Петр из церкви св. Пуденцианы, огромный и лохмато-добродушный, обучал его катехизису.
Алексей не был красив, как мать, и крупен, как отец. Казался даже слабоват. Не совсем правильная голова с огромно-выдававшимся затылком. Глаза шире расставлены, чем надо, серые, с тонкими веками, иногда некрасивые, иногда вдруг заливались светом и воодушевлением. А улыбался он застенчиво. К философии и священной вере имел крайнее влечение. Особенно был им доволен высохший, как обезьянка, грек философ Хариакис и диакон Петр.
– Не утомляй себя, – говорил отец. – Жизнь длинна. Посмотри на меня. Мне пятьдесят, а я молод, потому что никогда не признавал излишеств. Во всем мера. В этом мудрость и залог здоровья, силы, счастья.
Алексей слушал почтительно. Не возражал и занимался своим делом с твердостью, восхищавшей Хариакиса.
– Ах, – говорил тот, дыша чесноком, – что за мальчик! Родился философом. Если бы не дурак Петр… но что смыслит этот невежда?
Хариакис с высоты своего рваного плаща и греческого нищенства не выносил римлян.
– Юноша, – обращался он к Алексею, – в тебе пламя божественного Плотина! У тебя затылок философа. Но увы, тебе надлежит жить, прости меня, в этом мерзейшем городе, рядом с которым наша Беотия или Коринф[1]1
Беотия – область в Средней Греции со столицей Фивы; Коринф – греческий город-порт на полуострове Пелопоннес.
[Закрыть] – столицы. Многого я от тебя ожидаю, но запомни: мир дряхл и, Рим твой, хоть и груб, но стар и развращен, клянусь лучшей луковицей моего прежнего огорода в Пиргосе! Натащил себе богатств со всего света, сел на них, икает, пьянствует и думает: я лучше всех. А вот я, Аристид Хариакис, поклоняющийся Плотину, я, кого вчера рабы Рутилия Фигула чуть не избили за то, что я нечаянно задел плащом, проходя, их господина, я кричу: довольно, суд идет! Довольно преступлений и насилий, жадности, богатства, зверств. Так сказано и в вашей христианской книге[2]2
Предсказание о том, что «Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным» падет, содержится в Библии в Откровении святого Иоанна Богослова (Откр. 17–19).
[Закрыть], где пророчество о городе. Прибавлено, что это Вавилон. А я тебе говорю: Рим! Ах, что за люди! Что за жизнь!
Хариакис завернулся в плащ свой рваный и торжественно вышел. Он был такой маленький и тщедушный, что его можно было бы, как игрушку, положить в карман, но надувался величаво и, вздыхая по своему огороду в Пиргосе, шел бродить в сумерках по темным уличкам у театра Марцелла, где слонялись подозрительные личности. С ними заводил он шашни.
И в вонючих кабачках запивал козий сыр вином, громил богатство, роскошь и пресыщенность. Иногда надоедал, и его били.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.