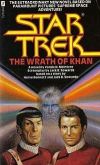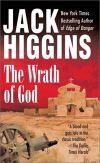Текст книги "Гнев"

Автор книги: Булат Ханов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Вот. То самое. Грудастая блондиночка в черном и загорелая брюнетка в желтом, на фоне ковра с лисичками. Чулок сполз по бедру, подол задрался, хитрые развратные твари, вам даже притворяться незачем, разрешите вас выебать, с резинкой и без…
За миг Глеб успел поднести салфетку. Его туловище склонилось набок и подергивалось. Увидь Лида со спины – решила бы, будто его инсульт хватил. А он всего-навсего убил очередного ребенка.
Выбор падал на всяких: на обнаженных и на наряженных по всем канонам косплея, на худощавых и на дородных, на симпатичных и на откровенно посредственных, на лесбиянок и на гетеро, на топовых порноактрис и на безвестных дилетанток с домашнего видео; на тех, кто, приклеив на лицо стыдливую улыбку, прячет голую грудь за худой рукой, и на тех, кто с циничным профессиональным безразличием участвует в студийных фотосъемках со специфическими аксессуарами вроде плеток и страпонов; на тех, кто имитирует бурную страсть, и на тех, кто изображает царственную холодность; на тех, кто с чашкой кофе на подоконнике читает Маркеса, и на тех, кто из горла хлещет «Ягу» в падике; на тех, кто стремится к образу прожженной стервы; на тех, кто подражает то ли Лолите, то ли Мальвине и надевает платьица пастельных тонов, голубые носочки и сандалики, тонко играя на сконструированном желании грязно овладеть невинной; на тех, кто смотрит на мир изумленными глазищами через стильные очки с цветными дужками; на девочек, фотографирующих себя в зеркале и алчущих одобрения со стороны; на старшеклассниц, возлежащих в туфлях на парте или поднимающих юбку на перемене; на заядлых фетишисток с накладными ушами, хвостами и рисунками котят на чулках; на спортсменок и на студенток в фитнес-клубе; на улыбчивых оптимисток и на меланхоличных дев; на рыжих, блондинок, брюнеток; на славянок, азиаток и индианок. Если бы каждую из них Глебу предложили отыметь, причем бесплатно, он бы отказался, потому что это – новый вызов, чреватый техническими сложностями, нервозностью и неизбежным разочарованием. При всей своей двинутости Веретинский чувствовал, что пока далек от геронтофилии и педофилии. Он избегал трупов и не сублимировал желание на геев, трансов, животных.
Веретинский был дофаминовым наркоманом, привыкшим получать удовлетворение простейшим из способов. Загвоздка в том, что, расплачиваясь за пристрастие, Глеб забывал стихи, ему делалось все скучней читать, общаться и ставить цели.
А как еще? Лида признавалась, что ей больно через презерватив, а также категорически возражала против целого ряда поз. На словах она выступала за горячий страстный секс, на деле Веретинского заморачивал список ее ограничений и ее бревнистая, чуждая чувственности натура.
Два с половиной часа Глеб бесцельно тыкал на чужие страницы «ВКонтакте» и на «Фейсбуке». Элвер Буранов выложил утомительную простыню о том, как они с женушкой выбрались на вечерний киносеанс. Очевидно, теперь стоило ждать никчемного обзора в его продажной газете.
Документ с календарным планом Веретинский даже не трогал. О ничевоках не помышлял. На личном опыте он усвоил, что выплеснутое семя оборачивалось тотальным снижением концентрации и падением скорости и качества письма. Печальное животное вместо соития.
Что за.
Что за.
Что за.
Не лег с Лидой, чтобы работать допоздна, и ничего не сделал.
Почему некоторые бездарно упускают время и не жалеют об этом?
Почему не получается переключаться с одного режима существования на другой хотя бы за час?
Перед тем, как лечь спать, Глеб настрочил новый пост.
Сколько же вас в онлайне? И кто доживет до пяти утра? Точно не я. На Земле тягостно, как подметил пришибленный яблоком Ньютон. Или он имел в виду, что мы отягощаем Землю?
7
Г арпия даже кофе допить не позволила. Копалась-копалась в сумке, а затем как поднимет взгляд и спросит:
– Глеб Викторович, вы заняты во вторник утром? Часов в десять?
Веретинский, ждавший на кафедре Федосееву, задержал чашку в воздухе и сказал:
– Вроде бы ничего срочного, Катерина Борисовна.
– Выручите? Меня без моего ведома записали на открытие конференции «Точка зрения», а я никак не успеваю.
– Что за конференция?
Не то чтобы Глеба волновал этот вопрос.
– Международное действо, – сказала Катерина Борисовна. – Гости со всего света, приветственное слово лектора, куча спикеров. От каждого отделения отрядили по три преподавателя.
– Как будто внушительно.
– Еще как. Я смотрела расписание, у вас занятие во второй половине дня, поэтому и обратилась к вам.
Расписание она смотрела. Самое время вспомнить о неотложных делах, намеченных именно что на вторник, и изобразить запоздалое сожаление.
– Неотложных дел у меня нет, – сказал Глеб, почесав затылок. – Открытие в актовом зале?
– Верно, в главном здании, – сказала Катерина Борисовна. – К полудню, думаю, завершится. Спасибо вам большое!
– Буду держать вас в курсе.
– Тогда я сообщу куратору, что вместо меня вы придете. Занимайте место на втором ряду, там преподаватели садятся. Найдите наших.
– Займу.
– Спасибо, Глеб Викторович! Дай вам Бог счастья!
Последняя фраза добила Веретинского. Мало того, что гарпия застала его врасплох и связала обещанием, так вдобавок не погнушалась благочестивыми издевками. Надо же ляпнуть такое – про счастье.
Этот ее Бог – лучшая фигура речи за всю историю человечества. Выставь против Борисовны отряд биологов, физиков, ницшеанцев, психоаналитиков, деконструктивистов – и все они будут повержены одним-единственным словом, потому что Бог – Большой Онтологический Голод – поглотит любые контраргументы.
Обидней всего, что Борисовна не окажет Глебу ответную услугу, если таковая потребуется. Она и ей подобные, будучи сами корыстолюбивыми, пребывают в убежденности, что им помогают просто так – раз они хорошие, раз они слабые, раз они женщины.
Раздраженный Веретинский налил себе второй кофе. Если Федосеева опоздает хотя бы на полминуты, он выдаст ей гневный монолог об университетской вертикали и ответственности. Если студентка возразит на замечания хотя бы взглядом, Глеб откажет ей в научном руководстве.
К счастью для Федосеевой, она явилась за минуту до назначенного времени. В привычных мешковатых джинсах, в фисташковом джемпере с высоким воротом и с широким блокнотом – таким гладким и чистым, будто прямо из типографии.
Глеб не любил навязывать темы или в процессе работы со студентом обнаруживать, что тот не переваривает символизм и только и мечтает об изучении, к примеру, языка молодежного радио. Поэтому каждому, кто собирался писать у Веретинского курсовую, предоставлялось право первой речи. В первой речи допускалось все, что угодно: стыдливое перечисление своих кумиров, косноязычные оды в адрес нежного Сережи Есенина, досужие рассуждения о роли литературы, смелые гипотезы о происхождении языка… Обычно студенты, сбитые с толку размытыми границами дозволенного, краснели, оглядывались, путались в словах. Глеб не доверял их мнению, но и не критиковал сказанное в ходе первой речи и, напротив, осторожно поддерживал иллюзорное ощущение ее цельности, задавая наводящие вопросы: «Кто твой любимый литературный герой?», «Почему ты читаешь стихи?», «Предпочитаешь классику или современную литературу?»
Федосеева призналась, что научилась читать в пять лет, а в двенадцать проглотила всего «Гарри Поттера» и с тех пор фэнтези в руки не брала. Ира выразила мнение, что стихи выше прозы, потому что поэт вступает с читателем в непосредственную коммуникацию, тогда как писатель возводит перед собой крепостную стену с отверстиями-бойницами. К тому же лирика бережнее обращается со словом.
Веретинский, раззадоренный столь категоричными предположениями, изменил правилу не критиковать.
– Попробую реабилитировать писателей, – сказал он. – Чем проза сложнее поэзии, так это причинно-следственными связями. В поэзии достаточно удачной ассоциации, парадоксального сплетения образов, сближения далеких вещей. В прозе же не прокатит, если автор объяснит конституцию через проституцию, а стихи, хм, скажем, через стрихнин.
Ира сказала, что из поэтического наследия больше всего ценит Серебряный век. Все, что было до Пушкина, представлялось студентке недостойном внимания; в лирике XIX века она разбиралась строго в рамках академического минимума; советской и постсоветской поэзии, за исключением Бродского, для Федосеевой не существовало. Современным поэтам недоставало замаха, а те немногие, кто на замах решались, вызывали сначала смех, а затем чувство стыда.
– В литературе все уже закончено, – сказала она. – Как, впрочем, и везде. Все мысли помыслены, открытия совершены. Человечеству некуда двигаться дальше. Осталась одна скука.
– Мне скучно все – и люди, и рассказы, – процитировал Веретинский. – Если все открытия совершены и слова сказаны, почему ты берешься за литературоведение? Почему ты здесь?
Ира смутилась, но нашлась:
– Нужно упорядочить уже написанное. Структурировать. Систематизировать…
– Каталогизировать, – подсказал Веретинский. – Читала Фрэнсиса Фукуяму?
– Имя знакомое, но не помню, читала или нет. Может быть. Рекомендуете?
– Ни в коем случае. Погоди, – сказал Веретинский.
Он поднялся с места и прошествовал к своему выдвижному ящичку в общем кафедральном шкафу. Если книга там, то Глеб устроит сценку и удивит студентку.
Там, ура.
– Это Фукуяма? – поинтересовалась Федосеева.
Веретинский загадочно помотал головой и пролистал до нужной страницы.
– Слушай, – сказал он, поднимая палец. – И в жизни, и в литературе мы переживаем печальную эпоху конца… Для внимательных и тонких людей уже стало истиной сознание, что мы исчерпали себя, выдохлись, померкли, что старые пути уже не удовлетворяют нас, а новых не можем найти, что слово износилось, выродилось и обезвкусилось до тошноты, что мысль состарилась и потускнела, что жизнь с ее прошлым и настоящим, с ее культурой и эволюцией кажется нам лишь дурманящим сном без пробуждения!..
Веретинский поднял взгляд на студентку. Она ждала разъяснения.
– Это доклад о футуризме критика Александра Закржевского, прочитанный, внимание, 17 декабря 1913 года.
– Вот это да! – восхитилась Федосеева.
Она изумленно улыбалась.
– Каждый раз, когда говорят о хваленом уровне 1913 года, в моей памяти всплывает этот фрагмент.
– Получается, и тогда думали о том, что все уже кончилось?
– И тогда, и всегда. Мнение о том, что отныне литература исчерпана, сопровождало ее на протяжении всей истории. Вспомни хотя бы «Кинжал» Лермонтова. Предчувствие драматичной мировой развязки свойственно России с ее эсхатологическими метаниями. С момента принятия христианства мы живем в перманентном ожидании грядущего конца света. Не исключено, что жили так и до князя Владимира.
Домой Глеб возвращался со смешанным чувством. С одной стороны, даже лучшие из студентов все-таки отталкивали – наивностью, невежеством, категоричностью, выставленной напоказ, как на витрину. Как ни крути, лучшие из худших – это по-прежнему неоднозначная привилегия. С другой, Веретинский вызвал интерес у девушки, всего лишь поводив малярной кистью по ее простодушной картине мира и развенчав парочку мифов. Глебу было лестно, хотя ни о каком сближении с Федосеевой он и не помышлял. Слава – тот еще шутник.
Октябрь
1
Зафонарело слишком скоро. Октябрь взошел на календарь.
Саша из «Сквота» сказала, что контактов художника у нее нет. По ее словам, он всегда первым выходил на связь и вообще держался обособленно, если не отчужденно. Зато от Саши Веретинский узнал, что автора картины зовут Артуром и выставка его полотен скоро откроется в «Смене».
«Смена» как раз пригласила Глеба поучаствовать в дискуссии, совпадающей с открытием выставки. Тема для дискуссии заявлялась до безобразия хрестоматийная («В чем заключается миссия художника сегодня?»), однако в числе оппонентов по дебатам значилась сказочная Лана Ланкастер, поэтому Веретинский незамедлительно принял предложение. Нечасто выпадают такие шансы задешево повеселиться.
Лида стала порывистой и беспокойной из-за предстоящего дня рождения. Целыми вечерами она обдумывала меню, перебирая феерические комбинации из блюд, некоторые из которых, подозревал Глеб, на территории Казани едва ли кто готовил. В эти моменты Веретинский сожалел, что у жены изощренные вкусы.
– Может быть, фасолевый салат с авокадо?
– Я не ем фасоль. Твои родители, полагаю, тоже?
– Увы. Тогда индейку с ананасами в красном вине? Я такой рецепт вычитала!
– Лида, успокойся. Это лишнее.
– Давай хотя бы суп с грибочками! Со свежими, сейчас ведь сезон заканчивается.
– По-моему, отличная идея.
– С белыми?
– Пускай с белыми.
– Ура! А на второе?
Через час затея с грибным супом подвергалась ревизии. Глеб втайне жалел Лиду, наперед видя, как ее пыл охладят ее же вредные родители. Цистернообразный папаша, чуждый изящества, с равным аппетитом будет уплетать хоть перепелок под гранатовым соусом, хоть шпроты в машинном масле. Придирчивая мать, напротив, будет с энтомологическим интересом присматриваться и принюхиваться к каждому кусочку на вилке. В итоге Лида, закрыв с натянутой улыбкой дверь за родителями, сразу ударится в слезы, убежденная, будто где-то напортачила.
Это надо преодолеть. Как и любой праздник.
Лида периодически осведомлялась, доволен ли Глеб картиной и не планирует ли он, например, выгодно ее продать. В самых обтекаемых формулировках Веретинский отвечал, что пока не время. Оба чувствовали, какие острые мучения доставляют им подобные разговоры.
От переживания текущих и грядущих невзгод Глеба отвлекала работа. Он добил статью по ничевокам и отослал ее в воронежский журнал, с которым у него была устная договоренность. Кроме того, Веретинский загодя подготовил отзыв на кандидатскую диссертацию мордовского аспиранта. В электронные письма соискателя тонкой нитью вплеталась нарастающая предзащитная истерия. Чтобы подбодрить будущего кандидата, Глеб отправил ему мотивирующее на свой лад послание:
Мне незачем подхватывать интонацию, которую обычно подключают в подобных случаях, и утверждать, будто остался последний рывок, будто ты стоишь у врат Большой Науки, и проч., и проч. Выражусь иначе. Через год ты уже не вспомнишь, с какой интенсивностью беспокоился о защите. Ты скажешь вслед за Блоком: «Так мчалась юность бесполезная, в пустых мечтах изнемогая». Или не скажешь. Бесконечные сборы документов, подписей, походы в типографию и на почту – все сгладится в памяти. Это даже не боль, которую надо перетерпеть, а всего лишь последовательность бюрократических операций. Ты обнаружишь, какое будничное это событие: обзавестись статусом кандидата наук. Будничное и все-таки далеко не рядовое.
Из-за дефицита времени до минимума сократились сношения с оцифрованными подругами, что радовало. Мозг, освобожденный от холостых выбросов энергии в преступных масштабах, вознаградил Глеба повышенной работоспособностью и ясностью мысли.
Алиса перестала выкладывать в «Инстаграм» фото и видео с собой. За месяц в ее профиле появился только косой затемненный кадр с осенним небом. Под кадром помещалось стихотворение Ахматовой «Я научилась просто, мудро жить…»
Научилась она, как же.
Лана безудержно хвасталась – новым настроением, новой прической, новым портретом Мэтью Беллами, потребовавшим недюжинных, по ее словам, творческих усилий. Лана заверяла, что в «Смене» скоро откроется выставка ее работ.
Веретинский смекнул, что полотна Ланы и Артура выставят одновременно.
Автора картины со стены своего кабинета Глеб представлял по-разному: то как одаренного всклокоченного самоучку с неврозом навязчивых состояний, то как немногословного смуглого кавказца с пронизывающим взором, то как солидного ревнителя искусства с педантичными привычками и европейским воспитанием. Одно было ясно: на фоне творчества Артура со всей очевидностью высвечивалось убожество и низменность поделок Ланы.
Университет начинал наскучивать, хотя и не вызывал прозаической, совсем не экзистенциальной тошноты, обычно обострявшейся в конце семестра. Прилежная Федосеева поглощала всю стиховедческую литературу, которой кормил ее Веретинский. Глеб добавил студентку «ВКонтакте» и остался доволен ее страницей. Ира не выставляла селфи – ни с цветами, ни без; в перечне ее подписок не значились ни феминистические паблики, ни группы с инфантильным юмором про котиков, винишко и прокрастинацию.
Во второе воскресенье месяца Веретинского пригласил в гости профессор Тужуров. Известный чеховед, Борис Юрьевич сам походил на персонажа то ли Аверченко, то ли Пелевина. Тужуров умудрялся быть и скучнейшим обывателем, и возмутительным чудаком одновременно. Его помятые костюмы и запачканная обувь выдавали в нем жуткого мещанина. Лекции чеховеда усыпляли, блеклая речь перемежалась эканьем и оживлялась только в случае, если слуха профессора касались волшебные слова – «реализм», «Чехов», «Манчестер Юнайтед», «виски». Борис Юрьевич предъявлял студентам блеск и мощь компаративистского метода, в красках сопоставляя игровые модели Фергюсона и Моуриньо, и с наслаждением распространялся о преимуществах островных односолодовиков перед равнинными сортами. Дипломники и аспиранты карманы наизнанку выворачивали, лишь бы угодить капризному научруку редкими торфяными релизами.
Тужуров искренне считал университетских преподавателей цветом нации и осторожно, то есть сугубо в тесном кругу, поругивал бездарных чиновников, держащих «цвет нации» впроголодь. Притом что отнюдь не бедствующий Борис Юрьевич мог позволить себе тур по Шотландии с посещением любимых вискокурен.
Правда, он владел двумя квартирами, одну из которых сдавал.
В день, когда Глеб наведался к Борису Юрьевичу, жена последнего, доцент психфака, укатила в командировку. Радушный хозяин встретил гостя в барском шелковом халате и шерстяных носках.
– На остров Скай хочу, – сказал Тужуров. – На Айлу и Джуру тоже, но на Скай больше. Вы знали, Глеб Викторович, что Оруэлл написал на Джуре «1984»? Премерзкое, надо сказать, местечко, со всех сторон продуваемое ветрами. Населения человек двести, из достопримечательностей лишь дистиллерия да домик Оруэлла.
В честь визита Веретинского Борис Юрьевич откупорил бутылку десятилетнего «Талискера», нарезал тончайшими ломтиками сало и пять сортов сыра. Насладиться виски Глебу так и не довелось, поскольку Тужуров мешал своими наставлениями, как вдыхать аромат и как катать напиток на языке.
– Знаете, Глеб Викторович, я раньше в «Талискере» из фруктов только цитрусовые улавливал. Теперь же чувствую пронзительное представительство персиков – скорее узбекских, чем абхазских. И этот неповторимый оттенок остывшей золы. Как будто костерок на ночь притушили, а утром пепел еще не развеялся. Чуете ведь, чуете?
За минуту до матча Тужуров вытащил на свет шарф «Манчестер Юнайтед». У Веретинского уши вяли от занудных комментариев старого болельщика, иной раз, точно юный глор, срывавшегося в умиленный лепет. В такие моменты Глеб вспоминал о специфическом чувстве юмора профессора. Иной раз даже рядовая глупость вроде «О спирт, ты мир!» вызывала у чеховеда хихиканье до слез, до трясучки.
В тот же вечер Веретинский потянулся к Лиде – неуклюже, неуверенно, словно в первый раз. Легко возбудившись, она тем не менее быстро высохла и прервала Глеба на середине. Тот, не проронив ни звука, слез с жены и, как запрограммированный, поплелся с телефоном в ванну. Лида, уязвленная отсутствием оскорблений, возражений, горестных вздохов, крикнула вслед:
– Прости, Глебушка, прости! Мне больно сейчас.
Веретинский механически отметил про себя, что с лесбиянкой постель нагревалась чаще, чем с женой.
– Прости, пожалуйста! Я не бревно, не думай так…
Глеб без оживления слил на японскую школьницу и забрался в ванну под холодный душ. Новую ванну он заказал сразу после похорон тети. Тогда от мыслей, что он будет мыться там, где ее, немощную и оплешивевшую, купала сиделка, Веретинского бросало в дрожь.
Говорят, если лечь головой под тонкую струю, чтобы ласковая теплая водичка текла на лоб, то через десять минут такого блаженства сойдешь с ума. Правда ли?
2
Г одами Веретинский отмахивался от мысли, что этот день настанет.
У Глеба заскрипел сустав. Коленный. Это значило, что очередной рубеж сдан при отступлении. Теперь тело обречено издавать в движении непроизвольные звуки. В нем завелась ржавчина. Это далеко не то же самое, что лишний вес или морщины. Складки на лбу Веретинского не носили драматического характера, а живот у него прирастал медленно. В этом плане Глеб безнадежно уступал некоторым ровесникам, чье неукротимое брюхо выпирало под футболкой, как украденная с прилавка подушка.
Сустав – иное дело. Болеть он пока не болел, однако ритмичный хруст при подъеме по лестнице впечатывался в сознание и раздражал хуже беспардонных студентов. Неужели он такой – саундтрек грядущей старости?
– Ржавчина, говоришь? Смажь солидолом, – посоветовал Слава.
Они встретились в кафе, которое незаметным для обоих образом обрело статус территории для околобытийных бесед. Глеб заказал свиной стейк на кости и две стопки водки. Слава по традиции взял сырный суп и облепиховый чай. У бывшего армейца появилась пассия – магистрантка с философского отделения. Как определил из рассказов друга Глеб, особа задиристая и в высшей степени противоречивая.
– Отличница, с президентской стипендией, на конференции ездит, Беньямина почитывает, в «Смену» ходит, – перечислил Слава. – И вдобавок мерзко матерится.
– Например?
– Как мы с тобой ругаемся? Ввернем время от времени крепкое, соленое выражение, чтобы подчеркнуть важность наших слов. Важность вербального, так сказать, посыла. Лика же матерится однообразно. В каждое предложение вставляет свои «хер» да «срать». Как будто вместо смазки. Когда я возразил, что это некрасиво, особенно для девушки, в ответ получил целый обвинительный приговор. При чем здесь, мол, девушка? То есть мужчинам дозволено ругаться, а женщинам нет? Это, на хер, нормально такие предъявы кидать? Тебе не срать вообще? Таких вещей от нее наслушался…
– Монолог в духе оскорбленного бойца за гендерное равноправие, – прокомментировал Глеб.
– Лика меня за мужлана принимает, – сказал Слава. – Притом что это ни разу не так. Я образованный человек, хоть и без диплома. Бердяева читал, Гегеля.
– Поверь, пусть лучше она видит в тебе солдата, – сказал Глеб. – Для женщины твоя надежность и сила куда ценнее, чем способность отличить Гегеля от Шлейермахера, например.
– Я бы и не отличил, – сказал Слава. – Кстати, у тебя с женщинами полный порядок. С одной уют строишь, вторую ненавидишь, для третьей, студентки… как уж ее?
– Федосеева.
– Для студентки выступаешь духовным наставником, символическим отцом. Три женщины – это как три измерения. Развиваешься во все стороны.
– Разрываюсь во все стороны.
– Я серьезно. Женщина – это все равно что экзамен на состоятельность. А уж когда их много…
– Кажется, пью я, а пьянеешь ты.
– Да правда же, Глеб! Три женщины – это как трилогия вочеловечения. Теза, антитеза, синтез.
Порой Слава разражался обрывочными знаниями из университетского курса.
– Три женщины – белая, черная, алая – стоят в моей жизни. Зачем и когда вы вторглись в мечту мою? Разве немало я любовь восславлял в молодые года? – продекламировал Веретинский.
После встречи со Славой Глебу предстояло щепетильного рода обязательство, а именно визит к родителям. Они жили в монументальной сталинке напротив филармонии. По пути на остановку Веретинский купил жевательной резинки с острым ментоловым вкусом, чтобы перебить запах водки.
К родителям Глеб испытывал смешанное чувство, граничащее с виной, уважением и неудовлетворенностью, но не являвшееся ни тем, ни другим, ни третьим. Дед и отец преподавали историю в университете, а мама справедливо считалась одним из лучших специалистов по педагогике высшей школы в Казани. Это были примерные интеллектуалы в русском изводе – с аккуратной манерой речи, с почтением к старине, с умилением перед благородной простотой, со стандартным набором замечаний к невежеству и бескультурью, с недоверием ко всему чувственному и спонтанному, со страстными нападками на теории коллег по гуманитарному цеху, с привычкой переминаться с ноги на ногу перед большими дилеммами и огибать стороной все острые углы на пути. Родители Глеба обладали образцовой семейной библиотекой, где число непрочитанных книг неизменно превышало число прочитанных.
В детстве Глеб стеснялся своей потомственной интеллигентской натуры, поэтому учился грубо и развязно говорить, дрался со старшеклассниками и мечтал работать на заправке где-нибудь вдалеке от крупных городов и шумных магистралей, на позабытой цивилизованным человечеством трассе, соединяющей одну экзотическую глушь с другой. Будучи гибкими дипломатами, родители не вытесняли бунтарский дух увещеваниями о благе образования, о пользе классической литературы, о красоте добрых поступков и прочей благолепной воспитательной чуши, а обрабатывали сына на более тонком уровне. Они не вовлекали его в принудительный совместный досуг вроде рыбалки или синхронного выкапывания сорняков кверху задом, догадываясь, что любая навязанная форма единения интуитивно покажется их сыну ущербной, уродливой и глубоко лживой.
Его интерес к воде, неосторожно проявившийся в последнее дошкольное лето, послужил поводом для записи в бассейн. Мама водила Глеба в лучшую в городе школу скорочтения, а затем и на кружок английского при университете. Продвинутая игровая приставка и музыкальный проигрыватель с завидной коллекцией кассет примиряли с ограничениями, наложенными на жизнь сына родителями с их интеллигентской мягкостью и деликатностью. В памяти сохранился момент, как Глеб перед выпускным слушал «Nirvana», «Red Hot Chili Peppers», «The Cranberries» и полагал себя свободным и бесподобным.
Достигнув двадцати, Веретинский осознал, что рок – та же попса. Только более качественная. А еще он осознал, что вырос дисциплинированным и ответственным, не прикладывая к тому усилий.
Кроме того, родители незаметно для него самого уберегли Глеба от уличных группировок и банд, затянувших в пучину не одного его сверстника.
Когда перестала передвигаться тетя Женя, одинокая и бездетная сестра матери Глеба, он и его родители наняли сиделку, поделив расходы пополам. Все стороны – Глеб, родители, даже сама тетя – испытывали облегчение оттого, что способны передоверить тягостные обязанности кому-то третьему и с чистой совестью не ведать об унизительных подробностях. Об этом думал каждый, хоть и не произносил вслух.
После смерти тети Жени и переезда Веретинского в освободившуюся квартиру отношения с родителями только усложнились. Всякое общение с ними, и раньше лишенное доверительной интонации посиделок у камина (какими эти посиделки виделись сценаристам семейных комедий), теперь вовсе свелось к набору бесцельных в конечном счете ритуалов. Глеб звонил родителям раз в неделю и наносил визиты дважды в месяц. Разговоры, всегда вертевшиеся вокруг главного, к главному, во избежание неловкостей, никогда не приближались. Взаимное смущение, укреплявшееся год за годом, скрывалось за спасительной маской вежливости и простосердечия.
И сегодня Веретинский с тяжелым сердцем прибрел к сталинке, в которой вырос. Он предчувствовал поднадоевший вкус смородинового варенья. Только бы не халва – вот что набило оскомину.
В поле его зрения угодил черный ангел с длинными ресницами, тощими крылышками и громадными вычурными яйцами, маркером нарисованный на стене в подъезде. Ангел натягивал тетиву.
Мать Россия, о родина злая, кто же так подшутил над тобой?
Отец изобразил радость, мать с преувеличенной суетливостью бросилась заваривать жиденький чай.
– Как в целом? Как студенты? – справился отец.
– Да ничего. Ленятся. Как твои?
– Мои тоже ленятся. Искры нет.
– Искры нет.
– Как Лида?
– Ничего, работает.
Глеб не определился, откуда возникло это охватившее его и родителей смущение. Исходило ли оно из висевшего в воздухе негласного обязательства, которое предписывало родственникам до скончания века уделять внимание друг другу? Или причина коренилась в привычке обозначать взаимную заинтересованность, что само по себе накладывало отпечаток неискренности и принуждения?
– Как Лида планирует справлять день рожденья? – спросила мама.
– Дома, наверное. Мы пока не решили.
Глеб и Лида понимали, что звать на семейное торжество его родителей – затея откровенно подрывная. Встреча интеллигентов Веретинских и пролетариев Сухарниковых за одним столом взвинтит градус неловкости, и тогда никакая выпивка и компанейские анекдоты положение не выправят. Клеить обои или менять плитку в ванной и то менее хлопотно и мучительно, чем собирать родню вместе. Каждый, включая и самих родителей Глеба, осознавал, что их присутствие на празднике нежелательно, и уповал на удачное стечение обстоятельств, когда ситуация разрешится сама собой.
3
Т огда, пять лет назад, на прощание Алиса добила его строчками: «Враг мой вечный, пора научиться вам кого-нибудь вправду любить», – процитировав их с надлежащим пафосом.
Глеб отреагировал не менее торжественно, пообещав сделать будущую избранницу счастливой и продемонстрировать, как Алиса ошибалась на его счет.
За вечер Веретинский ухлопал полбутылки абсента. Казалось, Глеба будет рвать до тех пор, пока внутренности по частям не вылезут наружу.
Даже спустя пять лет те мгновения вспоминались с содроганием – до того жалко выглядела бравада в обоюдном исполнении. Вправду любить, сделать кого-то счастливым – такая порывистость, такая неосновательная заявка на основательность. Точно графоманский лепет пубертатного периода.
Нельзя сказать, что впоследствии Глеб сторонился женщин и считал их придатком человечества или выходцами из ребровой кости, на шатких правах прописавшимися рядом с мужчинами. Напротив, Веретинский зарегистрировался на сайте знакомств и заведомо отсекал лишь одиноких матерей, не отдавая предпочтение ни интеллекту, ни внешности, ни сетевой активности. Преподаватели с кафедры, втайне жалея замкнутого бобыля, пытались свести его с достойными, по их мнению, кандидатурами. Попытки эти принимали все более и более назойливый характер. Так, на одном из новогодних корпоративов холостяка усадили рядом с цветущей аспиранткой, которая без умолку трещала то о Жирмунском, то о салатах, то о сроках приема работ на Ломоносовскую конференцию. Целый вечер Глеб ловил на себе пытливые взгляды, обладателей которых без всякой паранойи можно было бы уличить в вуайеристских наклонностях.
Веретинского пугала перспектива обручиться с кем-то, кто причастен к университетскому кругу. Брак с филологической девой приравнивался едва ли не к инцестуальной связи. Эксцентричное предубеждение проистекало не из ненависти к литературоведению или лингвистике, а из страха сделаться частью той самой клановой системы, которая с детства отталкивала Глеба. Интеллектуалы, притворяясь инакомыслящими, идеально вписывались в окружающий ландшафт. Профессорские династии не с меньшим рвением, чем воровские кланы, следили за чистотой крови; управленцы и коммерсанты среднего и высшего рангов, чтобы минимизировать издержки и риски, с ранних лет сводили отпрысков между собой, цинично демонстрируя на собственном примере преимущества кластерного подхода; потомственные работяги зарождали в своих детях с младых ногтей подозрение ко всему, что хотя бы отдаленно напоминало ученость и высоколобие. Такого рода предопределенность, обретавшая сословные контуры, не вязалась в сознании Веретинского ни с истиной, ни с красотой, ни с благом – с теми ценностями, что воспевала университетская среда. Скорее клановость, как и любая закоснелая форма, сигнальными огнями свидетельствовала о мертвечине.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?