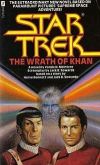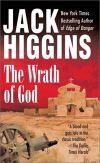Текст книги "Гнев"

Автор книги: Булат Ханов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Булат Ханов
Гнев
«Бюргер, чья жизнь расщеплена на сферу бизнеса и частной жизни, чья частная жизнь расщеплена на сферу репрезентированности в обществе и интимную, чья интимная жизнь расщеплена на угрюмое брачное сожительство и горькое утешение полного одиночества, разлада с самим собой и со всеми, виртуально уже является нацистом, одновременно и воодушевленным и все и вся поносящим, или же сегодняшним обитателем большого города, способным представить себе дружбу только в виде «социального контакта».
М. Хоркхаймер, Т. Адорно.
Сентябрь
1
Ведьма элегическая!
Глеб провел пальцем по экрану, чтобы перезапустить видео.
Это же надо. Накраситься поздним вечером, надеть кремовое платье в кукольном стиле, зажечь свечи, оседлать подоконник, взять в тонкую белую руку томик лирики и зачитать с ученической выразительностью, как в пятом классе перед доской, «Гимн Красоте». И добавить к видео подпись, чтобы до всех дошло: «Это Бодлер случайно попался на глаза…»
Стройный ряд подписчиков из «Инстаграма» всерьез ведь решит, что Алиса окружает себя свежими цветами и то и дело – случайно, само собой – натыкается на классиков, разбросанных по квартире. Глеб-то знал, что без штукатурки на лице и без платья, делающего Алису похожей на нежную и возвышенную девочку, в кадре останется лишь опошленное бездарной читкой и манерным обрамлением стихотворение великого поэта.
Человеку двадцать шесть лет, между прочим.
Ирония в том, что, вздумай Глеб воткнуть зубоскальный комментарий, его бы упрекнули. Сочли бы оскорбленным бывшим и сказали бы, что нужно сохранять лицо после поражения. Обвинили бы в низости, злорадстве и – ключевое – в поведении, недостойном мужчины.
Чтобы отвлечься, Веретинский отложил телефон в сторону и снова уставился в монитор. Кем же надо быть, чтобы субботним вечером править годовой план. В одиночку. На кафедре. Выцеплять нестыковки в программе, которую затем бедолага из канцелярии, проклиная свою долю, будет проверять на предмет нестыковок.
У Глеба имелось марксистского рода подозрение насчет того, почему преподавателей, прикрываясь благой идеей контроля за качеством, нагружали отчетами, рейтингами, справками, планами, списками, сведениями, анкетами. Те, кто наверху, преследовали задачу держать слуг режима в постоянной занятости. Примерно по тем же соображениям детей заставляли таскаться в школу – чтобы не слонялись по улицам без дела.
Едва справишься, поднимешь голову, разомнешь одеревенелую шею, бегом отнесешь все папки в учебно-методический отдел, уже пора строчить статьи – для РИНЦ, для ВАК, для «Скопус». Сначала ты работаешь на индекс Хирша, затем… Хотя нет, ты всегда на него работаешь. Индекс Хирша – мерило твоей интеллектуальной пригодности.
В дверь аудитории постучали. В образовавшемся зазоре показалось лицо робкой мальчишечьей породы Типичный филолог-пацан, щуплый, невзрачный, в потертых джинсах и помятой толстовке.
– Здравствуйте, Глеб Викторович! Разрешите?
– Валяй.
Студент переступил через порог и застыл у книжного шкафа, напряженно всматриваясь в корешки за пыльным стеклом, будто и правда был увлечен кафедральными изданиями. На майский зачет Алмаз по надуманной причине не явился, а на июньской пересдаче Веретинский загонял его по полной. Все равно стипендию парень, как должник, уже потерял. В итоге Алмаз завалил и вторую попытку, долг перекинулся на осень. Теперь от решения Глеба зависело, отчислят заблудшего воробушка или нет.
Студент прошествовал за длинный кафедральный стол и вопросительно приподнял бровь.
– Ручку с листочком доставать?
– Не надо.
Глеб свернул окошко с годовым планом, встал из-за компьютера и подсел к парню, сцепившему руки в замок. Тот, должно быть, гадал, до каких пределов простираются жестокие и гнусные помыслы Глеба Викторовича.
Алмазу бы побывать на рандеву с профессором Щегловым с журфака. Вот уж кто обрел бы себя в инквизиции. Сперва выбросит корявую остроту про «неприлично отросшие хвосты», затем примется вытрясать из жертвы содержание курса, а напоследок замучит высокоморальными изречениями. И не факт, что после всего не отправит на пересдачу. Есть типы, которые упиваются чужой ненавистью.
Глеб же не любил, когда его ненавидели.
– Долг у тебя последний? – уточнил он.
– Последний, Глеб Викторович.
– К строевой годен?
Вместо ответа студент растянул губы в кислой улыбке.
– Давай начистоту, Алмаз. У меня нет ни малейшего желания вершить твою судьбу. Мечтаешь носить форму и петь гимн каждое утро – твое право. Я сообщаю об этом в деканат, и ты спокойно ждешь повестки, не тратя нервы на стиховедение и прочую ерунду. Хочешь учиться дальше – я расписываюсь в твоей зачетке. Твой выбор?
– Конечно, учиться, – несмело, точно чуя подвох, произнес студент.
– И я так считаю. Не буду пугать тебя марш-бросками и чисткой унитазов зубной щеткой. Лучше приведу в пример своего друга, который отдал армии семь лет. Он банально устал от скуки и рутины. А устав, уволился и открыл свою пекарню. В университете, конечно, тоже есть приказы и распоряжения, но компания поинтереснее, чем в казарме.
– Простите, пожалуйста, Глеб Викторович, что так получилось. В июне, в первый раз, я не пришел, потому что… – затараторил Алмаз.
– Давай уже зачетку. Ведомость принес?
Спустя миг студент извлек из портфеля и зачетку, и ведомость со всеми штампами и печатями. Глеб снял колпачок с ручки и занес ее над раскрытой зачеткой.
– Помнишь хоть, что сдаешь?
– «Анализ лирического произведения».
– Именно. Простой предмет. Если на нем спотыкаться, что тогда впереди?
– Обещаю не запускать процесс, – заверил Алмаз. – Я просто стихи не люблю. Сам удивляюсь, как ЕГЭ сдал.
Глеб отвел занесенную над зачеткой ручку и поднял голову.
– Когда возлюбленную Колчака, Анну Тимиреву, арестовали, Дзержинский велел ее освободить. Мы за любовь не сажаем, сказал он. Знаешь, кто такой Дзержинский?
– Какой-нибудь политик?
На лице Алмаза появилось упадочническое выражение. Видимо, решил, что препод передумал аттестовать без боя.
– В своем роде, – сказал Глеб и проставил зачет, к вящей радости студента. – Мораль сей басни такова, что и любовь, и нелюбовь к стихам не несут за собой юридических последствий. Главное – это все же умение вникать в суть вещей, а не питать к ним симпатию.
Веретинский протянул студенту заветные зачетку и ведомость со словами:
– Как ни парадоксально, лучше разбираться в стихах, чем получать от них наслаждение без понимания.
Перед глазами Глеба встала Алиса с Бодлером в ее исполнении. Жуть инфернальная. Впрочем, кому как.
Благодарный студент выскользнул за дверь. В сущности, не вина Алмаза, что его вынуждают соответствовать стократ поруганным и попранным просвещенческим идеалам.
Глеб мог поручиться, что студент раструбит одногруппницам, как странно вел себя препод, какую порол чушь. Дзержинским стращал.
А Тимиреву все-таки посадили.
2
От дома Глеба отделяли двенадцать минут при условии, что он выбирал вальяжный шаг трудового обывателя, честно расправившегося с рабочим днем и незаметно для себя угодившего в бытийный зазор между функцией служебного винтика и статусом ответственного семьянина.
Сегодня Веретинский изменил маршрут и двинулся в противоположную от дома сторону. Путь пролегал к «двойке», университетскому корпусу, который часто мелькал на казанских открытках. Глеб учился в нем в славные времена, до реструктуризаций и кадровых трясок. Тот университет ассоциировался с Толстым, Лобачевским, Бутлеровым и Лениным и представал самобытным пространством со своими милыми академическими излишествами, традициями, ритмом, почерком, а не частью огромного империалистического проекта, как сейчас. Теперь здесь время от времени появлялись с пламенными лекциями агитаторы из «Единой России», которых Веретинский именовал политруками, студентов сгоняли на выборы, а в речевой обиход точечно вводили либеральные словечки вроде «модернизации», «роста», «конкуренции», «инициативы», означавшие что-то недоброе, такое, что не улавливали толковые словари.
Из-за диссонирующих образов преподаватель избегал некогда обожаемую библиотеку. На втором этаже в ней открылся Сбербанк, а на третьем устроили конференц-зал для важных шишек. Со стен сняли таблички с изречениями Лобачевского, заменив их стендами с цитатами политиков и бизнесменов о труде, свободе выбора и капитализации знаний. Нелепей всего, что лифт в библиотеке так и не починили.
Умом Глеб понимал, что рассуждает как типичный агент ресентимента, как посыльный на службе гуманитарного знания. Понимал, что его растроганность превращается в озлобленность, пусть и обоснованную, но смешную в густо рассеянных идеалистических притязаниях.
Несмотря на это, четырехугольник между Главным зданием, «двойкой», физфаком и химфаком оставался для Веретинского самым любимым участком на городской карте и приравнивался к святым местам, куда ходят с поклоном. Здесь Глеб, оберегая самообман, с трудом контролировал собственную неуемную впечатлительность, потому что в нем оживали благие воспоминания. Здесь накатывала та самая неясная тоска – тоска неясная о чем-то неземном, куда-то смутные стремленья.
Ненавистную улицу Баумана Веретинский пересек по привычке торопливо. Здесь несколько лет назад на месте двух книжных открылись сувенирные лавки. Хрестоматийный образец подмены подлинной культуры фетишем.
Дальше по курсу располагалась хинкальная. В достославные времена тут размещалось кафе «Горожанин». В нем Глеб с однокурсником Славой организовали попойку по случаю успешного зачета по украинскому языку, а затем на улице сцепились с пьяными школьниками, отмечавшими последний звонок. Глеба со Славой отвезли в участок. Спустя годы курс украинского вычеркнули из программы, а участок прогремел на всю Россию. Местные охранители до того усердно старались пришить кражу мобильника молодому программисту, что порвали ему задний проход бутылкой от шампанского.
Книжный клуб-магазин «Сквот». Из серии «Нельзя не набрести». Тут собиралось сто двадцать пятое по счету городское поэтическое объединение, читались лекции, сюда стекались на тематические встречи автостопщики и ценители артхауса. Весной Веретинский выступал в клубе с сообщением о русском авангарде перед группой хипстеров и до конца так и не смог определить, поняла его аудитория или нет.
Поколебавшись, Глеб вошел.
Крутые ступени вели в подвал. Преподавателя в очередной раз позабавила надпись «С электронными читалками вход воспрещен». Словно какой-то чудаковатый фермер, в грош не ставивший тракторы и бензопилы, до сих пор предпочитал им плуг и двуручную «Дружбу».
В подвальной комнате размером с залу в дворянских особняках ощущение инородного пространства усиливалось. На полках массивных книжных шкафов в произвольном порядке обитала самая разная литература: от трудов античных философов с развернутыми комментариями до пособий по машиностроению и синергетике, от раритетных изданий с «ятями» и «ерами» до книг новоиспеченных букеровских лауреатов.
– Глеб Викторович, здравствуйте!
– Добрый вечер, Саша!
Сегодня девушка предстала в длинной юбке и в свободной рубашке с круглым воротником. Рубашка напрасно скрывала фигуру, наделенную красотой и гармонией античной скульптуры.
Формально магазином владел супруг Саши, сколотивший себе состояние в аптечном бизнесе. Он подарил «Сквот» грезившей о собственном книжном жене, однако все знали, что заправляет тут Саша – и делает это мастерски, особенно для обладательницы философского образования. Глеб был убежден: попробуй кто-нибудь отнять у нее «Сквот», хрупкая брюнетка с неизменной ярко-красной помадой на губах и густо подведенными глазами, выделяющимися на бледном остром лице, с оружием встанет на защиту своей мечты.
– Как у вас дела? – спросила Саша. – Давно не появлялись.
– Не довелось, – сказал Глеб. – Летом в ваши края не забредал.
Преподаватель обогнул копировальный аппарат и направился к шкафу, стараясь при этом держаться вполоборота к девушке. Скорее всего, идея с ксерокопией, с продажей тетрадей и прочих скрепок-стиралок принадлежала Сашиному супругу. Мечта мечтой, а одними книжками не проживешь.
– Я решила, что вы расстроились из-за того выступления про авангард, – сказала Саша. – Слушателей мало пришло.
– Еще чего, – ответил Глеб. – Тема такая. Я же не о соционике рассказываю, чтобы залы собирать.
– Надеюсь, вы не в обиде на «Сквот».
– Саша! Моя любовь к «Сквоту» безгранична, как лимит доверия русской литературе. Вот не сойти с места.
За стеной располагалось и другое помещение – с журнальными столиками и креслами. Там обычно общались, попивая кофе с бисквитами, играли в «шляпу» или обсуждали что-нибудь далекое от реальности, как последний фильм Триера. Судя по тишине, в субботний вечер Глеб был единственным посетителем «Сквота».
– Как лето провели, Глеб Викторович?
– О, его я не забуду.
– Столько впечатлений?
– Я бы так не сказал. Собирались с женой в Ялту, а у нее сильно заболела мать. Поездку отложили. Зато благодаря свободному времени написал целых две статьи.
– Сочувствую, что планы сорвались. С мамой все в порядке?
– Слаба, но теперь ей уже лучше. Спасибо.
Типичные диалоги отдаленных знакомых. Лишь бы никаких вопросов о погоде. Их Глеб счел бы за оскорбление.
Он взял с полки первую попавшуюся книгу. Что-то о ведах.
– У нас все бессистемно расставлено, – сказала Саша. – Надо бы рассортировать по алфавиту и тематике.
– Алфавитно-тематическое распределение – это фашистский способ организации пространства.
– Да что вы такое говорите!
Саша засмеялась.
– Может, и не фашистский, а для деловых особ. Для тех, у кого нет времени проводить в книжном магазине больше пяти минут. Я же люблю потрогать обложку, пробежаться глазами по аннотации. Замечала, что большинство из них пишется дилетантами? – С этими словами Веретинский достал сборник Кинга «Все предельно» в болотного цвета обложке и развернул титульником к Саше. – Великий и ужасный Стивен Кинг, долгих ему лет. Слушай. «Пятнадцать леденящих кровь историй от жестокого и агрессивного эстета тьмы. Пятнадцать дверей в мир страха, боли, обреченности». Дичь.
– Дичь, – сказала Саша.
– Любой мало-мальски разборчивый читатель, воспитанный на классике, после такой аннотации к книге не притронется, – сказал Глеб. – Между тем сборник хорош. Взять хотя бы заглавный рассказ. История о том, как важно правильно распорядиться талантом. Иронично, что творец осознает это только тогда, когда он оброс связями, когда он уже вписан в систему и вовсю разбрасывается своими исключительными умениями. И он вынужден делать запоздалый выбор, на что расходовать остатки опороченного дара.
– Не читала, – сказала Саша. – Заинтриговали.
– Кинг – стоящий автор. Не Гете, конечно, но внимания заслуживает.
– Он модный. Это наталкивает на подозрения. – Саша помедлила. – Так, наверное, некоторые читатели рассуждают.
– «Модный» – точное слово, – сказал Глеб. – Жаль, его испортили. Шекспир, Бальзак, Диккенс, Толстой – эти ребята при жизни считались модными, а теперь недосягаемы для критики.
– Я люблю Диккенса, – сказала Саша.
– И я. Он оптимист.
Веретинский раскрыл наугад тяжелый том «Под сенью девушек в цвету». Глаза выхватили монструозное предложение на полстраницы. Неужели в это вникает кто-то, кроме переводчиков?
– У русских литературоведов есть неприятная черта, – сказал Глеб. – Те книги, которые им неинтересны, они часто объявляют недостойными. В особенности это касается фантастики. В этом чувствуется снобизм. Сколько добротных авторов отвергается с ходу, даже представить страшно. Лавкрафт, Ле Гуин, Саймак, Кинг. Я не утверждаю, что они ровня Хемингуэю, Сартру, Томасу Манну. Суть в том, что эти писатели не заслуживают того, чтобы о них умалчивали.
– Сурово вы литературоведов! – сказала Саша.
– Пока они нас не слышат.
Девушка смущенно улыбалась за кассой.
– Разоткровенничался, – сказал Веретинский. – Выболтал профессиональные тайны.
Преподаватель вытащил с полки томик Китса. Британское издание. Лондон, 2006. В бытность студентом Глеб прикупил себе для коллекции Байрона в оригинале и прочел всего два стихотворения – «She walks in beauty» и «Love & Death».
– Глеб Викторович, вы же картины не видели, – сказала Саша. – Надо было первым делом показать.
– Какие картины?
– Казанских художников. Они в соседнем зале.
– Я из казанских художников только Лану Ланкастер знаю. И Рамиля Гарифуллина. Честно говоря, если это их художества, то…
– Нет-нет, Глеб Викторович, это даже близко не Лана.
Саша повела Веретинского в другую комнату, включила свет и торжественным взмахом руки указала на полотна. Первая картина оказалась по-русски безрадостным пейзажем в окне поезда. На дальнем плане мучили глаз скошенная нива, склонившийся забор и две прогнившие хибары, точно нарывы на черной земле; а на переднем художник изобразил два стакана с подстаканниками и засаленную колоду карт на вагонном столике. Слишком типично, чтобы вызвать бурю эмоций.
Вторая картина, размером с постер, притягивала и отталкивала одновременно. Супруги, обращенные в профиль, в сумерках сидели по противоположные стороны кухонного стола, впившись друг в друга глазами. Так друг на друга не смотрят даже враги – столько укора источали их взоры. Старательному реализму пейзажа с домами-нарывами здесь словно противопоставлялась обманчивая небрежность гротеска. Каждый штрих на месте. Обои леденистого оттенка, открытый холодильник, извергающий потустороннее свечение, окутанная зеленой аурой плита с зажженными конфорками, ночь с размазанными по небу звездами в незанавешенных окнах, немая неприязнь на лицах супругов. И что-то еще в их взглядах. Усталость? Тоска?
– Определенно талантливо, – сказал Глеб, смущенный тишиной. – Безмолвная боль затаенной печали.
– Мне тоже она больше нравится, – сказала Саша.
– Плохо разбираюсь в живописи двадцатого века. Конечно, соц-арт от гиперреализма отличу, как и Поллока от Уорхола. А это – вещь. Выдающаяся. Почерк мастера.
Веретинский почувствовал, как краснеет. Нет чтобы заткнуться и не строить из себя эксперта.
– Она продается, – сказала Саша. – Двенадцать тысяч.
– Шутишь? Ей цены нет.
– Без шуток. Двенадцать тысяч.
– С рамой?
Веретинский продолжал пороть чушь.
– Естественно! – Саша улыбнулась.
– Однозначно беру, – сказал Глеб. – Повешу в кабинете. Это штучное явление, предпочту его собранию сочинений любого из авторов.
Преподаватель достал кошелек. Значит, так, это вместо сорвавшегося Крыма. Лиде он объяснит. Картина ему нужна, и это не обсуждается.
Глеб пересчитал купюры и беззвучно выругался.
– Можно картой расплатиться?
– У вас есть «Сбербанк онлайн»?
– Секунду, – сказал Веретинский. – Секунду. Так. Диктуйте номер.
На улице Глеб крепче сжал обернутое в упаковочную бумагу полотно, недоумевая, что на него нашло. Не Бог ведь нашептал, в конце концов. Купил картину и с легкостью расстался с двенадцатью тысячами, не обмозговав покупку. Обе вещи с Веретинским произошли впервые. Это против его правил. Показное пренебрежение к деньгам вызывало у него такое же раздражение, как и скряжничество.
Свидание с «двойкой» переносилось. И домой Веретинский поехал на автобусе. Весь путь он думал, как отреагировала бы Лана Ланкастер на известие, что кто-то в ее городе, совсем поблизости, пишет картины заметно лучше. Наверное, ее паралич разбил бы от зависти. Позолота бы точно с нее стерлась, обнажив… Даже представить страшно, что бы обнажилось.
У подъезда материализовалась потрепанная бесформенная алкоголичка, местная достопримечательность. В тапочках, в фиолетовой кофте из свалявшейся шерсти, в колготках, в каких старухи на рынке хранят лук. На голове гнездо из волос огненно-рыжего цвета. Предельно неебабельная, как выразился бы Слава. До ушей Веретинского донеслось неделикатное бубнение.
– Сигаретой угостишь?
Его обдало дыханием смерти. Он захлебнулся в хохоте и ушел, воображая, как эти человекообразные руины подыхают в канаве от асфиксии.
В лифте Глеба ни к селу ни к городу настигли строки: «Сердце изношено, как синие брюки человека, который носит кирпичи».
3
– Глеб?
Нет, ты чего, Комаров Москит Львович.
– Глеб, привет. – Лида появилась из зала. – В университете задержался?
– Привет. Должник зачет сдавал. Я тебе говорил.
Лида неловко замерла в трех шагах. Еще весной они перестали всякий раз обниматься при встрече.
– Что принес?
Взгляд Лиды был прикован к полотну в руках Глеба.
– Картина, – сказал он. – Неожиданно досталась. Потом объясню.
– Ладно, – сказала Лида. – Горячую воду отключили.
– Снова?
Она кивнула.
– Я тебе согрела. Давай полью.
– Спасибо, не надо. На улице жарко, помою холодной.
– Давай.
– Правда, Лида, не нужно.
– Нужно. И лицо сполоснешь, чтобы приятно было.
Глеб упустил момент, когда втянулся в эту игру. Игра повторялась вновь и вновь. По правилам Лида неназойливо настаивала, а он до поры отнекивался, чтобы сдаться. Или не сдаться, если исход важен.
Пока Лида наполняла на кухне ковш, Веретинский отнес в кабинет картину и дипломат.
Из телевизора разлетались знакомые голоса. Это ее любимое скетч-шоу. Одно из тех, где актеры изо всех сил притворяются смешными. Многие им даже верят. Лиду они точно убедили.
Глеба оглушило взрывной волной закадрового хохота, так что он быстрее скрылся за Лидой в ванной. Смех усмейных смехачей.
– Почти остыла, – сказала Лида, прежде чем полить.
Глеб сложил черпачком ладони, зажмурился и окатил лицо. Из крана, должно быть, не холоднее.
– Хорошо?
– В самый раз, – сказал Веретинский, потянувшись за полотенцем. – Ни разу не видел этот ковш.
– Ну ты даешь, – сказала Лида. – Прошлым летом еще покупала.
– Ты знаешь, – сказал Глеб, – среди посуды у меня мало друзей.
– В смысле?
Юмор этой женщине был определенно чужд, несмотря на увлеченность скетч-шоу и стендапами.
– Тарелка, чашка, блюдце, вилка и две ложки, маленькая и большая, – пояснил Веретинский. – Больше друзей нет.
– А, – сказала Лида. – Бокалы не забудь – для вина и пива.
Пока она досматривала свою передачу, Глеб ел рагу. Как ни крути, а кормила Лида бесподобно. И рагу, и борщ, и голубцы, и паста, и картофель, жаренный в кожуре, – по части готовки эта женщина давала фору ресторанным поварам. Даже компот она варила каким-то секретным способом, что сразу припоминались вкус, запах и ощущения родом из детства. Почерк избранных – умение смастерить блюдо так, чтобы оно тягалось с образцами детских лет.
Так совпало, что ужин Веретинского закончился вместе с так называемым юмористическим шоу Лиды.
– Покажешь картину? – сказала она.
– Только предупреждаю: она выполнена в непривычном стиле.
– Ты разжигаешь мое любопытство.
Глеб повел Лиду в кабинет, включил свет и без всякого изящества сорвал оберточную бумагу. Здесь полотно казалось другим, нежели в «Сквоте», но по-прежнему магическим и грандиозным – ни много ни мало. Лида исследовала картину долгим несведущим взглядом и в итоге не разделила ее очарования.
– Почему у них лица нечеткие?
– Что ты имеешь в виду?
– Глаза, рот, уши слабо видны, – сказала Лида. – Будто сплошная кожа. Неясно, то ли синие глаза у них, то ли карие, то ли серые. Даже заколка у нее четче прорисована, чем глаза.
– Полагаю, это сознательный ход, – сказал Глеб. – Художник отчетливо изобразил детали одежды и интерьера, а лица сделал смазанными, чтобы показать обезличенность героев. Не самый выдающийся прием, зато действенный.
– То есть?
– То есть это пустые люди. У них нет характера, нет воли, нет того, что отличало бы их от остальных. Они давно разменяли себя на вещи.
Лиду объяснения не удовлетворили. Глеб стоял как дурак с выставленным перед собой полотном, преткнувшись о ее молчаливое недоумение.
– Не нравится? – спросил он.
– Ты был прав, когда говорил о непривычном стиле, – сказала Лида. – Все-таки я не понимаю современное искусство.
Можно подумать, в классическом она разбиралась.
– Дело не в том, что это современное искусство, – сказал Глеб. – Это не элитарная чепуха, которую продают на аукционах за крупную сумму лишь потому, что авторитетный критик назвал эту чушь шедевром. Наверное, тебя насторожила мрачная атмосфера.
– Наверное. Она холодная, неприятная.
– Значит, автор сумел создать настроение.
Лида заглянула Глебу в глаза.
– Это не та художница?
– Какая?
– О которой ты говорил. Как там ее?
– Лана Ланкастер? Нет, ты чего. Это недосягаемый для нее уровень.
– А кто?
– Честно говоря, автор мне неизвестен.
– Тебе эту картину подарили?
Глеб ожидал этого вопроса, и все равно он поставил его в тупик.
– Нет, – сказал Веретинский. – Купил.
Настала очередь Лиды пребывать в замешательстве.
– Где? – спросила она.
– В «Сквоте». Знаю, тебя волнует цена, поэтому скажу сразу. Двенадцать тысяч.
– Что-о? – сорвалось с ее губ. – Глеб, ты с ума сошел?
– Это сокровище, – сказал Веретинский. – Мне повезло, двенадцать – это намного ниже его подлинной стоимости.
– Двенадцать кусков, Глеб!
– Лида, это грандиозное произведение. Ты не осознаешь, какова его реальная ценность.
– Двенадцать кусков! Три месяца квартплаты! У меня оклад ниже! Ты представляешь, сколько я за кассой торчать должна, чтобы оплатить тебе твою картину?
Веретинский едва сдержался, чтобы не наорать.
– Лида, погоди, – сказал он. – Допустим, что это сэкономленные летом деньги. Нечто вроде компенсации за отпуск.
Судя по выражению лица Лиды, такого допущения она не сделала. Не лучшая шутка и не лучший аргумент.
– Ты меня теперь до конца жизни попрекать будешь за то, что я тебе Крым обломала? Ничего, что ты книги каждый месяц заказываешь, чтобы на полку поставить? Или платишь за перевод статьи на английский, чтобы ее опубликовали в пафосном журнале? Можешь быть, это я на прошлой неделе переводчику пять кусков перекинула?
Глебу хотелось трясти ее, пока она не задохнется в своих проклятиях. Схватить за плечи и трясти. И одновременно втолковывать хриплым голосом, что от публикаций в «пафосных» журналах зависел его преподавательский рейтинг и доход, что без новых книг ему нельзя, что никаким Крымом Веретинский ее не попрекал.
Но он слишком часто ругался с женщинами, чтобы отвечать на каждое их обвинение и оправдываться.
– Лида, – сказал Глеб. – Я тебе истерик не закатывал, когда ты себе меховую жилетку прикупила.
– Совсем поехал? – сказала Лида. – Сравнивать одежду и это, нарисованное непонятно кем и для чего?
– Сравнение и правда неудачное, – сказал Глеб, – потому что жилеток можно сколько угодно сшить, а талантливые картины, как пирожки, не пекутся.
– Ты в своем уме? – гнула Лида. – Ты не понимаешь? Когда будет холодно, мне картину на себе носить, что ли?
Веретинский отвел глаза прочь, сфокусировался на часовом маятнике, набрал воздуха в легкие, чтобы не закричать.
– Не надо через каждое слово утверждать, что я сошел с ума, – сказал Глеб. – Это во-первых. Во-вторых, не ври себе. Жилетка тебе нужна не для того, чтобы греться. Свитер от холода спасает не хуже. В-третьих, прекрати на меня орать. Для этого нет поводов.
– Конечно, нет поводов, – сказала Лида. – Ты всего лишь выкинул на ветер двенадцать кусков, даже не посовещавшись со мной.
– Я зарабатываю и имею право тратить заработанное по своему усмотрению.
– Отлично! То же самое касается и меня. Завтра же накуплю шмоток. Устрою себе шопинг.
– Устраивай.
– Давно заглядываюсь на одно платье.
– Не стесняй себя в средствах.
– И на сумку.
– Классная идея. Удиви меня.
Лида таращилась на Глеба. Как запуганная выдра. У нее иссякли угрозы и аргументы, а момент, чтобы броситься на него с кулаками, она уже упустила. Он победил.
Как и всегда, с победой Веретинского настигло великодушие к поверженному противнику, неодолимое влечение к щедрому жесту.
– Лида, доверься моему вкусу, – сказал Глеб. – Чутье подсказывает, что это полотно будет признано выдающимся. Если так случится, я сумею продать его за сумму, которая в разы превышает потраченную.
– Думаешь? – Она не верила.
– Убежден. Ни о чем жалеть причин нет.
Само собой, он не расстанется с картиной ни при каких условиях. Да и художников развелось так много, что нужно постараться, чтобы заметить среди них великого. Вероятность, что полотно из кабинета Глеба объявят выдающимся, близка к нулю.
Лида укрылась в кухне и принялась нарочито греметь кастрюлями и ковшами. Стыдила его, звяканьем доводила до сведения, какой неблагодарностью Глеб отплачивает за ее незаметный труд, за каждодневный подвиг на кухне, за незавидную женскую долю.
Веретинский чудом не сорвался, усмирил гнев.
Он спрятался в ванной, щелкнул задвижкой и достал телефон.
4
В воскресенье, пока Лида была на смене, Глеб занимался картиной. Купил специальные двусторонние липучки, чтобы закрепить раму на стене.
Обои на полотне скорее походили на плавленый воск, чем на ледяную пустыню, как показалось вначале. Таким образом, стены в таинственной кухне напоминали лечебницу для душевнобольных – в обобщенном представлении, само собой. Тоже немного поводов для оптимизма. Супругов будто утомил бессмысленный поединок. Каждый из них отказался от победы, слова иссякли. There are many things that I would like to say to you but I don’t know how. Лиам, кажется. Или Ноэль?
Изваяния на картине равнодушно молчали, да и какая разница, кто из братьев это спел.
Обе лекции в понедельник Веретинский читал с воодушевлением. Отпускал шутки по поводу Ницше и декадентов, на память цитировал ударные фрагменты из брюсовского эссе. Как и обычно случалось после отпуска, Глеб ощущал бодрость. Ему пока не успели осточертеть бесконечные разговоры на одни и те же темы с одной и той же интонацией, скитания по коридорам и душным аудиториям, поэтому Веретинский не спешил убежать из университета сразу после занятий. До встречи со Славой он даже завернул на кафедру выпить кофе.
Изида Назировна принимала академическую задолженность у китайского студента. Оба исправно играли свои роли. Профессор в привычной надрывной манере выговаривала студенту, а китаец усердно кивал.
– «Житие протопопа Аввакума» отличается от предыдущих образцов жанра по целому ряду признаков! – Кивок. – Это первое автобиографическое житие, его автором выступил сам протопоп Аввакум! – Кивок. – Вот что я ожидаю от тебя услышать как минимум!
Руслан Ниязович наблюдал с противоположного конца стола, оторвав взгляд от ноутбука. Глеб следил за сценой из-за стеллажа, откинувшись с чашкой горячего кофе на спинку дивана. В подобные моменты немудрено вообразить себя всеведущим бархатным голосом из заэкранной проекции, надмирным рассказчиком, мастером давать персонажам ошеломительные характеристики, где документальные сведения смешиваются с деталями, какие герои либо с улыбкой упомянули бы в анкетах, либо предпочли надежно скрыть подальше от досужего любопытства и ревнителей моральных устоев. Сергей Трюфелев, тридцать два года, старший менеджер в мобильной компании, не женат, в восторге от тульского «Арсенала» и жареной индейки, в 2013 году на корпоративе упал голым в бассейн, бла-бла-бла. Забавный прием.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?