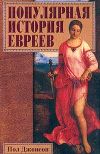Текст книги "Перверсивная хроника событий"

Автор книги: Д. Гастинг
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Е значит евгеника
В день, когда ей исполнилось восемнадцать, она проснулась в семь часов и сразу же рванула в паспортный стол – ещё ждать пришлось два часа, пока откроют. Сонная, в пергидрольных кудряшках паспортистка посмотрела на неё как на идиотку и сказала – слушайте, вам через два года так и так менять, потерпите уж два года, а? Ева в ответ тоже посмотрела на неё как на идиотку – этот взгляд она уже очень хорошо усвоила. Ещё два года ходить в Дуняшках, ещё чего не хватало.
Вместе с именем пришлось сменить и отчество, потому что Ева Федотовна смотрелось уже совсем анекдотично. Сначала ей не хотелось слишком уж радикальных перемен, и она готова была согласиться на одну только букву, Ева Фёдоровна, но так ей показалось ненамного лучше – что совой об пень, что пнём об сову. В общем, в топку это всё, пишите что-нибудь другое на Ф, да хоть Феликсовна, ну а чего, Феликс по крайней мере железный, а железность ей очень даже пригодится.
Ну а фамилию как? Фамилия у неё была Шпуева, что не рифмовали только лица, начисто лишённые поэтического таланта, и паспортистка, поначалу вялая, уже откровенно ржала; Ева психанула и сказала – знаете что, пусть ещё лучше рифмуется – и стала называться просто Шпуй. Ева Феликсовна Шпуй, студентка медфака.
Софья Сергеевна, как узнала, чуть со стула не свалилась, и Ева поняла, что в общем-то и Софья Сергеевна в неё не верила. Но это было неважно. Важно было только одно – что Ева верила в себя и в свой план.
Евины родители, идиоты, верили в Бога. Но что это за Бог, думала Ева, мог создать её родителей-идиотов? Бог, неспособный избавить человечество от явлений вырождения и наделить его исключительно полезными и выдающимися качествами, был, по мнению Евы, в разы никчёмнее паспортистки, способной переправить уродливое имя на нормальное.
Возможно ли с помощью хирургического вмешательства, специально подобранных лекарств и терапевтических процедур превратить человеческое существо с плохой наследственностью и зачаточным интеллектом в нечто большее, в homo superior?
Возможно ли победить наследственное слабоумие, психические отклонения, врождённую склонность к насилию?
Возможно ли в принципе поднять низшие существа до уровня, когда они смогут приносить пользу обществу?
Эти вопросы ставит в одном из своих замечательных романов современная писательница Дженнифер Макмахон. Ева, разумеется, никогда не слышала о Дженнифер Макмахон – последним художественным произведением для неё стал недочитанный Булгаков. Ответы на свои вопросы она предпочла искать эмпирическим путём. Ей нужно было, как хорошему скульптору, разобрать такое существо, убрать всё лишнее, а потом заново наполнить прежнее тело новым содержанием.
По ночам, корпея над всевозможными научными трактатами, над всеми доступными справочниками по селекции и евгенике, Ева разрабатывала свою уникальную методику, представлявшую собой сочетание лекарственной терапии, электрошока, гипноза, холодных ванн и сенсорной депривации. Методику, призванную полностью очистить сознание пациента от любых характерных свойств той личности, какой он раньше был – если он вообще был личностью.
Ева чудовищно уставала. Ева ненавидела химию. Но желание сотворить нечто уникальное было сильнее усталости и сильнее ненависти.
Единственным чувством, которое было ещё сильнее того и другого, стало чувство голода. Но тут тоже помогло обыкновенное, но всё-таки чудо – после семинара по гистологии, на котором Ева шлёпнулась в голодный обморок, ей предложила свою помощь сама королева курса Маринка Котова.
Маринка была красива, как ангел, и предприимчива, как чёрт. Если в три часа ночи вы внезапно вспоминали, что к завтрашней лабораторной нужны пыльца фей, моча единорога и кровь десяти девственниц не моложе семидесяти трёх лет, достаточно было позвонить Маринке. Маринка звонила Ленке, Ленка Таньке, Танька Петру Фомичу, и в семь часов утра всё необходимое предоставлялось вам в разнообразном ассортименте. Разумеется, при таком раскладе утруждать себя учёбой Маринке не приходилось – будущие медики чуть не дрались за право написать за неё реферат; денег хватало тоже, и скорее от желания обзавестись новыми связями, чем от необходимости зарабатывать на жизнь она устроилась на полставки провизором в аптеку возле института.
– Слушай, – сказала она Еве, когда та, пошатываясь, поднялась с пола и всем своим видом попыталась показать, что у неё всё в порядке и нечего тут суетиться, – я поговорю с Иваном Бенедиктовичем.
Так Ева устроилась в аптеку, совмещавшую в себе сразу два плюса: дела шли вяло, а деньги платились в срок. Ева спокойно читала свои бесконечные учебники, Маринка чатилась со своими обожателями, периодически заходил какой-нибудь малахольный, требовавший свечи от запора или мазь от геморроя, и Маринка рассыпалась в любезностях. Ой, да что вы смущаетесь, подумаешь, свечи, зато у вас подсвечник красивый. А уж если кто-то брал презервативы, их она вручала торжественно, как Нобелевскую премию, и, чуть скосив глаза, многозначительно шептала: приходите к нам ещё. Ева совала покупки, не глядя на покупателей, и вновь утыкалась в книгу. В аптеке, в кромешной темноте общежития, в очередях, в метро, в лифте, в дверных проёмах, отчаянно пытаясь не засыпать, накачиваясь дешёвым кофе и дешёвым же портвейном, Ева разрабатывала комбинацию амитала натрия, метрозола и диэтиламида лизергиновой кислоты, ту самую комбинацию, что должна была принести ей абсолютную победу.
Так прошли первые четыре курса.
Ж значит жизнестойкость
На этой неделе ни мама, ни папа не пришли меня навестить. Не приходили они и на прошлой. О том, чтобы ещё когда-нибудь забрать меня домой на выходные, и речи быть не может – это и чокнутой понятно. С другой стороны, теперь им не придётся заморачиваться с кошкой, думаю я. И хорошо – эти Чевтайкины те ещё упыри.
Я смотрю на свои руки в глубоких шрамах, уже понемногу начинающих затягиваться, и понимаю, что не могу винить никого, кроме себя. Впервые за столько времени мне выпал шанс, и я, конечно, тут же умудрилась его просрать.
Мне очень скучно. Мне чудовищно скучно. Позавчера выписали Лерку, единственную мою подругу, насколько, конечно, можно назвать подругами двух больных на голову тёток. Впрочем, Лерка не была такой уж больной на голову. Лерка с её пышными кудрями, бойкими цыганскими глазами и жизнерадостной болтовнёй была здесь гостьей из иного мира, из мира адекватных людей. Если, конечно, можно как-то определить границы адекватности. В принципе, если подумать, адекватных людей вообще нигде нет, есть лишь те, кто по каким-то причинам не попал в нашу клинику.
Лерку в клинику привёл муж, неприятный тип с бегающими глазками, которому она наотрез отказала в супружеской близости. Такому я бы тоже отказала, знаете ли. Но Лерка мотивировала свою позицию тем, что у неё в интимном месте растут зубы. Этот факт её совершенно не расстраивал и даже радовал, гораздо сильнее волновало другое – будучи воспитательницей в детском саду, она очень хорошо усвоила, что зубы нужно регулярно чистить, где бы они ни располагались. Как бы добыть где-нибудь щётку и в лоскуты изодрать слизистую – вот в чём состояла одна из главных её забот. Здрасьте, а у вас не будет щёточки? – пропела она, в первый же день усевшись ко мне на кровать. Я хотела сказать, что средства личной гигиены у каждого человека должны быть индивидуальными, но раз я ни с кем не говорю, то я и тут ничего и не сказала. Нету, да? – разочарованно пискнула Лерка и пошла в соседнюю палату, где ей удалось раздобыть желанный предмет – в общем, не повезло его законной обладательнице.
А мне повезло. Лерка была бойкой, жизнерадостной и совершенно неунывающей. Она без конца травила байки из жизни детсадовцев, и я хохотала бы над ними, если бы моё горло было способно издать хоть какой-то звук. Но оно неспособно, поэтому я смеялась внутри себя – в отсутствие Лерки и это было недосягаемой роскошью.
Лерку нимало не смущало отсутствие реакции с моей стороны. Она относилась ко мне, я лишь теперь поняла, как к здоровому человеку – проверка, которой не прошли даже мои почти идеальные родители.
И вот теперь Лерку выписали. Завотделением, противная мордатая бабища, внушила Лерке, что её тайные зубы по какой-то причине выпали. Пару дней Лерка беззлобно и забавно ругалась, что теперь не сможет вести ютуб-канал и придётся вернуться к своим спиногрызам, а потом сказала: ну, не жили богато, нехрен начинать, зато муж теперь будет счастлив, должен же кто-то быть счастлив? Пожалуй, это самая мудрая мысль, которую я узнала за последние годы.
Наша палата рассчитана на четырёх человек. Моя койка – у двери, опустевшая Леркина – рядом, напротив обитают Наталья Васильевна и Сонечка.
Наталья Васильевна – очень древняя, полуживая старушка, уверенная, что сейчас конец февраля пятьдесят третьего года и самая насущная проблема, заботящая страну – выживет или нет вождь народов. Наталье Васильевне очень хочется, чтобы он не выжил, поэтому она просыпается в пять-шесть утра и сразу же заводит свои мантры.
– Сдохни, подлюка! Сдохни, кровопивец! Сдохни, сучий сын! – начавшись весьма безобидно, к вечеру эти ругательства переходят в такие поражающие воображение четырёх-пятиэтажные конструкции, что я даже пожалела, что отдала завотделением тетрадку и теперь мне некуда их записывать. Насколько я могу судить на слух, Наталья Васильевна в своих комбинациях ни разу не повторилась. Интересно, думаю я, глядя в её выцветшие глаза, кем она была до всего этого.
Сонечка – совсем юная худенькая девушка с морковно-рыжими волосами и светло-зелёными глазами, белки которых – постоянно красные от слёз. Всё происходящее в мире вызывает у Сонечки острую жалость. Она уверена, что самим фактом своего существования причиняет миру острую боль.
– Кроватке больно, что я на ней лежу! – восклицает она утром, едва проснувшись, тут же выпрыгивает из кроватки, совершенно голая. Санитарка Роза натягивает на неё халатик. Сонечка вырывается и кричит: халатику больно, что его надевают! Роза делает Сонечке укол, и она чуть успокаивается, но потом больно становится чашечке, в которую наливают кипяток, тарелочке, в которую кладут пюрешку, и пюрешке, которую кладут в тарелочку, а уж каково приходится унитазику – об этом лучше вообще не думать. Сонечку часто навещает мама, такая же худенькая женщина с морковно-рыжими волосами и тоже постоянно заплаканным лицом. Она обнимает Сонечку и прижимает к себе, а та, всхлипывая, что-то шепчет ей на ухо. Интересно, думаю я, глядя в её вечно красные глаза, кем она могла бы стать, если бы не всё это.
Интересно, если бы я могла выдержать всё то, что выдержала, сохранив при этом внутренний баланс – кем стала бы я?
З значит зацикленность
Хотя в те выходные, что я провела дома, я по полной обделалась, кое-что хорошее и полезное я всё-таки совершила. Я утащила из тумбочки маленькое зеркальце. Если меня с ним застукают, его, конечно же, отберут, потому что нам запрещено пользоваться зеркалами, но я сделаю всё, чтобы меня не застукали. Чтобы пережитый приступ не повторился, я никогда больше не рискну рассматривать в зеркальце всё свое лицо целиком. Я рассматриваю глаз, бледно-голубой и лишённый всякого выражения, рассматриваю свой ободранный нос, искусанную нижнюю губу, вовсе не отвисшую, как мне тогда показалось, пытаюсь собрать из этих осколков своё лицо и думаю – а кто такая я?
Но, к сожалению, все эти мысли сливаются и переходят в одну, грызущую мой мозг. Мыслью, за которую меня, по всей видимости, и упрятали в эту клинику. Мне не даёт покоя Тварь.
Даже сейчас, когда я должна думать о себе, о том, как мне выбраться отсюда, кем я была и какой мне стать, я думаю о ней – о той, которая была никем и стала никем, но при этом в психиатрической клинике оказались мы, а не она.
Ладно, признаюсь честно – я утащила из родительской квартиры не только зеркальце. Хотя что значит утащила? Он сам мне её подарил, потому что сделал больше фото на студенческий билет, чем требовалось, и лишнюю отдал мне, а чтобы вышло уже совсем ретро, на обороте написал «Зайчатке от Сергея». Зайчатка – это он меня так прозвал, потому что я однажды сказала «зайчатки гуманизма» вместо «зачатки», я, честное слово, оговорилась, и только потом уже нашла в Интернете этот прикол. Но это я всё к тому, что раз написано «зайчатке», так, значит, фото предназначалось мне.
Совершенно стандартное фото, тридцать на сорок, чёрно-белое, но я всё равно вижу, что глаза у него серо-голубые, а волосы – тёмно-каштановые. Они с папой, наверное, назвали бы первый цвет серенити, а второй каким-нибудь махагоном или чёрт его знает; я не то что не помню всего этого, я правда помню, папа, даже несмотря на таблетки, я просто изначально в этом не слишком хорошо разбиралась. Таланта к рисованию во мне заложено ещё меньше, чем у той Машки, чья лошадь походила на свинью. Поэтому поначалу я завидовала тому, как ты радуешься успехам Сергея, и мучилась оттого, что моим успехам ты так не будешь радоваться никогда, а потом поняла, что я могу ведь добиться их в другой сфере, и не только не бросила музыкальную школу, но даже и перестала её прогуливать. И всё-таки моим поступлением ты, мне кажется, гордился меньше, чем Сергеем в тот день, когда увидел его фамилию в списке поступивших в Школу-студию МХАТ. Впрочем, тут же сказал ты, я и не сомневался, что он поступит. Ну да, корвалол ты пил, разумеется, просто для удовольствия.
Мой папа талантлив во всех жанрах, но по-настоящему гениален как художник-анималист. Животные удаются ему значительно лучше людей, потому что, говорит он, на человеческих лицах отражено множество пороков, а животные чисты, как ангелы, и в то же время каждое звериное лицо по-настоящему индивидуально. Есть объективно некрасивые человеческие лица, есть плохо сложенные фигуры – но каждое животное совершенно, и отец с упоением рисует животных.
Сергей пришёл к нему за год до поступления, потому что волновался. Нет, вот он-то как раз не сомневался, что поступит, но переживал из-за того, что будет потом. Он с детства мечтал о карьере театрального художника по костюмам, но не обычного, а по-настоящему выдающегося. Ему не давала покоя слава Васнецова, Билибина и Бакста. Каждую неделю он приносил отцу пухлые стопки эскизов, и, пока тот восхищался, сокрушённо качал головой. Ну, это не ново, говорил он, и вот это уже было у Коровина, а это красиво только на рисунке, а на сцене будет фу. Понемногу отец начинал раздражаться. Ну чего вы от меня-то хотите, молодой человек, говорил он, вы гений, а я простой звериный художник. Ваши звери говорят, отвечал Сергей, и я хочу, чтобы вы научили говорить моих.
Одной из его заветных фантазий стал балет «Машенька и три медведя». Но ведь медведи не вполне подходят для балета, осторожно заметила мама за ужином – поскольку Сергей постоянно задерживался допоздна, отец предлагал ему поужинать с нами, и бывали случаи, когда мы успевали даже дождаться маму. Глупости, в один голос воскликнули папа и Сергей. Это дурацкие стишки про мишку косолапого искажают наше представление о реальности. Ты знаешь, сказал папа, что белая медведица за девять дней проплыла почти семьсот километров в арктическом море Бофорта?
Хорошо, сказала мама, но вам не кажется, что сюжет несколько банален?
Вот тут уже возмутился только Сергей. Это «Дафнис и Хлоя», воскликнул он, банальный сюжет. Он любит её, она любит его – действительно, какой простор для страданий. А в «Машеньке и трёх медведях» подтекстов столько, что… Не договорив, он поднялся из-за стола, стал широкими шагами расхаживать по кухне.
Вот представьте, что вы медведь, – сказал он и как будто сразу стал ещё выше ростом, плечистее, суровее. Огромный антропоморфный медведь, такой, с позволения сказать, пахан леса. Блатной. Вчера били морду лосю. Позавчера сожрали грибника. И при этом вы, – он тут же чуть ссутулился, осунулся, – уже немолодой медведь. Вы уже устали кому-то что-то доказывать (тут мама вздохнула). Порой вам хочется просто лежать под ёлкой и вылизывать пустую упаковку из-под чипсов. Но вы не можете, – его шаги стали резче, нервознее, – потому что должны постоянно бороться за свой авторитет. Вы боитесь, что он падает. Вы боитесь, что подрастают новые молодые медведи, которым ничего не стоит отжать вашу берлогу, изнасиловать жену и сожрать медвежонка. И тут какая-то малолетняя шелупонь зафаршмачила вашу постель. На глазах у ваших жены и сына. Тех, для кого вы должны быть не просто авторитетом, но непререкаемым авторитетом. Потому что, если вас перестанут уважать даже они – а после такого они точно перестанут – вам останется только повеситься на том дереве, какое выдержит ваше усталое мохнатое тело.
Или вот вы – медведица, – его походка стало плавной, тело словно приняло женственные очертания, – тоже антропоморфная, эдакая русская баба, которая и коня на скаку, и всё остальное. Целыми днями вы драите берлогу, варите кашу из веток и го… голубей дохлых, – поправился он, взглянув на меня, – отчищаете сортир после сожранного грибника и всё такое. Вас тошнит от этой бытовухи (тут вздохнул папа), вы поправились на пятьдесят килограмм, вы забыли, когда в последний раз смотрели на себя в реку. И вы ненавидите эту малолетнюю дрянь – не столько даже за то, что она сожрала вашу кашу, изваляла постель и изгадила всё, чего вы изо дня в день добиваетесь таким тяжёлым трудом, сколько за то, что она не такая, как вы, а вам уже никогда не стать такой, как она – тонкой, звонкой, беззаботно-дерзкой, способной послать к чертям все социальные нормы, по которым вы выстроили всю свою медвежью жизнь – но в этом вы не в силах признаться даже самой себе, потому что это значило бы подвести итог вашей медвежьей жизни как бесцельно прожитой.
Или вы – медвежонок, – голос Сергея стал тоньше, шаги короче, всё тело будто ужалось, – единственный ребёнок в семье, сокровище, свет в берложке. Мама уже не кормит вас молоком, но ещё вылизывает перед сном, и вы прекрасно знаете – что бы ни случилось, все грибочки, все консервные банки всегда будут доставаться только вам. Но недавно вы были в гостях у Кролика и видели его двадцать восемь братьев и сестёр. От этого шума, тесноты и нескончаемых воплей у вас разболелась голова. Теперь вам снятся кошмары, и вы кричите по ночам, и вы слышали, как мамина подруга спросила маму – не надумали за вторым? – и каким-то детским медвежьим чутьём поняли, что первый – это вы, и мама, конечно, покачала своей большой медвежьей головой, но кошмары всё-таки продолжают вам сниться, и вот теперь вы приходите домой и понимаете, что они воплотились, и в вашей кроватке – в вашей собственной кроватке! – лежит что-то голое, лысое, омерзительно-розовое, очень похожее на самых младших братьев Кролика, и вы понимаете – они всё-таки это сделали, пока вы валялись в яме на опушке, они родили вам замену, и теперь ничего в вашей жизни уже не будет таким, как прежде, и вас заставят с ним сидеть, и менять ему вонючие пелёнки, и чёрт знает что ещё.
Или вы – Машенька, – его походка стала расхлябанной, лицо – глуповато-дерзким, – девочка из неблагополучной семьи. Вас лупит пьяная мать и домогается отчим. У вас молодой растущий организм, но вы впервые в жизни досыта наелись, а потом впервые в жизни уснули на настоящей кровати, и мамины собутыльники не орали при этом не то что прямо над вашей головой – даже за стенкой, и вы впервые в жизни по-настоящему выспались, и вам кажется, что вы попали в рай – а потом вас всё-таки бесцеремонно расталкивают, и вы видите три склонившихся над вами буржуйских морды, видите этих су… ществ, – вновь поправился он, – у которых есть недоступные вам блага и которые совершенно их не ценят, воспринимая как должное то, что лишь на миг озарило вашу беспросветную жизнь, и сейчас они, вероятнее всего, вас сожрут, и вам страшно и в то же время вы думаете – зато я никогда больше не вернусь в своё убогое жилище, я умру здесь, пусть даже и во цвете лет, но зато счастливой, а это уже кое-что. И вот скажите, – Сергей выпрямился и снова стал самим собой, – разве это не гениальное произведение?
– Ну если так подумать, то да, – пробормотала мама.
– Вооот! – Сергей просиял. – И нужно, чтобы мои костюмы передавали всю его гениальность. А они, к сожалению, нет, не передают.
И он продолжал рисовать новые и новые эскизы – не только медведей, но и других зверей, одного за другим, одного за другим. Порой папа был счастлив, а порой совершенно растерян, и решил, что плату за уроки будет брать с Сергея не как с с остальных, а чисто символическую. Тогда Сергей стал тайком выспрашивать у меня, что нужно купить, и приносил то кастрюлю, то скороварку – всё, что могло облегчить домашний труд папы, надрывавшегося как та медведица.
Поступив в институт, он стал работать втрое больше. Преподаватели им восхищались. Студенты ему завидовали. Все институтские спектакли ставил он сам – был и сценаристом, и декоратором, и, конечно, художником по костюмам, и непременно исполнителем одной из главных ролей. На третьем курсе он пригласил нас с папой на «Бременских музыкантов», где играл собаку – и, по мнению папы, был в этой роли совершенно по-собачьи пластичен.
– Четыре животных, – объяснил нам Сергей, – это четыре евангелиста. У каждого свой ритм. Иоанн – это, конечно же, птица. Марк – собака, или лев, Лука – осёл, или телец, Матфей – кот, или ангел. Странная симфония – это Евангелие, звучащее в четырёх разных ритмах. Животные выброшены из успешного мира сухого закона, как и проповедники учения Христа – ведь первые христиане были гонимы, и христианство воспринималось как соблазн для иудеев и безумие для эллинов. Дом, который они занимают – мир вообще, или сознание людей. Они изгоняют оттуда бесов и устаревшее представление о жизни.
Сергей был невероятным. Он мог часами говорить о Гюго, Мопассане, Гриммельсгаузене, знал наизусть почти всех авангардистов начала двадцатого века. Когда ты успеваешь столько читать? – поражалась я. Он отвечал, что выделяет несколько дней в месяц, в которые не рисует, а читает, смотрит фильмы, впитывает и осмысливает, потому что без этого ни одному творческому человеку невозможно развиваться.
И всё это было только ради того, чтобы встретить Тварь и перестать развиваться вообще?
Я постоянно думаю о Твари. Даже теперь, когда надо думать о том, кто я, смогу ли я отсюда выбраться и кем стану, если всё-таки смогу, я думаю только о ней. Она и сейчас стоит у меня перед глазами – тощая, с грязными патлами, с гнилыми зубами, выпученными глазами цвета болотной жижи, с вечно обгрызенными под мясо ногтями, с отвратительно огромными губами, нижняя свисает до подбородка – того и гляди побежит слюна. Если я вижу её всегда, что же удивительного в том, что я увидела её даже в зеркале?
Думаю, поэтому я и попала сюда. Хотя, если честно, я совершенно не помню, как я сюда попала. Но вспомнила, почему больше не могу говорить – потому что, если скажу хоть слово, это будет слово о том, как я её ненавижу – а она и моя ненависть к ней не стоят даже слов, не стоят ни малейшего колебания воздуха, ни малейшего движения речевого аппарата. Лишившись речи, я лишилась возможности говорить о Твари – и с радостью избавилась бы от мыслей о ней, но я не могу.
Я утащила фотографию Сергея в надежде, что буду больше думать о нём и меньше – о Твари, но мысли о нём моментально переходят в мысли о ней и быстро сносятся их потоком. Почему так? Неужели ненависть сильнее, чем любовь? Я смотрю в его глаза цвета серенити, на фотографии просто серые, и спрашиваю их: почему ты сделал так, что ненависть во мне стала сильнее любви? Почему ты позволил той, что я ненавижу, уничтожить того, кого я любила?
Сжав фотографию в ладони, я выхожу в коридор, потому что и Наталья Васильевна, и Сонечка сегодня особенно разбушевались, так что в палате невозможно находиться. Сегодня приготовили какой-то особенно наваристый гуляш, из чего Наталья Васильевна сделала вывод, что раз мы теперь жрём по-человечески, то, значит, Сталин всё-таки подох. Это привело её в такой восторг, что она, забыв о своих больных ногах, попыталась сплясать «Барыню» и, естественно, рухнула на пол, ну а Сонечке стало так жалко и Наталью Васильевну, и пол, что она уже третий час голосит, не переставая, так что слышно в соседнем корпусе.
И вот я брожу по коридору туда-сюда, минут двадцать, а потом ко мне подходит потрясающе красивая девушка из соседней палаты. Она… не знаю, как это описать, она просто невероятно красива по любым мыслимым канонам – и глянцевой модельной красотой, и голливудской, и ренессансной, и ещё раньше, средневеково-иконной. Не понимаю, как она сочетает всё это в себе, но она сочетает.
Когда Сергей за очередным ужином сказал, что влюбился, я представила себе именно такую девушку. То есть сначала я не представила ничего. Резкая вспышка боли, пропоровшая всё моё тело насквозь, была такой острой, что у меня покраснело в глазах. Я, наверное, побледнела, потому что папа забеспокоился и вывел меня из-за стола, по пути ворча, что в жизни больше не будет готовить морской язык, раз ребёнку так от него плохо – бедный мой, глупый папочка. Почему-то эти его слова я слышала сквозь пелену боли довольно отчётливо, хотя они расплывались на концах, как жидкая акварель.
Лёжа в своей малиновой комнате, я корчилась от боли. Мне было семнадцать лет, и моё тело уже приняло окончательную форму, но разум ещё не свыкся с тем фактом, что именно в этом теле ему теперь предстоит существовать. Каждый день я искала у себя всё новые и новые недостатки – и, конечно, находила, потому что в семнадцать лет это особенно легко – но, как ни парадоксально, именно в то состояние нашего тела мы потом всю жизнь мечтаем вернуться. Моё воображение оказалось, не в пример мне, талантливым художником. Оно услужливо нарисовало мне образ, похожий на девушку из соседней палаты – как её зовут? Тоже какое-то неземное имя, не то Лина, не то Лана…
Она подходит ко мне и протягивает узкую ладонь с длинными тонкими пальцами.
– Смотри, – говорит она и начинает загибать их один за другим. Раз-два-три-четыре-пять.
Раз – и её идеальный овал лица, овал, который я в своём воображении рисовала сама, расплывается в мерзкую рожу Твари.
Два – и прекрасные миндалевидные глаза желтовато-медового цвета становятся выпученными буркалами цвета болотной жижи.
Три – и идеальный греческий нос растекается в картофелину.
Четыре – и безупречная нижняя губа отвисает до подбородка, а рот распахивается, обнажая гнилые лошадиные зубы.
Пять – и роскошные чёрные волосы, которые даже санитарки пожалели стричь, становятся прилизанным горшком.
– Смотри же! – говорит Тварь и так же медленно разгибает пальцы, и всё становится на свои места. Я вспоминаю, как зовут эту девушку – Илона. Господи, думаю я, как же ты чудовищно несправедлив.
– Теперь ты, – просит Илона, и я послушно разжимаю пальцы, в которых зажата фотография Сергея. При виде неё лицо Илоны светлеет. – Дяденька, – говорит она.
Я киваю и пытаюсь улыбнуться, но тут из палаты выбегает женщина лет сорока, имени которой я не знаю, она здесь недавно.
– Какой красивый мальчик! – восклицает она, глядя на фотографию, и заливается слезами. Мне тоже хочется плакать вместе с ней, но я не могу.
– У меня тоже был бы такой мальчик, – повторяет она, – такой красивый мальчик…
Интересно, думаю ли я, есть ли уже дети у Твари и Сергея. И если есть, то на кого они похожи, на Тварь или на Сергея, и если на Сергея, то как относятся к Твари? Вообще, конечно, ответ на последний вопрос очевиден: он воспитал их так, что они относятся к ней с той же любовью и тем же уважением. Я очень хочу заплакать, но не могу.
– Не плачь, – лепечет Илона и гладит женщину по голове. Я не могу и этого – так что ещё кто из нас с ограниченными возможностями. – Смотри, – говорит она и переворачивает фотографию. Женщина читает подпись и начинает рыдать ещё громче.
– От Сергея, – всхлипывает она. – Моего мальчика, моего красивого мальчика тоже звали бы Сергей.
– Подари, – просит Илона. – Подари мне дяденьку.
Господи, думаю я, и тут спасения нет от психов.
– Да пожалуйста, – говорю я. Если уж настоящего Сергея сожрала Тварь, пусть этой замечательной девушке достанется хотя бы его фотография.
– Спа-си-бо! – кричит Илона мне в спину. Не оборачиваясь, я ухожу в свою палату, где матерится Наталья Васильевна и вопит Сонечка.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?