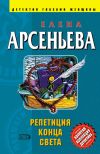Текст книги "Окаянная сила"

Автор книги: Далия Трускиновская
Жанр: Русское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
12
Дед Данила Карпыч оказался лекарем неуемным. Алене бы с Афимьюшкой посидеть, о бабьем заветном потолковать, а вредный дед зовет то заваренный корешок пить, то мазь какую-то вонючую растирать, то из отрубей припарку для чего-то готовить… Держал Алену в своем чулане, где не было видно стен под сушеными травами, сколь только мог, так что языкастая Парашка уже и причину тому нашла – не иначе, к лету посватается…
Или же посылал дед Алену в мастерские – то за ложкой кленовой, то за чашей липовой. Дивную деревянную посуду резали мастера промышленника Кардашова! Когда затяжелела Афимьюшка – усадил их Петр Данилыч обетные работы для всех окрестных храмов исполнять, и то, что привез сын его, Степан Петрович, в храм к разбойничьему батьке Пахомию, было большим корневым скобкарем, покрытым мелким и тщательно резанным узором.
Точили на лучковых станочках и высокие ставцы с крышками, и братины, да не хуже, чем в Троице-Сергиевой обители, а уж там мастера сидели ведомые. Возил Степан Петрович часть товара в Великий Устюг, а часть – в Москву, где Кардашовы держали по лавочке в Кремле и в Судовом ряду.
Алена старалась в мастерских побыть подолее – лишь бы не в дедовом душном чуланчике. Напоминала ей мастерская царицыну Светлицу – так же ладно сидят рядком мастера, делом занимаются, кто-то песню ведет…
А однажды вышла у нее там свара с молодым резчиком Ваней над недоделанной пряничной доской. Доски для печатных пряников резали знатные – как прижмешь такой тесто, так и поделит она пласт на шесть, а то и на восемь пряников, и каждый – своего рисунка: который с лошадкой, который с цветком. И тут втемяшилось тому Ваньке цветы с листвием резать, да такие, какие Алена вышивать собиралась еще в Моисеевской обители, по образцу с персидского атласа. Она пальчиком по рисунку провела – так, мол, завиток режь, а он обиделся: бабы-де ему еще тут не указывали! Алене мало печали с набухшим чревом – так еще и задиристый Ванька поперек слово молвит! А сам-то – давно ли без порток бегал? Так сцепились – пришлось за Петром Данилычем посылать, чтобы разнял.
– Да мои доски вся Москва знает! – возмущался Ванька. – Я что рыбку, что паву, что мужика, что бабу режу!
– Вот рыбок и режь! – возражала, раскрасневшись, Алена. – Посередке поля ее распластай и режь себе чешуйки! А листвие завитком пускать надо, чтобы под цветок уходило! Чтобы куст получился ровнехонький, как бы сам себя в обрамленье держит! Или, коли хошь, зеркало приставь – оно тебе и покажет, как узор вести!
Петр Данилыч, призванный угомонить спорщиков, постоял тихонько у косяка, слушая свару, потом вдруг решительно вышел, встал посередь мастерской, объявил:
– Мужики, а баба-то дело говорит. – Притихли мастера. – Пойдем, Алена Дмитриевна. Побеседуем. Потом покажешь, как зеркалом узор наводить. Ты, я гляжу, вышивальщица? – сообразил он. Обернулся у выхода: – А вы работайте, работайте! Почесали языки – и будет.
Привел Петр Данилыч Алену в горницу, сел на лавку, увесисто шлепнул по ней рядом с собой.
– Садись-ка, купецкая вдова Алена Дмитриевна. Ты о моем добре печешься – это мне любо. Совет тогда тебе дам… Исполнишь – не пожалеешь.
Алена молча села.
– Калашниковых младшей ветви было два брата, – сразу начал купец, – старший и младший. Ну да ты знаешь, Семен и Вонифатий. От младшего одни дочери пошли, да и те уж замужем, свою долю получили, а от старшего один сын остался, твой Василий. Стало быть, ему и наследовать было, а наследство немалое. Верно я говорю?
– Верно, батюшка Петр Данилыч, – согласилась Алена. Кабы и пожелала возразить – так купец получше нее все эти дела ведал.
– Теперь же, как его не стало, наследует тот, кого во чреве носишь. И если сын…
– Так то ж Федьки Мохнатого сын! – вскинулась Алена.
– Молчи, дурочка! Внемли. Никто не знает, чей там у тебя сын. Как родишь – бабка посчитает…
– Чего посчитает? – не сразу догадалась Алена.
– Дни посчитает, как там у бабок водится. Так вот – родишь ты с Божьей помощью сына…
– А ежели девка?
– Ежели девка – тоже неплохо, приданое у нее будет знатное. Вот Афимьюшка наша носит, и ты носишь. Младенцы родятся с невеликой разницей, ровеснички будут. Ежели, к примеру, у тебя – сын, а у нее – дочь… или наоборот… разумеешь?
– Так то ж Федькин сын… – безнадежно повторила Алена.
– А мне начхать. Был Федька, да весь вышел. Не по острогам же его теперь разыскивать!
Когда Алена угнала сани от церкви, Федька чуть ли не с версту гнался за ней по колено в снегу. Афоня, будучи в возмущении, схватил тем временем батьку Пахомия за грудки, и тот, разбойничий пособник, крича вслед Федьке, пригрозил ему сгоряча тяжелой рукой и ярым гневом дядьки Баловня. А как наставили на попа обе пистоли – так он и высказал все, что знал.
Степан Петрович хотя и был норовом помягче отца и послабее деда, однако тут не оплошал. Да и то – в кои-то веки на след Баловня напали! Связав Пахомия, дождались они с Афоней в засаде возвращения расстроенного Федьки и на него с двух сторон набросились. Федька, отмахавшись кистенем и увернувшись от пули, дал деру к лесу, Афоня погнался за ним, но упустил. Зато вернулся с добычей – пегой лошаденкой, заложенной в старые розвальни. На этих-то розвальнях и довезли пленного батьку Пахомия до Покровского монастыря в Хотькове, потому что ничего ближе не нашлось, а большой крюк делать не хотели. Сдали его с рук на руки игумену, который обещался под крепкой охраной отправить попа на Москву. С тем и вернулись домой – разминувшись, как и следовало ожидать, с Фролом, выехавшим вместе с помощником им навстречу.
Куда подевался Федька, так и не узнали, да, правду сказать, и не пытались: не то сокровище, чтобы его с тщанием отыскивать. Надо полагать, в застенке батька Пахомий выдал всех налетчиков поименно, так что по Федьке, возможно, уж следовало панихиду служить…
– А дитя твое – калашниковского роду выйдет! – вот к какой мудрой мысли подвел Алену Петр Данилыч. – Когда ты с ним на руках к свекрови явишься – никто по его роже не скажет, который ему месяц, поскольку явишься… ну, скажем, через полгода. Бабка месяцы сочтет и сколько надо ему прибавит, чтобы вышло, что ты к душегубу тому Федьке попала, уже имея во чреве. От Василия, не от Федьки! Поняла? Раз уж дитяти назначено на свет появиться, нужно, чтобы от него хоть польза была.
Алена вздохнула.
– Я сам с тобой к Любови Иннокентьевне поеду. Сам расскажу, когда родила и когда крестили. Попа уговорить можно. И будет Калашниковым наследник всего их богатства! То-то Иннокентьевна обрадуется! Там же и сговорим, чтобы их поженить, младенцев то есть, нашего и вашего. Пойми, дура, коли ты правду скажешь, одна тебе дорога – в обитель, к черницам, грехи замаливать. А коли скажешь по-моему – останешься при сыночке, растить его да холить. Может, и присватается кто… Иннокентьевна-то тебя из своего дома нищей не отдаст, я ее знаю – гордая! Мужика у них в роду не осталось, а имущества такие, что без мужской руки не управиться. Нешто бабье дело – за соляными варницами глядеть?
Алена подняла на купца глаза. Был он широк, крепок, неколебим. Рассуждал разумно. Все бы ладно, да только как же Алена к купчихе Калашниковой с младенцем явится и как скажет, что это Васенькино чадо?! Как же выпутываться-то теперь из своего вранья?
– А ты бы мне, Алена Дмитриевна, подошла, – добавил купец. – Ты в рукодельях смыслишь. Я вот собрался токарные станки ставить взамен лучковых, добрую круглую посуду точить да самим расписывать, а не сдавать чужим судописцам, расписная-то лучше идет. Видывал я на Москве ковши – с травами и червлеными цветами по белой земле. Нарядно выходит. А ты бы, думаю, такие мне узоры знаменила, каких ни у кого боле нет. Хоть с персидского атласу, хоть с татарского!
И снова вздохнула Алена, представив, как бы ходила хозяйкой по просторным мастерским, как бы узорам учила, как бы цвета подбирала… Стосковалась она по рукоделью своему!
– Не то что в Великий Устюг – в монастыри посуду поставлять бы стал! – совсем воспарил мыслью купец. – А хорошей посудиной и самой государыне поклониться не стыдно!..
Вранье, вранье сгубило все хорошее, что привиделось вдруг Алене. Быть бы ей купчихой, вести бы богатое хозяйство да растить дитятко, да за широкой спиной мужа – не баловника, не пьянюшки, хоть и пожилого, да жене цену знающего… чего бы лучше-то? Так нет же!
– И хозяйка в доме нужна. Афимью-то мы несмышленой взяли, моя покойница Маша ее и поучить не успела. А ты, коли у Иннокентьевны выучку прошла, управишься и по дому, и по мастерским. Я нежадный – коли будешь в дом нести, а не из дома, то и на торг с пустым кошелем не отпущу. И в храм Божий, и на богомолье – не хуже боярыни поедешь! Мы, Кардашовы, промышленники ведомые, нам жен на нищий лад водить негоже…
Сил не было слушать это!
Встала Алена.
– Неладно мне что-то…
– Ну поди, поди… – отпустил купец. – Приляг, подремли. А то в сад с Афимьюшкой ступайте. Дорожки-то, чай, уж просохли…
До сада Алена, однако, не дошла – перехватила ее Парашка.
– К Даниле Карпычу ступай! Сердится! Ишь, старый колдун! Ты с ним поосторожнее – не то такого на тебя напустит!..
В невеселых мыслях явилась Алена в чуланчик.
Дед сурово глянул на нее из-под сдвинутых бровей.
– Покорства в тебе нет, девка, – устыдил он. – Не дозваться.
– Кроме меня позвать, что ли, некого? – огрызнулась Алена.
– Тебя хотел. У тебя рука легкая.
– На кой те, дед Карпыч, моя рука?..
– Кровь мне надо сбросить, – хмуро отвечал дед. – Ну-ка, возьмись…
– Да не умею я, – пролепетала Алена.
– Управишься. За мисой сходи и мокрую вехотку прихвати. Научу…
Когда вернулась с мисой и мокрой вехоткой, Карпыч сидел, сильно наклонившись вперед – поясница не держала.
– Задери мне рубаху, девка, – велел он. – Нет, погоди. Тащи сперва из-под лавки укладку. Там две – ту, что больше.
Алена вытащила, открыла и, по дедову указанию, вытянула полый коровий рог. Рядом нашла и ножик с коротким лезвием.
– Этого довольно. Кровь мне отворишь на спине, возле лопатки. Рог на разрез наложишь, острый кончик в рот возьмешь и потянешь…
– Да ну тебя, дед! Не могу! – Алена даже шарахнулась от него. – Ведь я с чревом! Скину вот через тебя…
– Не скинешь. Ну?! Долго мне ждать? Аль сыну сказать?
Петра Данилыча Алена сердить не хотела – а ну как кинет в сани, да и повезет прямой дорогой к купчихе Калашниковой? Впрочем, хитромудрый его замысел – выдать Федькино дитя за калашниковское – тоже вгонял Алену в ужас. Однако тот обман был еще впереди, замышлялся на осень, до того времени много воды утечет, глядишь – что и придумалось бы…
Взяла она ножик, поднесла к широкой и костлявой дедовой спине, нажала – и никакой крови не было.
– Ты резани! Раз – и готово! – велел дед. – Поглубже! Что ты там пилишь? Я те не сосна! Давай, с Божьей помощью…
Разозлившись, Алена ткнула ножом, проколола кожу, и сразу же тонкая темная струйка поползла по спине. Бросив нож на пол, широким концом рога с ровно обрезанным краем она быстро накрыла разрез.
– Теперь отсасывай! Чтобы полный рожок крови, – распоряжался дед. – И в мису ее!
Алена покорилась, и чуть ей дурно не стало – до того боялась, что кровь губ коснется! Однако довольно ловко отняла она рог от дедовой спины и, зажав пальцем дырочку на остром конце, выплеснула кровь в мису. На ранку шлепнула мокрую вехотку.
– Слава те господи, теперь полегчает, – сказал Карпыч. – А ты, девка, запомни: кровь кидают, коли ноги отнялись, коли голова болит, коли плоть нарывами пошла. И та кровь, что выходит, – она дурная. Ну-ка, скинь-ка еще рожок. Говорил же, рука у тебя легкая. Давай, благословясь…
Алена, уже без прежнего страха, отсосала коровьим рогом еще столько же.
– Вот… теперь довольно.
– Так я, дедушка, пойду?
– Нет, еще побудь. Давай-ка вместе помолимся…
Алена помогла деду лечь, присела рядом.
– А ты, дедушка, в Кремле бывал? В Успенском соборе?
– Доводилось.
– А образ Спаса Златые Власы видел?
– И видывал, и маливался ему, – подтвердил дед. – То лик суровый, всякий твой грех видит, но и с сатаной за тебя ратует. То – воитель!
– Ему бы помолиться… – безнадежно прошептала Алена.
– Тебе перед Богородицей свечки ставить нужно, для разрешения от бремени, – сказал дед то, что она и без него ведала.
От цинги он Алену все же вылечил: язык во рту двигался теперь шустро и как сукровицу подтирать – уже и не вспоминалось. Но так-то уж настырно заманивал ее дед в свой чуланчик и далеко от себя не отпускал, что Алена подумывала порой: а не пожаловаться ли Петру Данилычу? Срок-то все близился, ей теперь с бабами нужно сидеть да бабьи советы слушать, а не дедову буркотню.
Парашка однажды прямо и без шуток сказала: чем дальше Алена будет от деда, тем для нее лучше, потому как Данила Карпыч смолоду вязался с ведунами да ворожеями, и если вдруг обнаружится, что была у него колдовская сила и на старости лет он передал ее кому-то, то она дивиться не станет.
Хорошо, выручала Афимьюшка: приходила и, приласкавшись к деду, уводила подружку в светлицу, где их ждали Параша и другие девки с шитьем. Сбоку на лавочке обычно сидела бабка Силишна, которая у всего села детей принимала. Петр Данилыч велел ее прикармливать и далеко не отпускать – в любой миг пригодиться может.
Вот Силишна и присматривала за Аленой и Афимьюшкой: через коромысло не переступи – на ногах нарывы сделаются, на падаль не гляди – у дитятка изо рта плохо пахнуть будет; с перепугу за личико рукой не хватайся – чтобы у младенчика пятна от уха до уха не получилось. А главное – в пятницу волосы не чесать! Коли это все соблюсти – роды тяжелыми не будут. Словом, от бабкиных премудростей не было продыху, как и от дедовых причуд, но была такая забота Алене приятна – мало кто в жизни так-то ее холил и лелеял.
В обеденную пору Алену с Афимьюшкой отдельно кормили. Сами-то Петр Данилыч со Степаном по-простому ели, с мастерами.
– А то еще, говорят, в чистой рубашке рожать надобно, – задумчиво сказала Афимьюшка, покончив с нынешним обедом. – Давай-ка, свет, поевши, короба переберем. Выберем тебе и мне по рубашечке.
– А вот одно средство Силишна забыла, – заметила Параша. – Говорят, коли роды трудные, нужно спрыснуть бабу особой водой…
– А что за вода, Паранюшка?
Девка сделала страшное лицо.
– А то и вода, что в ней змеиная выползина была бы вымочена! Как змея-скоропея легко из выползины вылазит, так бы и дитятко…
Поперек горла встал этот совет Алене. Тут-то ее и прихватило: дыханье занялось, глаза на лоб полезли. И не столь больно, сколь страшно сделалось.
– Ой, да что это с тобой, господи оборони? – всполошилась Афимьюшка. – Ох, да не срок ли твой пришел? Ахти мне! Глупая я, бабку Силишну домой ныне отпустила! Парашка! Паранюшка! Беги за бабкой Силишной!
– Ахти мне! – завопила и Парашка, выбегая из горницы.
Алена привстала и снова опустилась на лавку.
– Сейчас, сейчас! – кинулась к ней Афимьюшка. – Потерпи, Аленушка, голубушка, потерпи малость! Сейчас Силишну приведут. Что, отпустило?
– Чуток… – прошептала Алена.
– Ты сиди, сиди, не шелохнись! – распоряжалась Афимьюшка. – Посиди без меня, я скоренько – велю баньку затопить. И сразу же – косу тебе расплетать! Ты не бойся! Мне Силишна говорила – когда баба впервые бабье дело творит, она загодя вопить начинает. Пока баньку истопят – твое дитятко и поспеет! – И вдруг тихонько запела: – Бог тебя послал, Христос даровал! Пресвятая Похвала в окошечко подала, в окошечко подала…
– …Авдотьюшкой назвала, – еле заставив себя улыбнуться, продолжила Алена.
Уж давно назвала – сообразив, что родится доченька в начале августа, как и Дуня.
И как ладно было бы не в чужом доме, не накануне позорного разоблачения, а хоть в конурке, да в своей, баюкать маленькую Дунюшку!..
И вот же она – просится на белый свет!..
Спасе!..
13
– Не горюй, Алена Дмитриевна, молода еще горевать, – сказал Петр Данилыч. – Велик Господь, призрит и на тебя. – Стоял он, приземистый да широкий, хмуро склонив голову и черную с проседью бороду в грудь уперев. Отродясь слов жалостных не знал – а тут вдруг понадобились.
Ничего не отвечала Алена. Лежала она, совсем обессилевшая, на лавке, меховым одеяльцем по личико покрытая, ручки бледные уронив.
– Мое слово крепко, – со значением добавил купец, повернулся и вышел. Немужское то дело – баб утешать.
А Силишна с Парашкой, притихшие было за печкой, разом к ней кинулись.
– Аленушка, свет! Хоть словечко молви!
Нечем молвить словечко. Каменный рот, каменные губы. И зябко. Лето на дворе, а зябко.
И смотреть на людей скушно. И слушать их тоскливо.
Что ж теперь будет-то?
И за какие грехи ей кара?
Поняла Алена, каково было Дунюшке, двух младших схоронившей.
Но ей легче, право, легче. Дуня пусть и государыня, однако не окружили ее в Верху такой лаской, как Алену в кардашовском доме. Петр Данилыч, хоть и рухнул его хитромудрый замысел подсунуть Калашниковым нежданного наследничка, и словечком себя не выдал. Афимьюшка сама уж еле ходит на опухших ногах, а об Алене печется…
Плохо Алене и смутно. Как хотела любить маленькую Дунюшку – а и некого…
Но когда кое-как совладала с собой и поднялась, началась в кардашовском доме морока. Сон Алену не брал, и повадилась она ходить ночью то на двор, то в кладовые: пока идет – вроде хочется ей есть, а как придет – и сама не ведает, чего ее душеньке угодно. Днем-то ее отвлекают, а ночью как раздумается она о своей беде, так и пожелается утробушке неведомо чего. Вот и бродит по переходам… Не сразу и дознались. Уж думали – глумится кто в доме! Углы закрещивали, можжевеловой веткой курили, потом лишь сообразили, в чем дело.
Дед Данила Карпыч стал взварцы Алене готовить. С тех взварцев не столько ночью, сколько днем спать хотелось.
А лето выдалось сладкое! И не жара, и не слякоть, а такое приятное тепло, что млеть бы в саду на лавочке бездумно, слушая птиц да пчел. А яблок-то, а груш! А малины! Но вроде и в руке румяный плод, осталось только до рта донести, – а замирает рука, повисает…
Там-то, в саду, обыкновенно и сидела Алена в полудреме. Сидела неделю, другую… И пришла к ней как-то Афимьюшка, принесла пастилы, Степаном из Москвы привезенной. Присела рядом, обняла Алену.
– А ты не тоскуй по дитятку, голубка, – сказала она. – Дедка Данила не велел тосковать – не то огненного змия привадишь.
– Какого еще змия? – безнадежно спросила Алена.
– Это когда об умершем сильно тоскуешь, господи оборони. – Афимьюшка сняла руку с Аленина плеча, перекрестилась и снова обняла. – Вот у нас в Козьмодемьянске, откуда меня взяли, был случай, послушай… Женился один токарь по дереву на девке с хорошим приданым, жили ладно, небедно. Потом, как водится, ребеночка Бог дал. Но Бог и взял. Он хвореньким родился, совсем синеньким, личико остренько, ушки мяконьки – не жилец… Господи, спаси и сохрани! – Афимьюшка снова разомкнула объятье, с особым тщанием закрестила чрево.
– Не след тебе такие слова сейчас говорить, – глядя в землю, предостерегла Алена.
– Не след, – согласилась Афимьюшка. – Так ведь как иначе рассказать-то? Иначе не выходит. Так вот мать умершего дитятки горевала сильно. От рукоделья отстала, тосковала… Вот и стал к ней огненный летать! – Афимьюшка сделала страшное лицо, воздела руки, как бы став на мгновение тем летучим змием, но и испуг Алену не взял. – Выйдет это она на порог – а на пороге стоять-то нельзя, порог-то от семи бед отгораживает, ведь ежели на нем стать – то добро, что в дом идет, застоишь, а нечистому ворота отворишь! И кумушницу ненапрасно с порога отговаривают… Так вот станет дурочка на пороге, а змий-то как сверху налетит – шу-у! – у ног ее о крылечко ударится, рассыплется и ребеночком обернется. Видит мать – дитя ее роженое лежит, и сядет рядом… И грудью покормит, и всю ночь с ним забавляется. А к утру, как ее сон сморит, змий улетает. Мужик заметил неладное, стал следить – батюшки! И поделать с ней ничего не может. Он – в обитель, к старцам! Да только, наверно, поздно уж было. Замучил ее огненный до смерти…
Алена подняла печальные глаза. Только они и остались на бледном крошечном личике.
– Счастливая… – прошептала она.
– Господи Иисусе, да что ты такое плетешь?! – возмутилась Афимьюшка.
Но тут на крыльцо вышла Силишна, что жила теперь у Кардашовых неотлучно.
– Алена, дед кличет!
– Неймется ему! – не сдержалась Афимьюшка.
Алена молча встала и пошла в чуланчик.
Дед Карпыч, лежа на спине, смотрел строго.
– Усади меня, девка, – сказал. – А с Афимьей поменьше бывай. Незачем тебе. Говорил ведь!
И не такую глупость мог бы сказать – Алена покорилась бы бессловесно. Впрочем, ответить все же не мешало бы…
– Хорошо, дедушка.
Алена приподняла его за плечи, он уперся ногами и взмостился чуть повыше. Ухватив его ноги сквозь одеяло, она развернула деду туловище и поставила его босые ступни на пол, а подушки затолкала за спину.
– Так ладно, – одобрил он. – Ты меня сейчас послушай. Ты вот полагаешь, будто я от старости из ума выжил. Молчи – знаю! Я почему не желаю, чтобы ты с Афимьей сидела? Я за ее чрево опасаюсь.
– Ничем я ее чреву не поврежу, – неожиданно для себя огрызнулась Алена. Да ведь и поделом, поскольку на каждую дедову придурь терпения было не напастись. – У меня глаз не черный.
– Сядь, девка, – руки у Карпыча все еще имели довольно силы, чтобы усадить упершуюся было Алену рядом. – Я сейчас тебе важное скажу. Поклянись перед образами, что никому об этом – ни слова!
Алена, уже опять впав в покорную бессловесность, повернулась к Николе-угоднику, Спасу Нерукотворному и Богородице.
– Как Бог свят – никому ни слова, – тихо и спокойно ответила она. Перекрестилась, а лицо – как ежели б она собственных слов и не слышала, а слышала – так не разумела.
– Слушай, – Карпыч прокашлялся. – Ты за мной хоть без смирения и покорности ходила, но я тебя полюбил. Расставаться нам скоро. Я помирать собрался. Завещать я тебе желаю десять рублев.
Деньги были немалые – в три года бы их Алена, трудясь в царицыной Светлице, не скопила! Вдруг ей смертельно захотелось именно денег – ощутить в ладошке их ледяную тяжесть и согреть. Деньги – да это же была надежда на что-то лучшее!.. Однако слушать, как человек смерть себе накликает, и не возразить, было как-то непристойно.
– Ты, дед, совсем задурил! – как бы в сердцах воскликнула Алена. – Тебе ж полегчало!
– Это перед смертью бывает. Молчи, не мельтеши, я зажился и смертушка мне в радость. Слава Господу, помираю с душой облегченной. Успел-таки… Одно только осталось мне совершить – тайну тебе открыть и прощения у тебя попросить.
Алена посмотрела на деда так, словно на голове у него вдруг капуста выросла, но ничего не сказала.
– Как только ты появилась у нас, заметил я, что с тобой, девка, неладно. И присмотрелся я к тебе. Ну… и язык-то не поворачивается сказать…
– Да что же со мной такое, дед? – не выдержала его молчания Алена. – Испортили меня, что ли?
– Кабы испортили… Порчу любая бабка снимет молитвой, водой али свечкой. Нет, девка, на тебя проклятье наложено. И проклятье крутое. Сильненькое. – Дед вздохнул и повесил голову.
Малое время оба молчали.
– Дедушка, а, дедушка? – Напрочь не желая понимать страшных слов, отказываясь допускать их в душу, Алена ухватилась за спасительное соображение: – А ты, часом, не спутал? Не ошибся? Ничего со мной такого не было! Я же при боярыне Лопухиной росла, меня вместе с ее дочками берегли! – Выпалив это, Алена закрыла рот рукой: недоставало, чтобы дед встрепенулся на имя Лопухиных!
Но Карпыч, очевидно, не обратил внимания на ее странную связь с царицыной родней.
– Может, и берегли, да поздно за это взялись, – проворчал он. – Прокляли тебя, девка, еще в материнском чреве. И так сильно это проклятье, что всех, с кем ты поведешься, задевает. Кабы только не на семь гробов, оборони господи… А сдается, что именно на семь гробов тебя разделили. С них землю брали… От этого проклятья тебя абы какая бабка не отделает. Но если не избыть беду, то семь гробов исполнятся, а восьмой уж твой будет.
– Семь гробов?.. – недоверчиво повторила жуткие слова Алена.
– Кабы не хуже. И знай – ты беду добрым людям приносишь, девка! И не желаешь, а приносишь. Возле брюхатой бабы тебе быть не след. Вон с тобой с самой что приключилось… И потому я тебя от Афимьи гонял и гонять буду. Меня лучше до могилы доведи. За это – прости, а только мне Афимью и Степана жальче…
– Спаси и сохрани! – воскликнула Алена, осеняя себя широким крестом, но еще не в силах поверить. – Да как же это, дедушка?!
– Как? Мать твоя перед кем-то сильно провинилась. И люди те – плохие, ни перед чем ни остановились, чтобы ей отомстить. Дитя во чреве не пожалели. Более ничего сказать не могу. Раньше – смог бы, а теперь во мне той силы нет уж. Вовремя отдал я свою силу, а была. Не отдал бы – плохо бы мне пришлось. А славная же была силушка, хватило бы ее, чтобы твое проклятье отделать… Слушай дале. Ты молодая, ты детей родить захочешь, но будет так же, как в этот раз… Только еще один гроб прибавишь. Не реви, дура!
– Да… не реви… – Алена хлюпнула носом. – Легко тебе, дед, говорить…
– Нелегко. Только деньгами я тебе теперь могу помочь. Десять рублев ты вот на что потратишь. Есть баба одна, Устиньей зовут, а прозванье ей – Родимица. Она баба знающая. Поедешь к ней.
– Где же она живет, дедушка?
– Про город Псков слыхала? Вот как ехать к Пскову, за Тверью верст, пожалуй, с триста. Проедешь Торжок, Вышний Волочек, Валдай, Новгород – купцы тот путь наездили, лен, пеньку, сало, кожи возят. А неподалеку от Пскова будет тебе городок Порхов… Издали его увидишь, узнаешь по крепостным стенам. Стоит он на речке Шелони. Подняться вверх по Шелони – село будет, Яски, его тоже издалека видать, церковь там больно высока. В Ясках спросишь баб о Родимице. Она помоложе меня – полагаю, что жива. А может, там ее иначе кличут – на Москве Кореленкой звали, потому как из Корелы пришла… Снесешь ей… Пошарь-ка под лавкой, Алена. Укладка у меня там есть малая, совсем в угол за большую задвинута. Забери, поставь к себе. Помру – могут не отдать. В ней и десять рублев, и то, что Родимице снесешь. Скажешь – Данила Карпыч долго жить приказал. Пусть панихидку за меня закажет и милостыньку подаст. Запомнила?
– Запомнила… – несколько потерявшись во всех именах и названиях, покивала Алена.
– Повтори!
Но повторить у нее не получилось.
– Вот и выходишь дура! – осердился Карпыч. – Заучи как «Отче наш»! Идешь из Твери на Псков, приходишь в Порхов, поднимешься по Шелони – тут тебе и Яски! Как бабу зовут?
– Устинья Родимица! – выпалила Алена.
– Еще как?
– Кореленка!
– Гляди ты, запомнила! – притворно удивился дед. – И вот еще что, девка… Все тебя сейчас утешают – а я не стану. Я тебе так скажу: битого, пролитого да прожитого не воротишь. Не то твое, что было, а то, что еще только будет, и этого – не погуби. И Афимьи сторонись, не то…
Карпыч хотел было сказать еще какие-то сердитые словеса, но Алена сорвалась и выскочила из чулана.
Прибежала в сад.
Стояли рядами невысокие пышные яблоньки, светились в ветвях краснобокие яблочки. Их бы теперь собирать да есть вволю, да дитятко ими, нарядными, забавлять… Дитятко!..
За что, Господи?
Проклята, на семь гробов разделена! За что?!
В том, что дед сказал правду, Алена уже не сомневалась. Не зря же тянуло ее в монастырь – лишь там и дышалось привольно!
А ведь все, что произошло с Дунюшкой, – по ее, Алениной, вине произошло! Уж больно привязались подруженьки одна к другой, и кому ж было знать, что частица того проклятья ляжет и на Дуню?
А младенчики-то безгрешные, Алексашенька с Павлушкой, в чем виноваты? А доченька – крошечная Дунюшка, крещения лишенная?
Проклята, на семь гробов разделена! Вот они – первые! Безвинные! Как сама она – безвинно в материнской утробе проклятая!
Алена, хоронясь от всех, как зверь дикий недобитый, поднырнула под крону яблони, обхватила ее и наконец-то в голос заревела. Знал тот, кто проклинал, в какое место сильнее уязвить. Куда ж вы глядели, Спас Златые Власы и Матушка-Богородица? Как же попустили?..
Впервые слеза по-настоящему прошибла Алену за этот печальный месяц. Накипело, излилось бурно, рукав сорочки – хоть выжимай. Но как ни упрекай Богородицу, как ни жалей себя, горемычную, а слезы-то попросту кончатся, перестанут литься – и все тут, приходи в чувство да прикидывай, как дальше быть. Не век же под яблоней стоять…
Алена выплакалась, утерла слезы и повторила про себя дедовы слова об Устинье Родимице. Вдруг ей на ум пришло, что раз Карпыч посылает ее, горемычную, к знающей бабе, а не сразу в монастырь, где, говорят, старцы от таких дел отчитывают, то есть в этом что-то противное ее жаркой вере. Вспомнилось тут и зловещее Пелагейкино бормотание: «…встану не благословясь, выйду не перекрестясь, из избы не дверьми, из двора не воротами, а дымным окном да подвальным бревном…»
Алена, перебирая все свои прегрешения, пока не находила ничего более тяжкого, чем чтение богопротивных слов, да еще снявши крест. Но многие же девки так поступают – и замуж выходят, и рожают, и ничего им и детишкам их не делается! Не мог Всемилостивый Спас так сурово за девичью дурь покарать, не мог, и хоть одно было отрадно – не Божья над Аленой кара, против которой нельзя и словечка сказать, а сатанинское наваждение.
Осознав это, Алена задумалась: по всему выходило, что нужно ей убираться прочь от Афимьюшки. Да и Петр Данилыч что-то стал на коленки жаловаться. Не навредить бы добрым людям…
Решившись окончательно, направилась к деду в чулан.
Карпыч не смог без ее помощи лечь, а звать никого не пожелал. Тяжести в нем, в старом, все же было довольно, а спина держала плохо, и он, не умея упереться в пол ногами, сполз по лавке, держался на самом краю и лишь громко вздыхал.
Алена, став коленом на лавку, ухватила его под мышки, усадила как следует и присела рядом.
– Дед, а, дед… – Она коснулась большой морщинистой ручищи. – Дед, а ты ведь из-за меня помираешь. Если бы я с тобой тут не сидела… Уйду я от вас!
– Погоди уходить. Зажился я, всем в тягость стал. Сам себе в тягость. До смерти меня доведешь – тогда ступай. Немного осталось.
– Да живи уж…
– Сделай милость, доведи, – повторил дед. – Не всякого о таком просят. Я тебе услужил – и ты мне отслужи. Самому себя порешить – грех.
– А мне – не грех?
– Алена… Сейчас – возьми ты грех на душу, а настанет час – ты другого кого попросишь взять на душу свои грехи, и он тебе не откажет. Закон такой есть.
– Закон… – Алена вздохнула.
– Да. Привязался я к тебе, бессчастной. Стало, пусть второй гроб моим будет.
– Четвертый, дедушка…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?