Читать книгу "Семья. О генеалогии, отцовстве и любви"
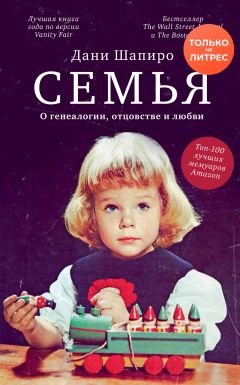
Автор книги: Дани Шапиро
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
5
Вскоре после сделанного открытия я явственно припомнила один случай. Это произошло в 1988 году. Мне было двадцать пять, прошло ровно два года со смерти папы. В той автокатастрофе погиб мой отец, мама получила множество травм, и я на протяжении двух лет ее выхаживала. Одновременно с этим я училась в магистратуре Колледжа Сары Лоренс и писала свой первый роман – работала над ним так, будто от этого зависела вся моя жизнь, – собственно, так и было. Писательство было для меня попыткой придать своему горю некую форму. Меня то охватывало оцепенение, то раздирала боль. Казалось, этими двумя состояниями и определялось мое существование. Я отрезала волосы, рассталась с бойфрендом, бросила курить и пить. Все свободное время я посвящала чтению поэзии Адриенны Рич. Мне приходило в голову, что, возможно, я лесбиянка. Я сама себя не узнавала, была как неприкаянная.
Я не хотела оставлять маму одну во вторую годовщину смерти папы и позвала ее в университет на чтения, устроенные студентами магистратуры. Я заехала за ней на Уэст-Энд-авеню, и мы вместе продолжили путь на север, ехали около получаса.
По дороге нам не о чем было разговаривать. Как, впрочем, и раньше. Наши отношения дочки и матери были напряженными и противоречивыми, они были лишены той непринужденности любви, которую я испытывала к отцу. По злой иронии судьбы, когда я была маленькой, я мечтала и даже надеялась, что на самом деле она не моя мама. Безмолвие наше было не столько свойским, сколько напряженным и неловким. Но после аварии мы ступили на новую, незнакомую территорию. Она оправилась от травм намного быстрее, чем предсказывали врачи. Однако была слаба и ходила с палочкой. В аварии у нее очень пострадало лицо, которое собрали заново, нос теперь был немного набок и глаза чуть разной формы. Она часто напоминала мне, что, кроме меня, у нее никого нет.
Перед началом чтений студенты и сотрудники факультета собрались на прием в гостиной дома на территории кампуса, где каждому из нас вскоре предстояло читать отрывок из своей рукописи. Именно во время приема я представила маме свою сокурсницу по имени Рэйчел.
– Откуда вы родом, Рэйчел? – спросила мама.
– Из Филадельфии, – отозвалась Рэйчел.
– Ой, а моя дочь была зачата в Филадельфии. Произнесла уверенно, без запинки. За свои двадцать пять лет я этого ни разу не слышала. Воображение нарисовало отель, романтическую поездку на выходные. Но мама уже перешла к восхвалению достоинств «города братской любви».
– Как это я была зачата в Филадельфии? – переспросила я.
– Ах, тебе лучше не знать, – ответила мама. – История не из красивых.
В тот вечер – уже после усердных чтений, пенопластовых стаканчиков травяного чая, бумажных тарелок с печеньем – я в зимней темноте везла маму по автостраде Со-Милл-Ривер. За два года до этого, пока мама в критическом состоянии лежала в больнице Нью-Джерси, я похоронила отца на семейном участке Шапиро на кладбище в бруклинском районе Бенсонхёрст. Это были мои первые похороны. Папины сестра, брат, все мои двоюродные братья и сестры и даже Сюзи, похоже, знали, что делать. Строгую службу провели исключительно на иврите. Ее проводил один из двоюродных братьев, раввин. Ритуалы скорби были мне незнакомы – хотя меня и воспитали в ортодоксальных традициях, ортодоксия связана с разными учениями и может принимать разные формы, – и на похоронах собственного отца я чувствовала себя непрошеной гостьей и не в своей тарелке среди родных. «Пройди сюда», – направлял меня один из братьев. «Вот лопата, – подсказывал другой. – Теперь пора мыть руки».
– Мам.
– Да, милая?
– Мам, ты обмолвилась о моем зачатии, намекнула вскользь. Расскажи же мне, о чем шла речь.
Мы обе смотрели вперед, не встречаясь взглядами. Она сидела в машине, как в исповедальне или как в склепе.
– В Филадельфии мы были у врача – там был целый институт, – сказала мама. – У нас с твоим отцом не получалось зачать.
Она замолчала. До ее дома было еще минут двадцать.
– У него было мало сперматозоидов, – добавила она. – У меня случилось несколько выкидышей, – проговорила она мгновение спустя. – Мне к тому времени было уже сильно за тридцать.
– И что же вы делали?
– Я отправлялась в Филадельфию – там был институт, всемирно известный, специалисты мониторили фазы моего цикла. Когда наступал нужный момент, я звонила твоему отцу прямо в зал Нью-Йоркской фондовой биржи, и он несся ко мне, чтобы мы могли провести процедуру.
– Какую процедуру?
– Искусственного оплодотворения.[12]12
Здесь и далее речь идет об экстракорпоральном оплодотворении. Этот термин наиболее корректен в медицинских кругах.
[Закрыть]
Не будь я за рулем, я бы просто закрыла глаза. Каждому хочется, чтобы история его зачатия была по крайней мере телесной. Мужчина и женщина, сплетенные конечности. Сперматозоид плавно скользит к яйцеклетке. А не стерильность больницы, которую внезапно представила я, пробирочный ребенок, медицинский вариант кухонной спринцовки. Не папа, сидящий один в комнате с порнографическим материалом и картонным стаканчиком.
– Я же говорю, история некрасивая, – заключила мама.
Что же в тот вечер так обострило мои чувства, что я смогла потом, тридцать лет спустя, полностью восстановить этот разговор? Тогда откровения матери показались мне странными, немного удручающими, но не меняющими суть дела. Ну на самом деле, какая разница, как меня зачали? Я появилась на свет. Кому какое дело, как сперматозоиды отца попали в яйцеклетку матери?
Сейчас события того вечера так ясны в памяти, будто возникли из «капсулы времени»: река Гудзон в темноте, вереницы огней поперек моста Джорджа Вашингтона, ровный тембр маминого голоса, ее высокие скулы. Покоящиеся на коленях руки с длинными сцепленными пальцами. Институт. Всемирно известный. Филадельфия.
6
Аэропорт Брэдли неподалеку от Хартфорда я знаю хорошо. Я часто путешествую и уже выработала определенные привычки, когда нахожусь в разъездах. Миновав службу контроля безопасности, я первым делом останавливаюсь у небольшого, футуристического с виду стеклянного цилиндра, где за два доллара можно было под высоким давлением вымыть очки. Удовлетворившись чистотой очков, я обычно иду к киоску, чтобы запастись журнальным чтивом. Потом, если позволяет время, захожу в Lavazza и выпиваю средненький капучино у выхода на посадку. Меня успокаивает знакомый распорядок дел в поездках. Он помогает преодолеть растерянность, которая охватывает меня вдали дома.
Однако моя обычная тревога во время поездок, которую не назовешь незначительной, была, как я теперь поняла, ничтожной по сравнению с тем, что я испытывала на этот раз. Нетвердой походкой оправившегося после болезни пациента я бродила по просторным залам аэропорта. Майкл не отходил от меня, пока мы шли вдоль спроецированного на стену изображения: это была реклама страховой компании – множество красных зонтов из роз разлетались сотнями лепестков, как только кто-нибудь проходил мимо. Разнокалиберные люди бередили зонтичный порядок, и лепестки рассыпались в разные стороны. Особенно сильно эти картинки действовали на детей. Те останавливались, подпрыгивали, размахивали руками. Tohu va’vohu. Слова на иврите – второе предложение Бытия[13]13
Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
[Закрыть] – явились мне, как всегда являлся этот язык: будто поднявшаяся пыль из подвала, который долгое время держали закрытым. «Тоху ва-боху» означает хаос. Перевернутый мир. Даже скорее мир до того, как он стал миром. Мое тело стало чужим и невесомым. Жива ли я на самом деле? Вдруг меня не существует? Вдруг вся моя жизнь – выдумка, игра моего воображения? Проходя мимо красных зонтов, я обернулась, удостоверившись, что мой силуэт запечатлелся на экране – лепестки разлетелись.
К выходу мы подошли за сорок пять минут до начала посадки. Майкл сидел с ноутбуком на коленях, искал в Google любые зацепки, клиники бесплодия и репродукции в Филадельфии, работавшие в начале шестидесятых. Он журналист по образованию, и подобные задачи для него привычное дело. Не прошло и нескольких минут, как он установил наиболее вероятное место, где я была зачата.
– Институт отцовства и материнства Фарриса, – объявил он. – В кампусе Пенн[14]14
Сокр. от «Пенсильвания».
[Закрыть].
Институт, говорила мама. Не клиника. Не больница.
Еще пару ударов по клавиатуре, и мы уже читали про доктора Эдмонда Фарриса, первопроходца – всемирно известного, по словам мамы, – в области бесплодия и искусственного оплодотворения. Всплыла еще одна упомянутая в тот вечер деталь. Знаменитый врач стоял у истоков метода, позволяющего точно определить, когда у женщины наступала овуляция. Я звонила твоему отцу… и он несся.
Вокруг нас аэропорт гудел голосами путешественников, разъезжавшихся в разных направлениях. Были рейсы в Атланту, Детройт, Майами, Чикаго. Мимо нас, таща за собой небольшой чемодан, прошла усталая стюардесса. Солнце только еще всходило, и взлетная полоса казалась оранжевой. Слова на экране сливались в кашу: бесплодие, стерильность, оплодотворение. Встретилось и еще одно словосочетание, связанное с Институтом отцовства и материнства Фарриса: донор спермы. Я подняла взгляд от экрана и смогла смотреть лишь на мужчин: молодых, пожилых, старых. Мужчин с младенцами. Полных мужчин в бейсболках. Мужчин в майках и тренировочных штанах. Мужчин в рубашках и пуловерах. Если мой отец не был мне отцом, то кто был? Если мой отец не был мне отцом, кем была я?
В тот февральский вечер тридцать лет назад, высадив маму у дома и проводив до квартиры, я приехала домой и позвонила Сюзи:
– Ты знала, что у папы с Айрин было расстройство детородной функции?
– Вроде было что-то такое. Я была подростком, но понимала, что возникли проблемы.
Я сообщила Сюзи, что рассказала мама. Про Филадельфию, институт, знаменитого врача, мало сперматозоидов, неотложность, ее тикающие биологические часы, неистовый рывок отца из Нью-Йорка, чтобы они смогли заделать дитя.
Сюзи помолчала.
– А она сказала тебе, что сперма, которую они использовали, точно принадлежала папе?
Я невольным жестом крепче сжала в руке мобильный. Сердце ухнуло, как это часто бывало при общении со сводной сестрой.
– Безусловно, это была папина сперма!
– Все-таки советую тебе перепроверить, – настаивала она. – В те годы сперму часто смешивали.
Смешанная сперма. Услышав подобные слова, их уже никогда не забудешь. Два слова ударятся друг о друга, как в бессмыслице Mad Libs[15]15
Один игрок дает список слов, из которых составляют фразу. Получившийся рассказ читают вслух.
[Закрыть] – будто вставленные в предложение пропущенные слова. Сюзи произнесла это так, как говорила всегда, – безапелляционно, будто обронила невзначай. Но за ее небрежным тоном скрывалось некое чувство. Она не исключала возможности того, что мы не были сестрами. Что наш папа был ее, но не моим отцом. Моя сводная сестра-психоаналитик выражала свое сокровенное и, вероятно, не совсем осознанное желание: она бы предпочла, чтобы я вовсе не рождалась.
Помню, как почувствовала гнев и горькую иронию. Только осмыслите это, предлагала я друзьям. Встретившись с мамой, я снова подняла тему. Здесь память меня подводит. Может, мы гуляли по Верхнему Вест-Сайду. Мама много ходила в то время, укрепляла мышцы ног.
– Мам, я тут кое-что слышала – про историю, произошедшую в Филадельфии…
Мама была недосягаема для меня не только в ту, но и в любую минуту. Она никогда не открывала себя настоящую. Темные глаза часто бегали от смущения, и когда она улыбалась, делала это осторожно, будто долго в одиночестве репетировала улыбку.
– Я слышала, что иногда сперму смешивали?..
Я могу не помнить, находились ли мы на Бродвее, в Вест-Сайде или на Риверсайд-драйв, но точно знаю одно: от моих слов она не шелохнулась, не напряглась, не моргнула. У мамы на лице не отразилось ни тени удивления или переживания. Она не проявила никакого замешательства от неожиданно заданного вопроса.
– Не думаешь ли ты, – ответила она, – что твой отец согласился бы на это? Ведь тогда он не мог быть уверен, что у ребенка еврейское происхождение.
Жизнь моего отца зиждилась на правилах, предписанных иудаизмом. Он мыслил категорично. Хорошо, плохо, правильно, неправильно. Кроме того, он был человеком с ясной головой, и его интересовала правда. Смешать его сперму с той, что принадлежала какому-то незнакомцу, было уму непостижимо. А в случае незнакомца нееврейского происхождения – просто невозможно, в этом я была абсолютно уверена. Его религиозность была глубочайшей и самой неизменной частью его идентичности, а иудаизм был не только религией – он был этнической принадлежностью. Его ребенок был бы другим. Отделенным от той самой родословной, из которой происходил отец.
– Ты же знала своего отца, – продолжала мама. Мне помнится, что она смотрела мне прямо в глаза. – Можешь себе такое представить?
7
Во все века великие философские умы бились над вопросом идентичности. Что делает личность личностью? Что в итоге и в каком соотношении память, история, воображение, опыт, убеждения, генетический материал и то неизъяснимое, что называют душой, делает нас теми, кто мы есть? И являемся ли мы такими, какими сами себя считаем? Философы, любимое занятие которых – спорить друг с другом, похоже, согласны в одном: длительное и непрерывное осознание себя как личности, «того неделимого, что я зову собой», неизбежно подразумевается под осознанием собственной идентичности. «Тождество личности – это совершенное тождество: там, где оно реально, оно не допускает степеней; и невозможно, чтобы личность была отчасти той же самой, а отчасти другой; потому что личность… не делится на части»[16]16
Перевод Д. П. Еремина.
[Закрыть] – так писал философ начала девятнадцатого века Томас Рид.
Могло бы случиться так, что я узнала правду о том, кто мой отец, находясь – как часто бывает – дома. Я могла бы целыми днями молча сидеть в своем кожаном кресле в библиотеке, окруженная тысячами книг, из которых, по крайней мере частично, состоит мое самосознание, книг, научивших меня думать и жить. Я могла бы ходить с собаками на длительные неторопливые прогулки. Могла бы относиться к себе как к послеоперационному больному, человеку, которого сначала разделали, как тушу, а потом сшили. Сын бы находился на другом конце страны, проходил летний учебный курс по кинематографии, и дома было бы очень тихо. В конце июня зацвели бы посаженные вдоль задней стены пионы.
Но случилось иначе: мы были на борту самолета, летящего в Миннеаполис. От Хартфорда до Сан-Франциско прямых рейсов нет – во всяком случае, у «Дельты», с которой мы собираем мили. И я, достав из сумки журналы и засунув их в карман кресла впереди, устроилась в своем, под номером 12А у окна. В «Холостячке» случился очередной скандал. Кардашьян влипла в неприятности. Я опустила голову на плечо Майкла. Не знала, как быть и что теперь делать. Я представляла папино лицо – не в самые его счастливые моменты, а в дни после аварии: серая кожа, невидящий взгляд, приоткрытый рот. Казалось, сама его сущность, его дух уже нас покинули. Вскоре он скончался. И тут же другая картинка: я, молодая женщина, встречаюсь с отцом на Уолл-стрит, чтобы вместе пообедать. Двери зала фондовой биржи распахиваются, он выходит – сияющий, живой. На нем песочно-коричневый жакет, униформа биржевиков. Круглая лысая голова. Очки, с которыми он не расставался, почти без оправы, только дужки на висках чуть мерцают золотом. Его улыбка – улыбка раненого человека, которому счастье далось нелегко и который живет ради крупиц радости и все еще способен радость чувствовать. Он ощущает себя живым в двух местах: на работе и в синагоге, где он молится. Он крепко обнимает меня, нас со всех сторон обтекают потоки людей.
Я зажмурилась, не давая пролиться горючим слезам. Я переживала вторую смерть. Я снова его теряла. Я стала делимой. Отчасти той же самой, а отчасти другой. Основной принцип идентичности – мое сознание себя как личности – разломился.
Мне даже не пришло в голову, пока я летела через всю страну, – хотя над этим стоило поразмыслить, – что у матери мог случиться роман. Я об этом просто не думала – не было необходимости. Фрагменты огромной головоломки, головоломки моей жизни, начали вставать на свои места с такой скоростью и точностью, что других возможных объяснений, похоже, не было.
Стюардесса везла по проходу тележку с напитками. Предлагала соленые крендельки, батончики мюсли, арахис в пакетиках. Предыдущие два раза, когда жизнь преподносила мне ужасы и потрясения – автокатастрофу родителей и болезнь Джейкоба, – меня страшно оскорбляло, что люди продолжали жить нормальной жизнью и что ничья больше жизнь не изменилась, только моя и тех, кто мне дорог. И вот опять. Только смерть родителя, страх за жизнь ребенка – общечеловеческие ситуации. Можно кому угодно сказать: «У меня умер отец» или «У меня болен ребенок», и в ответ получить сочувствие и понимание. Но как реагировать на такое: «Я только что узнала, что мой папа не был моим биологическим отцом и что, очевидно, я родилась в результате оплодотворения спермой анонимного донора»? Я бросила взгляд на экран ноутбука Майкла. Как только самолет достиг высоты три тысячи метров, он, запустив бортовой Wi-Fi, открыл мою страницу на Ancestry.com и не отрываясь смотрел на голубой значок в виде человечка, обозначенный лишь инициалами А. Т. Кто-то двоюродный. Мужского пола. Голубой – значит, мальчик.
Что будет дальше? Я не могла себе даже представить. Я ведь рассказчица, выдумщица историй, сказочница. Всю жизнь стараюсь вложить смысл в самые разные события, создавать истории из множества бессмысленных, случайных деталей. Быть писателем и преподавать писательское мастерство – это и есть моя работа. «Что, если?..» – с такого вопроса я предлагаю своим студентам начать историю. «А как насчет?..» Но пока мне приходилось действовать в пределах известного нам мира. Я же не фантаст. Меня никогда не привлекали ни детективы из категории криминальных, ни научная фантастика. Магический реализм представляет для меня интерес, но у моей веры в невероятное есть предел. Однако меня неизменно увлекают тайны. Семейные тайны. Тайны, которые мы храним из стыда или самозащиты, отрицая что-то. Тайны и их разрушительная сила. Тайны, которые мы храним друг от друга во имя любви.
За моим окном было ярко-голубое небо с всполохами облаков. Под небом ровными квадратами лежали поля Висконсина – противоположность Tohu va’vohu. Иллюстрация порядка.
– Как ты думаешь, кто мог стать донором спермы в начале шестидесятых? – спросила я Майкла.
– Донором спермы в Филадельфии, – не отрывая глаз от голубого значка на экране, уточнил он.
– В кампусе Пенн.
Что именно я пыталась выяснить? Задавая вопрос, я чувствовала его абсурдность. Бездна вариантов – любой мужчина определенного возраста мог быть моим биологическим отцом – вторглась в мою жизнь, посягая на индивидуальность и уверенность. Я не была дочерью своего отца. Эта мысль пронзала меня словно ножом, который от раза к разу становился все острее.
– Часто донорами были врачи, – заметил Майкл. – И студенты-медики.
Мой биологический отец – студент-медик? Это была рабочая теория, не более того, но она казалась нам обоим правильной. Что это вообще значило – правильной? Как и откуда возникла эта наша идея? Раньше я никогда не обращала внимания на историю репродуктивной медицины и искусственного оплодотворения. Господи, я даже «Мастеров секса»[17]17
«Masters of Sex» – американский телесериал 2013 года о докторе, исследовавшем цикл сексуальных реакций человека.
[Закрыть] так и не посмотрела, хотя и слышала о сериале отличные отзывы. Если я родилась не от отца, то от кого?
– От студента-медика, – вслух сказала я.
Майкл кивнул:
– Ну да. Студента-медика Пенсильванского университета.
8
Папа, которого я помню, всегда был грустным. Это не была природная депрессивность, он был благодушным и веселым человеком, но изрядно побитым жизнью. Он рано женился – в результате сговора двух видных ортодоксальных семей, – и очень скоро стало понятно, что брак оказался несчастным. Когда Сюзи было шесть, первая жена отца ушла от него, когда он был в рабочей командировке. Насколько мне известно, он вернулся в пустую квартиру, в шкафу остались только его вещи. О разводе и речи идти не могло в том сплоченном сообществе, частью которого был мой папа в начале пятидесятых годов. В отчаянии он добился условий, по тем временам максимально приближенных к тому, что теперь называют совместной опекой: он брал Сюзи к себе по средам и каждые вторые выходные. Недолго пробыв отцом-одиночкой, он полюбил молодую женщину по имени Дороти. Когда они познакомились, ей было двадцать шесть – очаровательное, ослепительное создание с сияющими глазами и непринужденной улыбкой, и на немногих фотографиях, что мне довелось видеть, папино лицо было мягким, беспечным и полным радости.
Они назначили дату свадьбы и стали мечтать о будущей совместной жизни. Но отец, сам того не ведая, оказался действующим лицом трагедии. У Дороти диагностировали неходжкинскую лимфому – в те времена смертный приговор, – и семья скрывала от нее болезнь. Отец узнал правду за несколько дней до свадьбы и, невзирая на совет раввина и ни слова не сказав никому, кроме лучшего друга и сестры, вознамерился жениться, как и планировал. Дороти, по мнению многих, знавших их обоих, была любовью всей его жизни. Шесть месяцев спустя она умерла.
Когда я росла, то о Дороти ничего не знала. Не знала, на что списать папину неудовлетворенность. По вечерам он оседал в кресле и смотрел телевизор. Он стал малоподвижным и полным – это было одной из многих причин ссор родителей, – и его живот нависал над брюками. Когда мне было тринадцать, хронические боли в спине усилились настолько, что папе сделали операцию – артродез позвоночника. Он так полностью и не поправился и до конца жизни притуплял свои ощущения болеутоляющими и снотворными таблетками.
Только повзрослев и став писателем – достигнув возраста отца, когда он сначала развелся, потом овдовел, – я стала одержима желанием лучше узнать, что же произошло. Я была убеждена, что потеря Дороти, скорее всего, и была основной причиной папиной боли. И тогда я написала статью в журнал The New Yorker, в которой скрупулезно собрала воедино тяжкие подробности их недолгой совместной жизни. В те месяцы, пока я работала над статьей, у меня было чувство, что я по кусочкам склеиваю отца. Вот что я делала и что делаю всегда, с тех пор как впервые взялась за перо. Tikkun olam[18]18
Исправление мира (иврит).
[Закрыть]. Я пыталась починить сломанного папу. Вернуть ему целостность.
Возможно – такая мысль приходит мне в голову, когда пишу эти слова, – я пытаюсь собрать отца по кусочкам и на этот раз.
* * *
С мамой папа познакомился после смерти Дороти. Он переехал в квартиру на Восточной Девятой улице в Нью-Йорке, а мама жила в том же квартале. Она была жизнерадостной, отважной, работала менеджером в рекламном агентстве и сама недавно развелась с мужем. Когда они случайно столкнулись в первый раз – дело было в Шаббат, – она с молотком шла прибивать книжные полки в своей новой квартире. «Ему следовало понять», – позднее говорила мама. Она была из другого мира. Еврейка, но не религиозная. Иначе она бы не устанавливала книжные полки в Шаббат. Но, начав встречаться, она, очарованная моим отцом и его исключительной семьей, несколько месяцев спустя согласилась перед свадьбой стать ортодоксальной и воспитывать детей в религиозных традициях. Папа, вероятно, считал маму своей последней и единственной надеждой.
Пять лет ушло у родителей на то, чтобы дождаться потомства. Пять лет, отмеченных выкидышами и бесконечными поездками в Филадельфию. Пять лет, приближавших маму к рубежу сорока лет. За годы, пока родители безуспешно пытались завести ребенка, младший брат отца и его жена обзавелись четырьмя детьми. Младшая сестра отца к тому времени уже родила четверых. По законам иудаизма главная мицва[19]19
Здесь: похвальный поступок.
[Закрыть] – pru u’rvu. Плодитесь и размножайтесь.
Мне казалось, что я постигла причину отцовской тоски. Я много писала об отце, не только в The New Yorker, но и в своих книгах. В конце концов я уверилась, что узнала о его жизни все, что могла. Он был несчастлив, в этом сомнений не оставалось. Но я по крайней мере смогла воздвигнуть ему памятник: груда рассказов, эссе, воспоминаний, романов, написанных в его честь, – мой личный нерелигиозный кадиш. О его властном, придирчивом отце, о капризной первой жене, о потерянной большой любви, о горечи женитьбы на маме я знала все.
Но было что-то еще – то, чего я постичь не могла. Между родителями и мной тянулся невидимый оголенный провод. Тронь – и мы все взлетим на воздух. Я тоже это знала, хотя сформулировать бы не смогла. Отойдя от художественной литературы, я обратилась к мемуарам, словно дорожка, выстланная из слов, вывела меня к ним. И все это время я задавалась вопросом: почему для меня это имеет такое большое значение? Ведь родители давно умерли. Я пережила их. Устроила свою жизнь. Создала семью. Тайны, что они хранили, теперь погребены, потеряны для истории. Моя последняя книга впервые касалась воспоминаний, не имевших никакого отношения к моим родителям.
Оказывается, можно прожить целую жизнь – скрупулезно ее анализируя, как беспрестанно делала я, – и тем не менее не знать о себе правды. В конце концов, не на слова, а на цифры недоверчиво смотрела я на экране компьютера, цифры, которые выбили дверь и залили каждый угол, каждую щель ослепительным светом: Сравнительный анализ набора M440247 и A765211.
Всю свою жизнь я знала, что есть какая-то тайна.
Чего я не знала – что тайной была я.






























