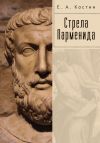Читать книгу "Странствие идей"

Автор книги: Даниэль Орлов
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Ответ на вторую задачу заключен также в «опыте предела». Лишь убийство могло дать Раскольникову то, по замыслу Достоевского, необходимое, несомненное, уже христианское знание, что всякий Другой не есть объект среди прочих (объекты, вначале исчерпывающе определяемые как «старуха-процентщица», «человек-вошь» и т. и.), но есть сущий Ты, в своей человеческой качественности и ценности безусловно тождественный сущему Я. Всякий Другой нужен в составе мира для его полноты. И убийство Другого есть не только частное убийство Себя в своем сущностном единстве с Другим. Оно есть очередное злоупотребление богоданной свободой, еще одно покушение на замысел Божий о мире и потому не может вести к какому-либо благому обновлению его, но продолжает теми же средствами устраивать все ту же каиническую цивилизацию, первые вещи которой послужили орудиями первого убийства и последние способствуют тому же. Пройти путем Ветхого Завета необходимо, но нужно, пройдя его до конца, вступить в область Нового Завета – только в ней человек может понять, как поступить ему со своей свободой и что нужно извлечь из «опыта предела». К познанию ценности сущего Ты Достоевский и приводит героя, поэтому в его признании Соне рядом с «Я ведь только вошь убил…» уже произносится не менее убежденно иное: «Да ведь и я знаю, что не вошь…» (6, 320).
Движение самоощущения и самопознания преступившего героя доводится до крайнего драматизма.
В тесную последовательность предшествующих преступлению мыслей и состояний Раскольникова автор в пятой главке первой части вводит разрывающий эту последовательность эпизод: в сюжете сна и в чувственном представлении о задуманном убийстве вдруг резко выступают невыносимость насилия и страх крови, органически присущие герою. На минуту возобладала натуральная нравственная личность, переживающая преступный замысел как «проклятую мечту» и «наваждение» и радующаяся свободе от «этих чар» (6, 50). В ней проявляется страдательнопассивная сторона человеческой природы в герое, которая сталкивается с действенно-активной ее стороной. Последняя владеет автономным сознанием и волей Раскольникова и претендует на свободу любых моральных и практических решений. Побужденная древним стремлением прибегать к убийству как средству изменения миропорядка, вооруженная новейшей аргументацией, она направляет шаги и поступки героя уже как сила, не зависящая от всех иных его ощущений и мыслей. Между названными сторонами возникает «мучительная внутренняя борьба» (6, 57), длящаяся на протяжении романа.
Вскоре после убийства, после пережитых страха и бессилия, Раскольникова, по выходе от умершего Мармеладова, неожиданно охватывает «новое, необъятное ощущение вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни» (6, 146), которое скоро переходит у него в торжество над сомнениями, «напускными страхами» и слабостью: «Царство рассудка и света теперь и… и воли, и силы… и посмотрим теперь!» (6, 147). И в то же время обостряется казнящая героя рефлексия, которая отражается позже в ретроспективном моменте прогностического знания о себе самом: «… и как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться! Я обязан был заранее знать… Э! да ведь я же заранее и знал! <…> потому что сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувствовал, что скажу себе это уже после того, как убью!» (6, 210, 211). Против такого саморазоблачения и самообличенья в Раскольникове вновь восставал человек идеи и воли, когда он, выдержав долгую «муку всей этой болтовни», решил «ее с плеч стряхнуть» и «убить без казуистики, убить для себя, для себя одного!» (6, 321–322). Тогда в нем вновь вырастала прежняя вера в свою правоту: «Может, я еще человек, а не вошь и поторопился себя осудить…» (6, 323). Что достигает кульминации, когда Раскольников в разговоре с сестрой неистово отрицает преступление в убийстве «зловредной вши», отвергает раскаяние: «Не думаю я о нем и смывать его не думаю» и вынужденное согласие идти на «этот ненужный стыд» объясняет своей «низостью и бездарностью» (6, 400). Здесь безудержно вырывается из тела человечности вызревшее в нем из первобытного античеловеческого зародыша и разросшееся до идеомании преступное умственно-волевое начало: «Боязнь эстетики есть первый признак бессилия!.. Никогда, никогда яснее не сознавал я этого, как теперь, и более чем когда-нибудь не понимаю моего преступления! Никогда, никогда не был я сильнее и убежденнее, чем теперь!..» (6, 400). А через несколько часов, идя целовать землю, которая приняла кровь Авеля и прокляла Каина, ее пролившего, он «ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы» (6, 405). Однако и это не стало завершающим эпизодом его внутренней эволюции.
У Достоевского субъект преступления, когда он мыслит о себе, лишается устойчивой и правильной позиции в самопознании; он обречен на мучительное колебание между названными состояниями – и это часть его наказания. Более того: возникает как будто расщепление личности на два субъекта, мыслящих и действующих в ситуации конфликта между собой (к подобному положению приводит интенция преступления в сознании и поведении Ивана Карамазова).
В восприятии Разумихина Раскольников предстает таким, будто в нем «два противоположные характера поочередно сменяются»: то «великодушен и добр», то «надменен и горд», «холоден и бесчувствен до бесчеловечия» (6, 165). Достоевский углубляет эти «характеры» до двух разных личностных основ в герое, выражающих страдательно-пассивное и действенно-активное начала в его природе.
* * *
На подходе к большим романам складывалась главная для Достоевского нравственная проблема: возможно ли восстановление «человека духовного» (по слову апостола Павла) в современном человеке душевно-телесном – именно в таком, каким его теперь узнавал писатель?
В «Записках из Мертвого дома», определяя жажду «крови и власти» как тиранство, писатель полагал, что дойти до него может и «самый лучший человек», а вот «возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к возрождению становится для него уже почти невозможен» (4, 154).
В «Преступлении и наказании» Достоевский как христианин и гуманист все-таки решил доказать, что возможен. Доказательства писатель извлекает из самого же человека, проведенного по всем умственным и нравственным ступеням к «акту эксцесса» и через то – к «опыту предела». Содержанием романа стало оправдание в преступнике человека через отысканную в нем возможность «полного воскресения в новую жизнь» (6, 421); в конце эпилога сообщается уже определенно, что Раскольников «воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим» (6, 421). Достоевский выступил блестящим адвокатом в этом и последнем романах (и не менее блестящим обвинителем в «Бесах»). В данных случаях Достоевский продемонстрировал высшую, если можно так сказать, этико-юридическую технику анализа преступлений и обоснования вердиктов.
Вся эта работа писателя опиралась, конечно, на христианскую традицию, развивавшую в новозаветном повествовании, в Предании, в агиографии и духовной литературе идею преодоления тварной греховности в человеке и приближения его к образу и подобию Божию. Первосюжетом был евангельский эпизод с покаявшимся разбойником (апокриф называет и его имя – Рах). Из двух злодеев, распятых вместе с Иисусом и поначалу «злословивших Его», один раскаялся и просил Христа помянуть его в Царствии Небесном, на что Спаситель отвечал: «Истинно говорю тебе: нынче же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43). Такой переход от бездн греха, неверия, хулы на Бога к вере и спасению дается ценой страданий, искупляющих содеянное зло, и ценою искреннего – среди мук и покаяния – исповедания Христа.
Событие исключительного значения для христианства; с ним раскрылась доступная и последнему грешнику благодать внутреннего перерождения, смена личной эсхатологической перспективы. Данный акт свободной воли к покаянию и свободной веры в спасение ставился чрезвычайно высоко. В акте преображения собственной природы, в акте обретения блаженства в духе разбойник оказывается даже выше апостола. «Когда Петр, верховный из учеников, отрекся внизу, тогда он, – говорит Св. Иоанн Златоуст о разбойнике, – находясь вверху, на кресте, исповедал (Христа)»[24]24
Творения Святаго отца нашего Иоанна Златоуста. СПб., 1899. Т. 2.
С. 456.
[Закрыть]. И Златоуст призывает «взять себе учителем разбойника, которого Владыка наш не постыдился ввести в рай прежде всех; не постыдимся взять себе учителем человека, который первый из всего рода человеческого оказался достойным жизни в раю»[25]25
Там же. С. 457.
[Закрыть].
Апокриф находит своеобразное мистико-соматическое объяснение внезапному обращению разбойника: еще будучи младенцем, он болел и чудесно исцелился, когда вкусил молока Богородицы, проходившей в тех местах с новорожденным Иисусом во время бегства в Египет. Потом он вырос, разбойничал, но приобщение к святыне спасло его на кресте[26]26
Ф. Н. Глинка удачно использовал этот апокриф в поэме «Таинственная капля».
[Закрыть]. Апокриф дает свою версию осуществления изначального Божьего замысла о человеке: в его тварной плоти, вместе с первородным грехом, есть зерно добра и правды, и неисповедимы пути и сроки его прорастания.
Сюжет о восставшем из греха в праведность – один из излюбленных в культуре, не утратившей связей с христианской традицией. В нем остро переживается идея благодатной свободы человека, противостоящей плену греха. Разбойник, преступник, принесший истинное покаяние, испытавший внутреннее преображение, всегда вызывал умиленно-восторженное отношение, был заметной фигурой легенд, фольклора, светской словесности. Народноправославный взгляд на покаявшегося преступника (высоко ценимый Достоевским) прост, скуп в средствах выражения; он избегает высказываться в сложных формах, в эффектных жестах, далек от всякой экзальтированности и религиозной дидактики. Если страшен грех и безмерно раскаяние, он чаще готов молча признать величие свершившегося и преклониться пред ним.
Характерна участь в мнении народном преступного князя Юрия Святославича Смоленского. Он прельстился красотой Иулиании, жены князя Симеона Мстиславича Вяземского, посягал на ее честь, но безуспешно; желая добиться своего, убил мужа, а когда Иулиания с ножом в руке воспротивилась насилию, Юрии изрубил ее мечом и велел бросить в реку. Н. М. Карамзин, излагая происшествие по Архангельской летописи, выносит «гнусному преступнику» беспощадный моральный приговор, уподобляет его Каину и между прочим сообщает, что после скитаний Юрии умер в одном дальнем монастыре. Для гуманиста-просветителя злодейство князя, преступающего все границы человечности, есть «гнусность», которая «могла постыдить век»[27]27
Карамзин Н. М. История государства Российского. М., 1993. Т. 5. С. 103, 290.
[Закрыть], – более историку нечего сказать о судьбе Юрия.
Однако Троицкая Летопись (1407 г.) отзывалась о нем гораздо сочувственнее, рассказывая, как тот нашел пристанище «в монастыре у некоего Игумена Христолюбца, именем Петра, и ту неколико дней поболев, преставися»; летописец прибавляет, что «проводиша его честно». Видимо, Юрий Святославич принес великое покаяние, если его, пролившего кровь, изгнанного, лишенного власти и имения, погребали с почестями. Замечательнее же всего, что в Веневском монастыре, где он преставился и похоронен, преступный князь пользовался народным почитанием.
В каторжных преступниках упомянутые внутренние процессы были сомнительны для писателя, во всяком случае, невидимы. О видимых же ему последствиях преступлений в убийцах, автор, наблюдавший их в течение нескольких лет, заключает: «Я не видал между этими людьми ни малейшего признака раскаяния, ни малейшей тягостной думы о своем преступлении <…> большая часть из них внутренно считает себя совершенно правыми»; не было заметно никакой черты, «которая бы свидетельствовала о внутренней тоске, о страдании» (4, 15). Преступление ни для кого из них, вероятно, не стало событием, потрясшим или хотя бы задевшим чувства, совесть; но не потому, что они были психически и нравственно ущербны. В них, в силу разных причин и под влиянием разных обстоятельств, нашла себе беспрепятственное применение склонность к насилию, готовность совершить убийство, что было свойственно их натуре и потенциально присутствует в человеческой природе. Вопрос лишь в том, насколько долог и сложен путь от побуждения до поступка. Зачастую он краток и прост (не только в случае аффекта)[28]28
Достоевский знал и непростые сюжеты преступлений; один из них изложил он, разбирая в «Дневнике писателя» в мае 1876 г. дело Каировой. «Убийство, если только убивает не “Червонный валет”, – есть тяжелая и сложная вещь. Эти несколько дней нерешимости Каировой по приезде к ее любовнику его законной жены, это накипающее все более и более оскорбление, эта нарастающая с каждым часом обида <…> и, наконец, этот последний час перед “подвигом”, ночью, на ступеньках лестницы, с бритвой в руках, которую купила накануне, – нет, все это довольно тяжело, особенно для такой беспорядочной и шатающейся души, как Каирова! Тут не по силам бремя, тут как бы слышатся стоны придавленной» (23, 8). При этом она, «когда уже резала, то могла еще не знать: хочет ли она ее зарезать или нет, и с этою ли целью ее режет?» (23, 9). Как убеждается Достоевский, эта «бедная тяжкая преступница», безвыходно запутавшаяся в своих чувствах и поступках, «представляет из себя нечто до того несерьезное, безалаберное, до того ничего не понимающее, не законченное, пустое» (23, 8), что такая разбросанная ее натура как бы разлагает сложность ее преступного деяния на простые элементы, уменьшает тяжесть вины, и самым правильным исходом оказывается решение суда отпустить Каирову по приговору присяжных.
[Закрыть] и не обременен моральной и умственной рефлексией, которая и после преступления возникает весьма редко. В подобных случаях субъектная воля к преступлению совпадает с внеличностной необходимостью его, а нередко последней и порождается.
В романе же Достоевский сделал названные процессы несомненными до очевидности. Он ведет героя к людям и к себе самому наиболее крутой дорогой – через преступление, без чего не выстроить столь убедительную антроподицею.
По ходу сюжета писатель развивает тему свободы героя. В действенно-активной сфере своей личности Раскольников свободен умственно, широк идейно и смел. Но далее линии его мысли, освободившейся от всех предрассудков и «страхов напущенных», все определеннее сходятся в одном сужающемся направлении и ведут к необходимому решению переступить через все «слишком человеческое»[29]29
Ср. подобную эволюцию свободы в образе Ставрогина.
[Закрыть]. И он оказывается пленен чрезмерной, непосильной для него свободой, с которой он решает распоряжаться жизнями людей и своей в том числе. А в неотвратимо втягивающей героя перспективе преступления область свободы еще более сокращается, как известная шагреневая кожа. В преддверии же самого убийства у героя больше нет свободы, наступает царство необходимости. Так и у Ницше необходимость насилия и истребления всего непригодного для апофеоза жизни является в самом конце свободы.
На последней стадии герой, утратив свободу воли, под давлением неразрешимых для него коллизий увидел исход в абсолютном одиночестве и хотел бы вырваться из всесвязующих отношений любви, постулируемых Достоевским как основание человеческой общности. Но это уже угасающая в герое иллюзия над– и внечеловеческой свободы, когда Раскольников напоследок мечтает освободить себя от всех – и всех от себя: «О, если б я был один и никто не любил меня, и сам бы я никого не любил!» (6, 401). Достоевский показал прежде и продолжал с возрастающей настойчивостью показывать, что герой был и остается любим многими (мать, сестра, Полечка, Соня, Разумихин) и сам способен любить и что преступление не отменяет любви, напротив – делает очевиднее ее силу, возрождающую и обновляющую человека после падения. Потрясенного событием преступления героя автор теперь может уверенно развернуть к спасительному пути. Что и требовалось доказать и с чем цель романа оказывается достигнутой.
* * *
Названный мотив ухода в отчужденное от людей одиночество получил эффектное развитие в двадцатом веке. Желание Раскольникова Альбер Камю в 1940 году перевел на язык современной ему трагической экзистенции, положив начало новому философско-антропологическому канону. Герой «Постороннего» («L’etranger») Мерсо, запертый в такой экзистенции и принявший ее как норму, уже действительно не нуждается ни в чьей любви и не имеет этого чувства ни к кому. Он, наследник западного индивидуализма, окончательно свободен в «ситуации отчаяния», и, согласно Кьеркегору, не считает ни нужным, ни возможным выходить из нее. Никакие события не меняют такого положения человека в мире, и долг человека – честно это признать. Смерть матери не трогает его, потому что «все здоровые люди желали смерти тех, кого они любили»[30]30
Камю А. Избранное. М., 1969. С. 91. Пер. Н. Немчиновой.
[Закрыть].
Он убивает араба потому, что так сложились обстоятельства его жизни. Преступление совершается не в целях чего-либо, но и не случайно, а потому, что в герое, отчужденном от всех субъекте, заложенная в нем интенция убийства необходимо осуществляется, не сдерживаемая в этот момент ни сознанием его, ни законами общества.
Герой рассказа И. А. Бунина «Петлистые уши» (1916) с поразительным знанием дела произносит пространные речи на эту тему. «Страсть к убийству и вообще ко всякой жестокости сидит, как вам известно, в каждом. А есть и такие, что испытывают совершенно непобедимую жажду убийства, – по причинам весьма разнообразным, например, в силу атавизма или тайно накопившейся ненависти к человеку, – убивают, ничуть не горячась, а убив, не только не мучаются, как принято это говорить, а напротив, приходят в норму, чувствуют облегчение <…> Довольно сочинять романы о преступлениях с наказаниями, пора написать о преступлении без всякого наказания»[31]31
Бунин И. А. Собрание сочинений: В 9 т. М., 1966. Т. 4. С. 389.
[Закрыть]. И, перечислив многих исторических и литературных убийц, спрашивает собеседника: «Мучились все эти господа муками Каина или Раскольникова?»[32]32
Там же. С. 390.
[Закрыть]. После чего заключает: «Мучился-то, оказывается, только один Раскольников, да и то только по собственному малокровию и по воле своего злобного автора, совавшего Христа во все свои бульварные романы»[33]33
Там же. С. 391.
[Закрыть].
Новейшая русская версия убийства, подобного убийству, совершенному Мерсо, представлена в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998)[34]34
На связь его с творчеством Достоевского указывается в статье: Степанян К. А. Человек в свете «реализма в высшем смысле» (Достоевский, Шекспир, Сервантес, Бальзак, Маканин) ⁄ Вопросы философии. 2014. № 5. С. 102–103.
[Закрыть]. Катастрофическому у Достоевского событию убийства, с его сильными идейными и моральными мотивациями, автор противопоставляет только психологически мотивированное убийство, совершенное не в состоянии аффекта, а в ряду других обычных поступков, не имеющее ни сложных предпосылок, ни значительных последствий в сознании и совести персонажа. Здесь дана скорее внеличностная, не-волевая необходимость преступления, а в точности понимания изображаемого человека и в реализме изложения мы не можем отказать автору.
Убийца, бывший писатель, человек хотя и опустившийся, но сохраняющий способность ясно мыслить, судить себя, имеющий развитые нравственные чувства, читал не названный им здесь роман, и признает, что «находится в зависимости не от самого убийства», а от воздействующего на него сюжета и имеет дело с «условной реальностью»[35]35
Маканин В. Андеграунд, или Герой нашего времени. М., 1998.
С. 150.
[Закрыть].
После происшествия он «размышлял о не убий. (Самое время.) <…> Зато XIX век… и предупреждение литературы (литературой)… и сам Федор Михайлович, как же без него?! Но ведь только оттуда и тянуло ветерком подлинной нравственности. А его мысль о саморазрушении убийством осталась почти как безусловная. Классика. Канон. (Литература для русских – это еще и огромное самовнушение.)»[36]36
Там же. С. 165–166.
[Закрыть]. Нравственный урок Достоевского, признает герой, еще жив, но уже как «энергично выраженная художественная абстракция»[37]37
Там же. С. 166.
[Закрыть]. И вот заключение героя, уверенного, что он избавился от того сюжета, – героя, в котором Маканин литературно воплощает современного человека, пытающегося стать вне литературности: «Достоевский тоже ведь и нас побеждал словами. Но как только Ф. М., с последним словом торжествовал победу, выяснялось, что победил он кого-то стороннего. Не меня. То есть побеждал лишь внутри, в полях своего текста: когда я читал. Внутри текста – но не внутри моего “я”»[38]38
Там же. С. 167.
[Закрыть].
Для героя «та скамейка и та кровь не содержали в себе укора»[39]39
Там же. С. 166.
[Закрыть]. Вообще, уверен он, «ничего высоконравственного в нашем не убий не было. И даже просто нравственного – не было»[40]40
Там же. С. 165.
[Закрыть] – и это отнюдь не выражение этического негативизма, это реальность героя и его времени. «Сожалеть – да. Но не каяться. Вот что отвечал я. Время любить, и время не любить. Время целить в лбешник, и время стоять на перекрестке на покаянных коленях. Мы, дорогой (говорил я ему-себе}, скорее в первом времени, чем во втором»[41]41
Тамже. С. 166–167.
[Закрыть].
Интересно сопоставить разработку темы преступления, именно убийства, в романе Достоевского с трансформацией той разработки у Р. Л. Стивенсона. В 1885 году Р. Л. Стивенсон прочитал «Преступление и наказание» (во французском переводе В. Дерели, вышедшем в 1884 г.; английский перевод появился только в 1886 г.). Роман произвел на Стивенсона сильное, почти болезненное впечатление; под его влиянием писатель в том же 1885 году создал рассказ «Маркхейм» («Markheim»), в котором воспроизвел сюжетную схему совершенного Раскольниковым преступления, ряд психологических подробностей и основную моральную коллизию романа.
Этот факт неоднократно отмечался – с разной степенью аналитичности – в работах Е. М. Eigner, Д. М. Урнова, Ю. П. Котовой, Г. В. Аникина, Р. Н. Поддубной и В. В. Проненко и др.[42]42
См.: Урнов Д. М. Роберт Луис Стивенсон ⁄⁄ Стивенсон Р Л. Собрание сочинений: В 5 т. М., 1981. Т. 1. С. 34; Аникин Г. В. Идеи и формы Достоевского в произведениях английских писателей ⁄⁄ Русская литература 1870-1890-х годов. Сб. 3. Свердловск, 1970. С. 20–21; Котова Ю. П. «Маркхейм» Р. Л. Стивенсона и «Преступление и наказание» ⁄⁄ XXV Герценовские чтения. Литературоведение. Краткое содержание докладов. Л., 1972. С. 89–91; Дьяконова Н. Я. Стивенсон и английская литература XIX века. Л., 1984. С. 84–86; Поддубная Р Н., Проненко В. В. Отражение творческого опыта Достоевского в прозе Стивенсона ⁄⁄ Филологические науки. 1986. № 2. С. 28–35; EignerE. М. Robert Louis Stevenson and the Romantic Tradition. Priceton University Press, 2015. P 27, 30–33 (первое издание вышло в 1966 г.).
[Закрыть]. Однако недостаточно проясненным остается существенное различие в понимании субъекта преступления в его состояниях и действиях Достоевским и Стивенсоном. На фоне прямых и намеренных литературных уподоблений, к которым прибегает английский писатель, данное различие особенно очевидно и значимо. Оно обусловлено стоящими за творчеством того и другого автора религиозно-этическими традициями и расхождениями в трактовке проблемы преступления и наказания – ее объема, социального и антропологического смысла.
В романе Достоевского преступление по своим истокам, значению, последствиям есть событие очень большого масштаба, отчасти даже гиперболизированное. Проблема преступления разветвляется, захватывает все стороны личности, пронизывает все области жизни, поэтому литературная ее разработка осложняется и расширяется до романного изложения.
Стивенсон исходит из того, что совершенное человеком преступление есть локальное нарушение равновесия в отношениях человека к Богу и к людям, а наказание – восстановление этого равновесия. Если преступивший осознает содеянное им как зло и принимает возмездие, нравственное и юридическое, он движется от зла к добру и искупает вину ценой своего главного личного достояния – свободы и жизни. Так разрешается проблема преступления и наказания для писателя, опирающегося на религиозно-этические постулаты пресвитерианства (а именно – шотландской версии кальвинизма) и на практическую мораль английского общества. Соответственно в его истолковании выпрямляется и сокращается (не только соразмерно жанру рассказа, но и в соответствии с концепцией автора) путь личности от преступного намерения и совершения убийства к нравственной самооценке, раскаянию и волевому выбору морально должного. Данное содержание без остатка укладывается в единичное событие, происшедшее с одним человеком и состоящее из серии физических и психических актов, сосредоточенных в автономной сфере персонажа в небольшом временном промежутке. Для ускорения и рационального оформления рефлексии героя вводится персонификация его сознания – в образе таинственно появляющегося «неизвестного». Начальная неопределенность его, «чуждого земле и небесам», моральная двойственность суждений отражают натуру самого Маркхейма, которого добро и зло влекли с равной силой. Хотя тут же, под влиянием логики «неизвестного», герой признает, что он «опустился во всем» и находится во власти зла; вместе с тем он пытается найти оправдание в обстоятельствах жизни, которые сделали его «грешником поневоле». Согласно своему пониманию человека, Стивенсон вводит непременное допущение о противоположном свойстве личности героя: его истинная суть, утверждает Маркхейм, не выявлена и известна только ему и Богу, и «письмена совести», скрывающиеся в глубине души, все-таки не истреблены ложным разумом. Последнее испытание – предложение «неизвестного» довести зло до конца и скрыть преступление, убив вернувшуюся в дом служанку, – заставляет Маркхейма восстать против зла и обратиться к своему скрытому нравственному ресурсу: он принимает решение предать себя в руки правосудия.
Для собственного изложения взятой им у Достоевского проблемы преступления и наказания Стивенсону не понадобился роман, он счел необходимым и достаточным описать поступки и состояния персонажа в аналогичной ситуации в их сюжетной и психологической последовательности: намерение, убийство, страх, рефлексия, окончательный выбор. Ряд соответствующих эпизодов и литературно эффектных деталей составил небольшой рассказ и не предполагал иного жанрового развертывания. В этом объеме проблема преступления предстала разрешенной просто и бесспорно, поскольку она у Стивенсона относится – как в этом рассказе, так и в подобных сюжетах его повестей и романов (и произведений других английских писателей – Г. К. Честертона, Р. Киплинга, Г. Грина, У. Голдинга) – к сфере автономной моральной личности, которая устанавливает свои договорные отношения с Богом и обществом независимо от мировых событий и смыслов.
В следующих романах Достоевский переводит преступление из сугубо персонологического плана в другие, более широкие содержательные планы, насыщенные сложной проблематикой, уходящей к дальним философско-этическим горизонтам. В «Идиоте» убийство Настасьи Филипповны необходимо как завершение гибельного действия стихийных сил в женской природе героини действием таких же сил в Рогожине: они исчерпываются смертью первой и навсегда умиряются во втором – так требует телеология романа. Убийство не изображено, даны только его последствие и предвиденье в письме Настасьи: «…я уже почти не существую и знаю это; Бог знает, что вместо меня живет во мне. <…> Я бы его убила со страху… Но он меня убьет прежде…» (8, 380). В «Бесах» преступления необходимы в предпринимаемом разрушении, чтобы пролитой кровью была упоена земля, на которой будет продолжено одержимыми наследниками Каина его братоубийственное дело. В «Братьях Карамазовых» убийство отца, будучи частным преступлением, в своих исторических и метафизических проекциях отсылает к мировому событию борьбы и смены бытийных фазисов, к смерти-рождению, и содержание романа развертывается в отношениях к отцеубийству других персонажей: Дмитрия, приведенного страстями к покушению, Ивана, подготовившего убийство и полагавшего, что допустимо убивать отцов, но недопустимо – детей, и, наконец, осуществившего желания сыновей Смердякова. В названных романах имплицитно присутствуют входящие в «Преступление и наказание» и частично вскрытые там смыслы убийства; кроме того, сюжет Раскольникова преломляется в сюжете «таинственного посетителя» старца Зосимы в последнем романе.