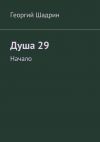Текст книги "Важные вещи. Диалоги о любви, успехе, свободе"

Автор книги: Дарья Златопольская
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Олег Табаков
Разрушать свой стереотип
Д. З.Однажды вы сказали, что унаследовали от отца важное качество: он знал себе цену. Что значит «знать себе цену»?
О. Т. Не хочу сказать, что я – истина в последней инстанции. Но, довольно рано выйдя на сцену, я понял, что интересен. В нашем ремесле на сцене это познается, конечно, как нельзя лучше. Вот этой аудитории в 500 человек – такая у нас была вместимость зала – я интересен. Это ни с чем не спутаешь. Именно это я имел в виду, когда говорил, что знаю себе цену. А никоим образом не свои дарования или способности.
У нас был в гостях Константин Аркадьевич Райкин, и он очень открыто и пронзительно говорил о той неуверенности, которую он испытывает, выходя на сцену. Он вспоминал один разговор с вами, происшедший во время его работы в «Современнике», где ему поначалу было очень тяжело. Он спросил у вас, как бороться с неуверенностью, и вы ему сказали, что это чувство уйдет после первого настоящего успеха. Но успех Константина Аркадьевича так и не дал ему эту подушку уверенности.
Ну, это уже особенности характера. Тут нет никакой рецептуры, которая, как в химии, катализировала бы этот процесс. Как кому дано. Это связано со многими жизненными познаниями. Вот, например, с чего начинается мужчина? Вы не интересовались этим вопросом?
Хочу услышать из первоисточника.
Мужчина начинается с ответственности за кого-то. Если у него нет ответственности, значит, он лишен этого свойства – уверенности.
Тем не менее вы согласились, что неуверенность в какой-то момент может появляться у всех.
Если человек нашего ремесла не идиот, то это чувство должно возникать перманентно. Если есть сомнения в собственном совершенстве, значит, ты нормальный. Нормальный – значит, способен к самосовершенствованию.
Учитель всегда видит себя в своих любимых учениках. У вас все ученики – мы знаем их имена – очень разные. Все они – разные грани вас самого? Или кто-то из них более близок вам?
Как говорят англичане, это очень деликатный вопрос. Я думал, кто бы мог быть после меня. Но не готов всерьез говорить об этом. Понимаете, когда-то наш гениальный эфиоп написал: «Нет, весь я не умру – душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит». Мне очень долго эти пушкинские строчки казались отвлеченными, а потом я понял – в них есть резон! Не будет меня, но будет Вовка Машков, будет Женька Миронов, будет Сережа Угрюмов, Сережа Безруков, Дуська Германова. Будет даже моя жена-студентка, которую я для себя обучил, Марина Зудина.
Какая у вас, если выражаться по Станиславскому, сверхзадача?
Ну уж если я «знаю себе цену», то что тут стесняться? Моя сверхзадача – сделать так, чтобы этот театр, который встал с колен и обрел физическую, духовную и иную крепость и стать, продолжал бы движение вперед.
Что такое движение вперед? В искусстве иногда очень сложно понять, куда оно движется.
И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.
Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженье от победы
Ты сам не должен отличать.
И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.
Вот этот рецепт, выписанный Борисом Леонидовичем Пастернаком…
Я очень люблю эти слова Пастернака. Но в этих стихах – в каждой строчке, с самого начала, с «быть знаменитым некрасиво», что все очень любят цитировать, – содержится вопрос. Нужно понять, что имел в виду Борис Леонидович. Что такое – быть «живым, живым и только»?
Это означает, что время от времени ты обязан разрушать свой собственный стереотип и создавать его заново. Вот и все.
Марк Захаров
Энергия безгранична
Д. З. У вашего любимого героя Рэндалла Макмерфи из «Полета над гнездом кукушки»[15]15
«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ»
Роман Кена Кизи (1962) «Над кукушкиным гнездом» считается манифестом нонконформизма. Герой книги Рэндалл Макмерфи, симулирующий слабоумие и переведенный в психбольницу из тюрьмы, подрывает больничный порядок, установленный старшей медсестрой. К организованному им побегу присоединяются другие пациенты. В финале главного героя отправляют на лоботомию, после которой он возвращается в вегетативном состоянии. Роман приобрел всемирную известность благодаря экранизации Милоша Формана (1975). Макмерфи стал культовой ролью Джека Николсона, а произнесенная им в картине фраза «Я хотя бы попытался» – девизом и вдохновением для многих зрителей.
[Закрыть] и у барона Мюнхгаузена из вашего фильма есть общая черта: способность проиграть и погибнуть. Говоря словами Андрея Вознесенского из «Юноны и Авось»: «Авантюра не удалась, за попытку спасибо». Какой смысл в том, чтобы проиграть?
М. З. Может быть, по-настоящему героические акции не имеют прагматичного смысла. Героиня «Юноны и Авось» Кончита ждала Резанова тридцать пять лет. Она каждый день выходила на берег океана, а потом дала обет молчания и ушла в монастырь. Она была красива, молода, у нее было много поклонников. Она могла бы рожать красивых детей. С точки зрения здравого смысла ее решение было безумием. Но это был космический поступок, выход за пределы пределов. И такое должно иногда в жизни происходить.
В «Обыкновенном чуде» Волшебник говорит, что смерть героя – повод задуматься. А его жена возражает, что это бесчеловечно – убивать героя, чтобы расшевелить равнодушных. Вы на чьей стороне?
Быть сочинителем – вещь вообще рискованная и опасная. Я иногда говорю артистам, что они занимаются очень рискованным делом. Человек срифмовал что-то о своей любимой и сказал, что он поэт. Все согласились: да, поэт. В советское время можно было даже получить официальное подтверждение, что ты поэт, за это платили деньги, давали заработать переводами. Но вообще понимать, что ты сочинитель, очень опасно. Приходится иногда, как Мюнхгаузен, выходить за пределы общепризнанных истин.
Одна из главных тем вашего театра – это гипнотическая заразительность. Вы об этом часто говорите и в этом хорошо разбираетесь. Но это то, что очень сложно ухватить.
Одно время я ужасно надоел артистам. Все время говорил: «Магнитное поле, магнитное поле». Потом стал говорить: «Энергетика, энергетика», чем довел свою жену. Она мне сказала: «Больше не говори так при мне, я не могу это слышать». Это было еще до того, как вся страна стала так говорить про «энергетику».
Но что бы это ни было, это чувствуется только из зрительного зала. На диске или на пленке это зафиксировать невозможно. Можно только войти в эту среду. Поэтому я всегда смотрю свои спектакли из семнадцатого ряда. Не дай бог начнут кашлять. А когда сидят и внимают, а потом добавляют на сцену свою энергию, а артисты ее используют, – тогда, скажу вам честно, возникает ощущение счастья.
А что это все-таки за энергетика или магнитное поле? В своей книге вы пишете: «Знаю ли я ответы на эти вопросы? Если бы не знал, то не писал бы».
Я уверен, что хороший актер обладает задатками гипноза. Когда я повнимательнее перечитал Михаила Чехова и воспоминания о нем, то понял: конечно, это был великий гипнотизер. Потому он и затерялся в кинематографе. Но на сцене он был, по отзывам современников, чем-то сверхъестественным.
Вы рассказывали о том, как из актера превратились в режиссера. Вы обнаружили, что можете навязывать людям свою волю. Это признак того, что вы нашли свое дело?
Знаете, вот пример из старой жизни. Иногда лошади несут. Они выходят из повиновения, и кучер ничего не может сделать. И иногда находился человек, который останавливал лошадей. Как он это делал? Физическая сила человека для лошадей ничто. Но человеческая энергия безгранична.
Сергей Гармаш
Рассказ спящего человека
Д. З. В фильме Тарковского «Зеркало» ни один персонаж не имеет четкого лица. Мы даже не знаем, как выглядела его мама: выглядела ли она как Терехова, игравшая Наталью, или он потом наложил внешность своей жены, или вообще какой-то другой женщины.
С. Г. «Зеркало» – это такая вещь: каждый раз, когда ты включаешь эту картину, ты обязательно найдешь в ней что-то такое, чего раньше не увидел, – хотя я смотрел этот фильм не десять и не двенадцать раз. Это правда, а не пустые слова.
Когда мы сидим, – не важно, сценарист или режиссер придумывает кино, – там, в мозгу, сменяются картинки, мелькают метафоры, образы. Просто какие-то лица. Так вот «Зеркало» – это как будто Тарковскому в голову вставили камеру и сняли то, что у него там происходит. Понимаете? Это и есть безусловный момент искусства. С одной стороны, рассказать свою жизнь, и с другой стороны, рассказать ее так, как будто это рассказывает спящий человек.
Именно. Это как сон. Или когда вдруг пытаешься вспомнить мысль: это как тонкое полотно, которое рвется у тебя под пальцами.
Наверное, кроме «Зеркала», есть и другие примеры, и если покопаться в памяти, мы их найдем. Но это один из высших примеров и доказательств того, как два непростых человека, двое серьезных мужчин, две высоких личности, делая одно кино, при этом снимали каждый свое.
Вы говорите об операторе Георгии Рерберге?
Да, безусловно, о Рерберге. Существует картина «Рерберг и Тарковский. Обратная сторона «Сталкера»[16]16
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА «СТАЛКЕРА»
Документальный фильм режиссера Игоря Майбороды (2008) рассказывает об одном из самых драматичных эпизодов в истории кино – конфликте между режиссером Андреем Тарковским и оператором Георгием Рербергом в процессе работы над фильмом «Сталкер». Тарковский был недоволен результатами работы и возлагал вину на оператора, но Рерберг был убежден, что проблема в сценарии. В итоге оператор был отстранен от съемок, и его имя не появилось в титрах, хотя часть отснятого им материала была использована. В центре фильма Майбороды – образы двух великих кинематографистов и их бескомпромиссный подход к творчеству.
[Закрыть], в которой раскрываются их взаимоотношения.
Очень и очень сложные.
Это просто такой какой-то божий подарок этим двум людям. Никоим образом это не было состязанием. Это было сотворчество. Но сотворчество очень непростое. Каждый снимал свое кино. И при этом они нашли какой-то момент сосуществования. Очень тайный, даже непроговоренный, наверное, до конца.
Вы абсолютно правы. Георгий Иванович тоже был человеком очень сложным, как и Андрей Арсеньевич. Но при этом именно в силу того, что они были очень близки, конфликт и был таким непримиримым. Каким он и описан в этой картине.
Когда я посмотрел этот документальный фильм, у меня было ощущение невероятной горечи. Почему иногда жизнь расставляет людей так, что внутренне невероятно близкие люди внешне проживают какой-то огромный кусок жизни совсем не так, как хотелось бы?!
Леонид Куравлев
Я его берег в себе
Д. З. Василий Макарович Шукшин писал о вас в своей книге – у него есть целое эссе о Леониде Куравлеве.
Л. К. Да. Вы читали?
Да. Там он говорит о вашей способности наблюдать и называет вас своим другом.
Для меня этот отзыв о Куравлеве очень важен, очень дорог. Я был очень осторожен по отношению к Васе Шукшину. Я понимал, что это за фигура – как он растет, как он становится все интереснее и интереснее. Значимее. Становится очень важен для людей. Вот это самое важное – для людей. Поэтому я очень осторожно к нему относился, не навязывался.
Вы знаете, когда умирает, скажем, Высоцкий, сколько друзей вдруг появляется-объявляется: «А вот мы с ним…» Этого я боялся с самого начала, еще до смерти Высоцкого. Очень осторожно к нему относился, к Васеньке. Я его берег в себе. И не надо, не надо свой нос совать в его жизнь. Потому что он вел ее слишком бурно. Я говорю о темпераменте: это означает, что каждая минута его жизни была важна для него, а в результате – для нас.
Удивительные слова. Понятно, почему вы были так ему дороги. И понятно, почему ваша первая важная работа – это картина Шукшина «Живет такой парень»[17]17
«ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
«Мне не так уж важен тот набор средств – более или менее широкий, которым располагает актер; мне важно понять, что он знает о людях, что повидал на своем веку, что сберег доброго, умного в сердце, прожив жизнь», – говорил о своем подходе к поиску артистов кино Василий Макарович Шукшин (1929–1974). Режиссерский дебют Шукшина – фильм «Живет такой парень» (1964). Сценарий написан по мотивам рассказов Шукшина, опубликованных за год до этого в журнале «Новый мир». Главного героя – открытого и жизнелюбивого сибирского шофера Пашу Колокольникова – сыграл Леонид Куравлев. «Я хотел снять фильм о красоте доброго человеческого сердца», – говорил о своем замысле сам Шукшин. Картины Шукшина «Печки-лавочки» и «Калина красная» стали классикой российского кинематографа.
[Закрыть]. Пашка Колокольников – удивительный человек. Он делает много всякого добра, но при этом не привлекает к себе внимания. Мой любимый эпизод – когда он сводит вместе двух пожилых людей.
Эта сцена сватовства – моя самая любимая сцена из всего, что мною сыграно. Он ее очень быстро снял. Может быть, не стоило это обнародовать, но я вам сейчас расскажу.
На эту сцену было положено пять дней. Пять дней, живи – не хочу! Купайся во времени! Пришел, стал гримироваться. Входит помощница режиссера и говорит: «Так, прекращаем гримироваться, Вася запил». Ладно. Так повторилось на второй день, на третий и на четвертый. Я уже к этому привык. Русский человек в душе ленив, это нам свойственно. Вот, думаю, как хорошо – поспать можно.
Пятый день, сейчас опять… Нет! Меня гримируют. Прихожу в павильон, а там Вася с оператором работает. Я вижу: очень длинно рельсы разложены под тележкой с камерой. Я хорошо понимаю, что будут снимать большими кусками, чтобы наверстать четыре упущенных дня. Думаю: «Ну вот, попал я».
Стали снимать. И сняли за одну смену великую сцену! Великую сцену!
В Василии Макаровиче близко и дорого одно качество, которое я вижу и в вас. Вы человек невероятно начитанный, все это знают. Но при этом в вас абсолютно нет этой «культурности». В вас есть культура. И Василий Макарович очень разделял эти понятия. В статье, которую он писал как послесловие к фильму «Живет такой парень», он говорит следующее: «Один упрек, который иногда предъявляют нашему фильму – говорят, что герой наш примитивен». И дальше он пишет: «Я не отстаиваю право на бескультурье. Но есть культура и есть «культурность». Такая «культурность» нуждается почему-то в том, чтобы ее поминутно демонстрировали, пялили ее в глаза встречным и поперечным. Тут надо быть осторожным. А то так скоро все тети в красивых пижамах, которые в поездах, в купе, в дело и не в дело суют вам «спасибо» и «пожалуйста» и без конца говорят о Большом театре, тоже станут культурными». Это удивительно точное его наблюдение.
Я хорошо знаю эту мысль. И самое главное, что я на практике видел, как эта «культурность» отскакивала от Шукшина. Это пошлость. Пошлятина. Не было этого в нем! Если в его фильмах что-то казалось пошлым, то это шло от народа. Есть какие-то мотивчики в «Живет такой парень», что-то такое там проглядывает, но это очень крепким узлом связано с душой народа. Он не мог не унаследовать и эту народную пошлинку. И тем ближе он к нам становится, Вася-то Шукшин. Тем ближе и роднее.
Лев Додин
Ты не один
Д.З. О вас как-то сказали, что из формулы Томаса Манна «Искусство должно заниматься добрым и трудным» вы выбираете «трудное». Насколько это справедливо, на ваш взгляд?
Л. Д. Искусство – это инструмент боли, оно всегда находит боль. И конечно, у тех, кто вроде бы отвечает за благополучие общества, это вызывает обиду: «Ну что ж такое?! Мы делаем все, чтобы было хорошо, а тут опять все не так!». Даже если бы вдруг на Земле осуществился бы рай, то, полагаю, вдруг откуда-то раздались бы голоса писателей, художников: «Нет, здесь все равно болит. Здесь неблагополучно. Здесь душа не удовлетворена человеческая!» И все бы на них ополчились в гневе, а потом поняли бы, спустя 100–200 лет, если в раю идет такое летоисчисление: оказывается, нет, все-таки действительно так.
Дело в том, что жить – это вообще-то довольно трудно. Потому что мы знаем, что умрем. Мы живем с осознанием своей смертности. В процессе жизни мы проходим разные этапы того, что можно назвать высоким словом «богооставленность»…
Заброшенность.
Да, вот слово точное. И кажется, если нас кто-то будет веселить, нам это поможет. Но на самом деле справиться помогает не это, а как раз то, о чем вы сейчас сказали – момент осознания, что ты в этой боли не один.
Очень точно.
Что ты не одинок. Это, возможно, единственное, что помогает нам справиться.
Знаете, была такая история довольно давно. У нас есть маленький городок под Ленинградом – Кириши. Так получилось, что мы сдружились с этим городом. Мы все премьеры играем там.
И вот мы должны были играть «Дядю Ваню». Молодой шофер везет нас с Танюшей, мы о чем-то разговариваем. И когда подъезжаем – это километров 200 от Питера – я его приглашаю на спектакль. Он отвечает: «Да я в театр не хожу». Ну, человеку 22–23 года. Так большинство людей отвечают, а я очень люблю всех приглашать в театр. И первое, что слышу: «Я в театр не хожу». А я говорю: «Я тоже не хожу!» Я действительно мало хожу в театр…
В общем, он пришел на следующий день. Пришел с мамой, что мне уже, честно говоря, понравилось. На следующий день он нас отвозит обратно в Питер, и я его начинаю расспрашивать. «Да, понравилось, но я не умею рассказывать о спектакле…» А я как-то пытаюсь все-таки его расшевелить, задаю вопросы. И он говорит: «Ну как вам объяснить, вот вы знаете, там есть у каждого персонажа кусок, когда он как бы свои мысли рассказывает, о себе говорит – не знаю, как это называется…». Я подсказываю: «Монолог, исповедь». И он продолжает: «Да-да, исповедь. И в эти моменты персонажи вдруг говорят то, о чем я все время думаю. И я вдруг открыл, что, оказывается, не один я об этом думаю. Я-то всегда считал, что стыдно этим с кем-то делиться. Я думал, что это только мне свойственно. И вдруг оказывается – нет, и другие думают!»
То есть этот молодой человек вдруг понял, что не одинок. И я подумал, что этот шофер вывел идеальную формулу смысла театра. Потому что действительно, оказывается, другие испытывают то же самое. И ты испытываешь то же, что другие. Это, мне кажется, достаточно светло и добро.
Сергей Маковецкий
Это мое письмо
Д. З. В сериале «Жизнь и судьба»[18]18
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
Роман-эпопея Василия Гроссмана, написанный в 1950-х, впервые опубликован в Швейцарии в 1980 году, а в СССР был издан в 1988-м. В центре сюжета романа – судьба одной семьи на фоне глобальных исторических событий. Действие охватывает период Сталинградской битвы. По роману Гроссмана в 2012 году режиссер Сергей Урсуляк снял одноименный телесериал. Одну из главных ролей – физика Штрума, чья мать погибла в гетто, – сыграл Сергей Маковецкий.
[Закрыть] есть пронзительная сцена – там, где вы читаете письмо матери Штрума.
С. М. Это было ночью, Дашечка, это было ночью. Естественно, накануне озвучания ночи больше не было. Сергей Владимирович Урсуляк хотел найти актрису, чтобы она прочла это письмо на фоне штрумовского лица. «А почему мы должны искать актрису?» – говорю я себе ночью. Это мое письмо. Я его читаю. Да, я там не шевелю губами, но голос-то звучит, пусть и про себя. Все, ночи не было, думаю, как бы дождаться озвучания. Прилетаю. Первое, что говорю: «Серега, вот такая мысль. Давай я попробую записать это письмо».
Урсуляк говорит: «Ты не поверишь, я сегодня проснулся с этой же идеей». И мы взяли и записали. Решили это сделать очень нейтрально, – тут же поняли, что, если еще и читать его эмоционально, это будет просто невозможно, сцену нельзя будет смотреть. Пусть читает лицо. А голос для того, чтобы публика услышала, о чем он читает.
Я так счастлив, что это случилось. Каждый раз я, когда смотрю эту сцену, горжусь ею. Я даже не стесняюсь, что меня сейчас обвинят в нескромности. Я горжусь, что у меня есть в биографии эта роль, этот фильм и эта сцена.
А ведь сам Гроссман потом написал два письма маме – через 10 и через 20 лет после того, как ее не стало.
Одно в 1950 году, второе в 1960-м. В письме 50-го года он говорит: «Мамочка, я получил твое письмо в 44-м. Как оно дошло? Судьбой какой-то принесло это письмо. Хотя еще в 41-м году знал, что тебя уже нет в живых. Мне снился сон. Я вижу комнату. Я понимаю, что это твоя комната. Я вижу кресло, с которого свисал платок. Я понимаю, что это твое кресло, ты в нем спала. Я узнал о массовой казни, которая случилась 15 сентября 41-го года. Я давно тебе не писал. И вот спустя 9 лет после твоей смерти я пишу тебе, потому что мне больше некому рассказать то, что я чувствую. Хотя, может, я чувствую не всю правду, но я чувствую только одно: все годы убедили меня, как я тебя люблю. Я помню, как ты мечтала вслух. И я понял, что эта боль никуда не денется. Она будет со мной до конца моих дней». 1950 год. Вот я изложил это письмо своими словами.
И потом он ей пишет спустя 20 лет, когда уже написал роман, куда, собственно, и включил это письмо.
А как здорово, Дашечка, что он это письмо отдал Штруму Виктору Павловичу. Я бы не пережил, если бы он кому-то другому отдал это письмо.
Нет, есть какой-то божественный промысел. Тут все совпало: письмо мамы Василию Гроссману, ваша любовь к вашей маме, которая тоже абсолютно неизбывная. И то, что он пишет в этом письме 20 лет спустя, что она будет жить на страницах книги, которую он посвящает ей. Для него эта книга была единственной. Когда представляешь себе эту ситуацию или читаешь эти письма, непонятно, как пережить такую боль.
Это невозможно. И он говорит в этом письме 1950 года: «Я хотел посмотрел в лицо солдата, который тебя убил. Потому что он последний, кто видел тебя в живых». Ужас. Утрата. Невыносимая боль.
Моей мамочки нет уже 14 лет, а я до сих пор не понимаю, что случилось. Просто до сих пор не могу понять, что произошло. Как ребенок. Что это, куда это она уходит? Говорят, что кто-то рвет на себе волосы. Ну, может быть. Но это даже не ужас. Это какое-то непонимание того, на краю чего ты находишься.
А потом идешь в дверь. Там сидит нянечка. Ты говоришь: «Простите, пожалуйста, а…» – «Все?» – «Да».
Почему для меня так дорога эта сцена? Потому что это было не только письмо Гроссмана, это было еще письмо моей мамы. Я уверен, что каждый человек, который читает роман и доходит до этого письма – даже бессердечный, – отнесется к этому, как к письму собственной мамы.
Сколько мужества было у этой женщины. Как преодолевала физическую боль, а главное, моральную боль. Моя мама, я помню, преодолевала физическую боль. В последние дни я был у нее, сидел на стульчике возле больничной кровати. Я понимал, как ей больно. «Сережа, сделай что-нибудь». Я колол лекарства, хотя врачи говорили, что это бесполезно. Мамочка говорила: «Вот, мне стало легче…»
Все эти гениальные произведения потому и гениальны, что пройдет год, другой, третий, и другие люди будут сидеть на этих же стульчиках.
Фрагмент письма матери из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»
«Витенька, я хочу сказать тебе… нет, не то, не то.
Витенька, я заканчиваю свое письмо и отнесу его к ограде гетто и передам своему другу. Это письмо нелегко оборвать, оно – мой последний разговор с тобой, и, переправив письмо, я окончательно ухожу от тебя, ты уж никогда не узнаешь о последних моих часах. Это наше самое последнее расставание. Что скажу я тебе, прощаясь, перед вечной разлукой? В эти дни, как и всю жизнь, ты был моей радостью. По ночам я вспоминала тебя, твою детскую одежду, твои первые книжки, вспоминала твоё первое письмо, первый школьный день. Всё, всё вспоминала от первых дней твоей жизни до последней весточки от тебя, телеграммы, полученной 30 июня. Я закрывала глаза, и мне казалось – ты заслонил меня от надвигающегося ужаса, мой друг. А когда я вспоминала, что происходит вокруг, я радовалась, что ты не возле меня – пусть ужасная судьба минет тебя. Витя, я всегда была одинока. В бессонные ночи я плакала от тоски. Ведь никто не знал этого. Моим утешением была мысль о том, что я расскажу тебе о своей жизни. Расскажу, почему мы разошлись с твоим папой, почему такие долгие годы я жила одна. И я часто думала, – как Витя удивится, узнав, что мама его делала ошибки, безумствовала, ревновала, что её ревновали, была такой, как все молодые. Но моя судьба – закончить жизнь одиноко, не поделившись с тобой. Иногда мне казалось, что я не должна жить вдали от тебя, слишком я тебя любила, думала, что любовь даёт мне право быть с тобой на старости. Иногда мне казалось, что я не должна жить вместе с тобой, слишком я тебя любила. Ну, enfin… Будь всегда счастлив с теми, кого ты любишь, кто окружает тебя, кто стал для тебя ближе матери. Прости меня.
С улицы слышен плач женщин, ругань полицейских, а я смотрю на эти страницы, и мне кажется, что я защищена от страшного мира, полного страдания.
Как закончить мне письмо? Где взять силы, сынок? Есть ли человеческие слова, способные выразить мою любовь к тебе? Целую тебя, твои глаза, твой лоб, волосы.
Помни, что всегда в дни счастья и в день горя материнская любовь с тобой, её никто не в силах убить. Витенька… Вот и последняя строка последнего маминого письма к тебе. Живи, живи, живи вечно… Мама».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?