Текст книги "Архитектор и монах"
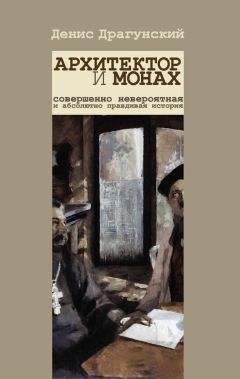
Автор книги: Денис Драгунский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
«Вы, конечно, понимаете, – сказала она, – что я подняла крик только из-за этой ведьмы Браун». – «Догадываюсь, барышня. Вернее, госпожа, вернее, товарищ Браун-младшая». Она засмеялась и заплюскала ресницами. Видно было, что она знает про свои глазки-звездочки и использует их на все сто процентов. «Но вы, конечно, тоже вели себя рискованно. Как можно предлагать такое незнакомой – то есть едва знакомой – женщине!» – «Простите, барышня-товарищ». Она опять засмеялась: «Какой вы веселый и милый. Точно, это у вас австрийское. У меня был друг из Вены, очень смешной. То есть он очень умел смешить девушек. Мы так смеялись, просто ужас!» – «Он думает, что соблазняет женщин, – сказал я с выражением. – Но на самом деле он их только развлекает». Она не поняла. Она спросила: «А?» – «Это Стендаль». – «Кто?» – «Ну, был один такой. Очень давно». – «Когда?» – «Лет сто назад». – «А… Понятно. Поэтому не надо меня соблазнять, лучше развлеките меня, как этот ваш Стендаль». – «Разве я вас соблазнял?» – «Хорошенькое дело! – возмутилась она. – А кто приглашал меня в свою холостую квартиру поговорить об архитектуре, знаем мы эти умные разговоры! Кто сказал, что мне очень понравится?» Ишь ты, она все дословно запомнила. «Да еще в присутствии этой злобной старухи Браун! – она стукнула кулачком по столу и перевела дух. – Нет, нет, конечно, даже если бы этой ведьмы Браун не было, я бы все равно не пошла с вами.
Я не пошла бы вот так сразу в вашу квартиру, еще чего…» – она сделала паузу и посмотрела на меня со всей возможной синеглазостью. Я отвел взгляд и опустил голову. «Но, – сказала она, – но мы с вами могли бы просто зайти в кафе, потом пройтись немного, просто пройтись…» – «У вас же двое детей». – «Они в детском саду на пятидневке». – «Вы же замужем». – «Муж у меня постоянно в командировке, постоянно». Она чуть не плакала, странное дело.
Мне на секунду захотелось погладить ее по голове и сказать какую-то глупость вроде «ничего, ничего». Или даже пригласить ее в кафе. А потом к себе. Я был уверен, что она бы пошла со мной. Но захотелось только на секунду. А квартира была уже заперта и с кровати содраны простынки.
Я их просто выбросил, они были совсем ветхие.
Я сказал: «Я принес ключи, я уезжаю». – «В Вену?» – «В Вену». – «А где ваш чемодан?» – «У меня нет чемодана. Вот, у меня портфель, это все.
А свои книги я отослал по почте, посылкой». –
«У вас есть квартира в Вене?» – «Нет». – «Куда же вы послали посылку?» – «До востребования, разумеется». – «Ах да, конечно…» – она задумалась, запихивая мои – уже бывшие мои – ключи в конверт, надписывая на конверте дату – 5 марта 1938 года, – укладывая конверт в деревянную ячейку, запирая шкаф. Потом сказала: «Напишите мне письмо до востребования. Или открытку. Центральный почтамт, до востребования, меня зовут Ева. Ева Браун». – «Хорошо. До свидания». – «До свидания, господин Гитлер!»
Какие глупые и несчастные люди. Особенно женщины.
Их всех очень жалко.
Но всем глупым и несчастным людям не станешь писать до востребования.
Как только я вернулся в Австрию, Германия приехала туда за мной.
Тринадцатого марта тридцать восьмого года был торжественно подписан германско-австрийский договор о дружбе и сотрудничестве.
Тельман не собирался присоединять Австрию к Германии. Ему хватало народных республик Бельгии, Голландии и Люксембурга. Ему нужна была этакая буржуазная витрина немецкого коммунистического царства. Для французов, британцев, и особенно для стран-лимитрофов – от Финляндии до Болгарии.
В Австрии была даже разрешена оппозиция. Даже антиправительственная пресса существовала – газета «Свободная Австрия». Можно было ругать правительство за прогерманский курс, называть министров коммунистическими марионетками и грозить кошмарами предстоящей аннексии. Которой все равно не будет, я это точно знал, да и все знали, наверное. Но повторяли: «вот придут немцы».
Ужаснее всего было то, что я считал себя немцем. Я не понимал, что такое «быть австрийцем». Я был уверен, что все эти австрийцы врут сами себе и друг другу. И насчет своего австрийства, и особенно насчет немцев, которые вот-вот придут, всех арестуют, все отберут и поделят. Выгонят вежливых чистеньких буржуев из их квартир и пригородных домиков и поселят туда грубых рабочих. Которые пахнут пивом, потными подмышками и дешевым табаком. Апокалипсис!
Страх – очень приятное состояние души.
6. Тринадцатый Год. Убийство
– Он сказал, что страх – очень приятное состояние души. Странная идея! Не знаю, не знаю, господин репортер, что хорошего в страхе! – сказал я.
По-моему, наоборот.
Однажды Рамон Фернандес пригласил меня к себе. После заседания кружка.
Все разошлись, и даже Дофин куда-то умчался, ничего мне не сказав, хотя обычно он меня ждал. Но у него были свои ключи от нашей – тьфу! – от моей квартиры, и я не беспокоился. Мне даже нравилось, что он чувствует себя свободно. Если ты пустил кого-то пожить к себе домой, то не требуй, чтоб он вел себя как послушный сынок. «Можно то? Позвольте это?» Не знаю, может быть, кому-то это нравится, а меня раздражает.
Рамон посмотрел Дофину вслед и сказал: «Пойдем посидим, поболтаем, у меня есть бутылка вина».
Я тоже смотрел вслед Дофину, как он идет быстро, чуть взмахивая руками, бежит-торопится, я хотел увидеть, как он свернет за угол, поэтому не расслышал и переспросил.
Рамон сказал, что у него есть ко мне вопрос.
Я сказал: «Слушаю тебя, дружочек».
Он сказал: «У меня есть бутылка хорошего вина и маленький вопрос».
Я сказал: «Рамон! Вопрос или вино?» Я лицом и голосом показал, что мне это не нравится. Не надо смешивать такие вещи, угощение и серьезный разговор. Я сам – южный человек и прекрасно знаю все эти фокусы. Тем более что я ума не мог приложить, какой у него может быть ко мне вопрос.
Он обнял меня за плечи и сказал, что очень просит зайти. Недалеко ведь! И кроме всего, у него есть особая ветчина. Прислали из дому. Я не пожалею.
«Она, наверное, очень долго ехала, эта ветчина…» – я усмехнулся и пошмыгал носом – как будто нюхаю подгулявшую ветчину.
«Не обижай меня! Мою ветчину! И мою Испанию! – прокричал Рамон, драматически изогнув брови, и засмеялся: – Наша ветчина, наш знаменитый твердый хамон, не путай его с жирной немецкой шинкой, которая тухнет за полдня. Ему ничего не делается. Чем дольше испанский окорок висит на ветру, тем лучше».
Он очень крепко держал меня за плечо и прямо-таки тащил в свою сторону: он и в самом деле жил недалеко.
Ладно.
Вошли в его квартиру.
Грубо пиная картонных кукол, которые стояли на полу, – помните, я рассказывал, что он изготовлял кукол для витрин? – отпихивая и опрокидывая кукол, он расчистил нам путь к столу.
Доска, тарелка и два стакана. Черная ветчина и бутылка вина без этикетки.
«Самое что ни на есть!» – ответил он на мой удивленный взгляд.
Он достал нож, положил на стол. Стал открывать бутылку. Я взял нож, сказал: «Дай я пока нарежу ветчину». «Порежешься», – сказал он и показал, как этот нож режет картон. Подбросил в воздух кусочек картона и полоснул по нему ножом. Картон развалился на два лоскутка. «Вот так-то, – сказал он. – Лучше я сам». Я не спорил. Он нарезал свой знаменитый хамон тончайшими лепестками. Было очень вкусно. Вино было неплохое.
Вдруг он спросил, как я отношусь к Дофину.
Я сказал, что хорошо, разумеется, раз я его привел в наш кружок. Да еще пустил к себе жить. Рамон спросил, как Дофину у меня живется. Я сказал, что неплохо, судя по всему. Я улыбнулся, но весь этот разговор был странен и неприятен. Рамон спросил, в одной комнате мы спим или в разных? В разных, но что за вопросы. Какая разница?
– Он мне очень нравится, – сказал Рамон.
Рамон вдруг стал рассказывать непристойные вещи.
Про то, как ходил в клозет после Дофина.
У Клопфера, на кружке. Выслеживал, когда Дофин пойдет в клозет, и шел сразу следом. И жадно нюхал. «У него очень свежая, почти детская моча! – заурчал Рамон. – Сладкий деревенский запах!»
– Хватит! – я вскочил со стула. – Зачем ты мне говоришь эти гадости!
– Это не гадость! – сказал он. – Я его люблю! Я хочу его. Я умираю от любви, от желания, от страсти. Он самый лучший на свете. Он будет мой. Я увезу его. А сначала он переедет сюда, ко мне. Он ведь художник? Мы поладим.
Я все еще хотел обернуть дело в шутку:
– Я его тоже люблю, – сказал я. – Не так, как ты, но все же. Но тщетны наши мечтания, дружище! – я засмеялся.
– Почему? – спросил Рамон.
– Запей вином свою страсть, закуси ветчиною, – я нарочно громко хохотал.
– Почему? – Рамон стукнул кулаком по столу.
– Наш мальчик любит другого! – смеялся я. – Другой соблазнил его, другой!
– Леон? Я так и знал… – сказал Рамон и вдруг запустил бутылкой в посудный шкаф. Разбилось стекло, и большая фаянсовая тарелка, стоявшая на ребре, упала на пол и тоже разбилась.
Рамон был в бешенстве. Бегал по комнате и орал, что убьет Леона, голову ему размозжит молотком. Я никогда не видел такой страсти, такой ревности. Отелло? Куда там! Размахивал молотком. Стукнул молотком по столу, тарелка вдребезги, на столе след. Как они страшно любят, эти необычайные господа! Просто ужас. Даже мне стало жутковато – а вдруг с размаху заденет.
Тем более что я разглядел – это не молоток, а кулинарный топорик: с одной стороны лезвие, как у маленького топора, а с другой – обушок с пупырышками. Отбивать мясо. Рамон ведь хотел стать поваром. Настоящим кулинаром, и пойти работать в дорогой ресторан. Вернее, говорил, что хочет. Купил набор настоящих поварских ножей и вот этот топорик. Дальше фантазий дело не пошло. Хотя раза два или три он приглашал товарищей на ужин, который готовил своими руками. Меня в том числе. Что сказать про его кулинарные таланты? Когда у него были деньги на хорошее мясо – было вкусно. Когда покупал что-то подешевле и пожилистее – невкусно. Вот и вся кулинария. Поэтому он скоро забросил эти мечты и снова вернулся к вырезанию картонных кукол. Ножи пригодились. А топорик все время валялся где-то сбоку.
Он закричал: «Я его убью!» – и рванулся к двери.
Но рванулся так, чтоб я успел схватить его за рукав.
Очень театральный человек.
Я схватил, конечно. Он сразу остановился.
Я отпустил его. Он сел на кровать и прошептал: «Иди, иди, иди!»
* * *
Конечно, я не верил. Я думал, что Рамон разобьет еще пару тарелок и успокоится. Тем более что он человек неглупый, хоть и страстный, и извращенный. Он должен понимать две вещи. Первое: все его подозрения яйца выеденного не стоят. Пустые фантазии. Ни Дофин, ни Леон – мужской любовью не занимаются, это же ясно. Между ними ничего не было и быть не могло. И второе: убийство, совершенное в центре Европы, в европейской столице, – не останется безнаказанным. Найдут, арестуют, осудят, повесят. Это не в испанской деревне топорами размахивать. «У любви, как у пташки, крылья», хо-хо. А потом – «Арестуйте меня!» Вот именно что. Даже в Испании есть полиция. Здесь – вдруг подумал я – это не в России, не в Сибири… Там можно топором по голове и в прорубь. Нет, товарищи. Это Вена, товарищи мои дорогие, здесь надо вести себя прилично.
Но я почему-то все время об этом думал.
Как будто бы уговаривал себя, что ничего страшного.
Уговаривал себя полтора дня: следующее заседание Клопфер назначил на послезавтра. Почему так скоро? Ведь мы собирались не чаще раза в неделю. Но, оказывается, Леон хотел выработать позицию.
То есть не просто так реферат обсуждать, а что-то решить. Если я правильно помню, через пару месяцев должна была состояться конференция венских кружков. Чтоб выбрать делегатов на европейский конгресс.
Кажется, именно по вопросу о национализме.
Но я уже не помню.
Но помню прекрасно, как я уговаривал себя: «Ничего страшного, ничего страшного. Ничего такого Рамон не вытворит. Он просто истерик. Театральный скандалист. Дон Хозе из оперы Бизе, ха-ха».
Уговаривал себя, когда шел на заседание кружка, когда поднимался по лестнице, давил кнопку звонка, когда усаживался на свое любимое место, в кресло, чуть задвинутое за диван. Как бы во втором ряду и немножко в тени. Я любил это кресло. Когда я выступал с места, то на меня смотрели не только те, кто сидел напротив, по полукругу, но и те, кто сидел рядом, но чуточку впереди. Они выворачивали шеи, смотря на меня. Или поворачивались всем телом. Один товарищ даже свернул диванный подлокотник, сорвал его с шипов – там пересох клей, и он вылетел и упал на пол. Мы потом все вместе, смеясь, чинили диван. Приспосабливали ручку на место.
У меня был опыт возиться с диванами.
Помните, я рассказывал про старый диван с клопами? Нам его отдали господа, у которых мама убирала в доме.
Кстати, я сейчас подумал – зачем этим господам была женщина для уборки? Ведь у них была какая-то прислуга. Дворник и кучер. Еще, кажется, повар и горничная. Они все там толпились, когда мы с отцом вытаскивали диван и грузили его на тележку.
Да, и почему все говорили, что отец от нас ушел, когда я был совсем маленький? Зачем это вранье про чужую семью? Мы жили вместе, пока я не ушел из дому. Пока я не стал революционером, подпольщиком. Террористом, если угодно! Я не боюсь в этом признаться, потому что русское республиканское правительство еще в двадцатом году сделало амнистию всем бывшим революционерам. Тем, кто сдался, то есть заявил, что прекращает террор.
– И вы тоже сдавались? – спросил репортер. – А куда надо было сдаваться, то есть относить заявление? Простите, но меня интересуют частности. Читатели любят точные подробности жизни, вы понимаете?
– Вы что, и об этом будете писать?
Он закашлялся, потом засмеялся:
– Нет, наверное. Это у меня привычка, привычка репортера. Но все же?
– В полицию, надо полагать. Я так думаю. Но я не заявлял, не сдавался. Потому что задолго до того стал монахом. То есть я фактически сдался, если угодно.
Но мы с вами отвлеклись, простите.
* * *
Да, так вот. Я уселся в кресло – креслице на самом деле, жесткий стул с подлокотниками, ничего особенного, – которое стояло в тени за диваном.
Любимое оно у меня было вот почему. Мне тогда очень нравилось, что на меня смотрят, неудобно вывернув шеи. Мне казалось, что я постигаю искусство управлять людьми. Раз они смотрят на меня, вывернув шеи, – значит, они признают мою значительность. Вернее, я заставил их. Господи, твоя воля. Сейчас смешно вспомнить.
Да, так вот.
Я уселся в свое любимое кресло, достал тетрадку с конспектом. Карандаш вытащил. Я даже помню, какое первое слово я написал, пока еще все не собрались: «Роль». Кажется, я собирался записать: «Роль национального чувства в пролетарской солидарности». Вот что я хотел написать. Да, кажется, так. Или что-то другое. Потом, через несколько дней, я смотрел на эту страничку и соображал: или «Роль мелкой буржуазии в формировании и распространении националистических предрассудков»? Но я точно помню, что думал я именно о национализме, потому что такова была тема заседания. Мы никак не могли с этой темой справиться, закрыть ее наконец. Выработать позицию.
Но я успел написать только слово «роль».
Потому что открылась дверь и вошла Наталья Ивановна.
Это жену Леона так звали. Наталья Ивановна Седова.
Кто-то спросил: «А где Леон?»
– Его убили, – сказала она.
Поднялся шум. Все повскакали с мест, окружили Наталью Ивановну. Она плакала. Ее усадили на диван, дали воды. Все кричали, ахали, собирались звать полицию. Она сказала, что полиция уже была. Что тело Леона уже забрали в морг. Что детей она уже оставила с соседкой. Шум стоял страшный. Все ахали, кричали, тормошили бедную Наталью Ивановну; она отвечала отрывочно, коротко, по многу раз на одни и те же вопросы, потому что каждый хотел сам, лично спросить. Постепенно нарисовалась такая картина.
Вчера она уложила детей и ушла в спальню, а он сидел и работал. У него была маленькая комната с крохотным окном. Окно выходило на крышу соседнего дома – они жили на третьем этаже, а рядом был вплотную пристроен двухэтажный домик… внизу лавочка, а во втором этаже квартира хозяина. Милейший человек. Сочувствует социал-демократам. Он спал и ничего не слышал. Впрочем, нет. Его жена слышала на крыше какой-то стук. Шаги? Непонятно. Сквозь сон она не поняла.
Но не будем забегать вперед.
Итак. У Леона был кабинетик, и он там работал. Вот и в этот вечер он сидел над своими бумагами. Он любил перечитывать то, что написал раньше. Старые статьи.
Вдруг Наталья Ивановна услышала какой-то шум. Она вбежала в кабинет. Ей показалось, что мелькнуло что-то за окном. Но там, со стороны двора, росло дерево. Но, возможно, это были ветки. «А скорее всего, – подумал я тогда же, – это она уже потом додумывала, ей потом, задним числом показалось, что она что-то чувствовала и подозревала».
* * *
Она описала комнату. Мне кажется, что она неправильно описала. Лампа не там стояла. Лампа стояла не слева на столе, как она говорила, а справа, ближе к комоду.
Леон вовсе не сидел за столом, склонившись над рукописью. Он сидел у комода, подвинувшись к нему на своем рабочем кресле. Ящик комода был выдвинут, набитый бумагами ящик. Там была кипа газетных вырезок. Он вытащил оттуда лист – размером в восьмушку газетного – и читал его, наморщив лоб. Видно было, что ему нравится, что он читает.
Я как будто глазами увидел это. Хотя как я мог это увидеть? Не знаю.
И почему мне показалось, что она описала неправильно, я тоже не знаю.
Я должен сказать честно, господин репортер:
у нас с Леоном были неважные отношения. А если совсем откровенно, то просто плохие. Но тут одна тонкость. Это он ко мне плохо относился, а я к нему – совсем нет. Я к нему спокойно относился. Я видел его заслуги перед рабочим движением. Он моих заслуг не видел. Может быть, ему не нравились мои кавказские, скажем так, моменты жизни. Дело вкуса. Но мы тогда, честное слово, не развлечения ради грабили инкассаторов.
И не ради наживы, мы не воры! В том числе и ради того, чтобы товарищи в эмиграции могли спокойно жить и работать. Может быть, Леону кто-то сказал, что я считаю его белоручкой и краснобаем. Это неправда. Я никогда так не считал и тем более ничего такого не говорил. Я понимаю, что такое – возглавить первый Совет рабочих депутатов. Этого у Леона никто не отнимет. Он, кстати, прекрасно держался на суде. Он был смел и отважен. Он не стал вилять и ловчить, он сказал: «Да, российский пролетариат хочет захватить власть!» Молодец, правда? Да, и он тоже был в ссылке, как я. Мы оба были в ссылке, оба – бежали. Правда, он убежал быстрее. Очень хитро и храбро убежал. Если бы мне подвернулась такая возможность – я бы тоже точно так же, на нартах, на собаках, с пьяным вогулом-погонщиком, удрал бы по снежной тундре.
Что-то он во мне подозревал нехорошее. Не знаю что. Мрачно как-то на меня смотрел, хотя я пытался ему улыбаться.
Может быть, я тоже на него смотрел мрачно. Но! Но судите сами – если он на меня все время смотрит искоса и даже как-то неодобрительно – не буду же я ему все равно улыбаться во весь рот? Все время, несмотря ни на что? Я же не слабоумный добряк, в конце концов. Но, повторяю, даже если я на него смотрел строго или равнодушно – я себя вел очень корректно. Никаких упреков, уколов, хмыканий, никаких обидных слов или враждебных поступков. И он тоже, кстати! Держался не очень дружелюбно, но вежливо. То есть между нами не было никакой особой вражды. Ну, кошка пробежала. Эх! Кошек в Вене полно. Мало ли между кем они пробегают! Не убережешься.
Но все-таки ума не приложу, отчего он меня недолюбливал.
Может быть, из-за газеты «Правда»? Оттого, что я за год до того взял его марку для газеты? Вот и вышло, что у него была своя «Правда», у меня – своя. У каждого своя правда! Но мы потом объяснились. Кажется, именно эту пословицу и вспомнили. Он махнул рукой. Возможно, я был отчасти неправ, что взял его марку. Но у меня, честное слово, не было возможности с ним как-то снестись, попросить разрешения. Тем более что его «Правда» уже практически не выходила к тому времени. И ясно, что не из-за меня. Инцидент был исчерпан.
Однако он продолжал немного сердиться.
Скорее всего, тут была чистая ерунда.
Скорее всего, нашей дружбе помешали мои отношения с Лениным.
У меня были хорошие отношения с Владимиром Лениным, у Леона – нет. Леон считал его слишком жестоким. Был такой случай – Ленин выгнал из редакции газеты «Искра» троих стариков – Потресова, Аксельрода и Веру Ивановну Засулич. Леон возмутился. По-человечески я его очень хорошо понимаю, но с практической стороны понимаю и Ленина: маленькая революционная партия не может себе позволить раздавать почетные должности заслуженным старикам. Тем более что именно Ленин тащил на себе всю газету, всю работу, от сочинения передовиц до отдела писем. Чуть ли не сам читал и правил гранки! А старики только говорили умные слова на заседаниях редколлегии. И все время были недовольны. Давали ценные советы. Так что Ленин, как практик революции, был прав. Но с точки зрения морали, безусловно, был прав Леон. Кем был бы Ленин, где был бы Ленин, если бы не эти старики? Кажется, я Ленину об этом говорил. Или писал. Или хотел написать. Так ли это важно? Мораль и политика – вечное столкновение. Вот, кстати, главная причина, почему я с наслаждением покинул политику.
Я довольно много общался с Лениным, живал у него дома. Ленин ко мне прекрасно относился, помогал. Всячески помогал – и деньгами, и осваивать марксизм. И, главное, душевно поддерживал. И я это помню. А Леон, если говорить совсем честно, Ленина терпеть не мог. Уже давно. Он писал о нем очень обидные вещи. Он называл его «барчуком» и «адвокатишкой». Сейчас, почти через полвека, я уже могу сказать – он отчасти был прав. Конечно, я не сторонник оскорблений, но вместе с тем – что тут оскорбительного? Барчук – всего лишь сын барина. Отцом Ленина был человек в чине штатского генерала. Нужды он не знал. Адвокатишка – всего лишь маленький неудачливый адвокат, Ленин таким и был. Вообще он жил в комфорте. В ссылке он был только раз, причем добирался туда своим ходом – то есть на экипажах, арендованных за собственные деньги. Сегодня такое трудно вообразить, однако же это было так! Он жил в ссылке со всеми возможными удобствами. Получал из Европейской России охотничьи ружья и всякую амуницию. Лайковые перчатки и даже собаку. Представляете себе – за несколько тысяч километров ему доставили породистую охотничью собаку. Я, например, с трудом могу такое себе представить. Хотя я русский – русский не по крови, а по культуре. Но меня, человека русской культуры, прямо-таки трясет от вот таких проявлений русского барства. Тоже культура, кстати! Сам Ленин, между прочим, говорил: во всякой национальной культуре есть две культуры – культура народа и культура господ. Пролетарская и буржуазная. В общем, изящная и лживая культура эксплуататоров и совсем другая – простая, грубая и честная культура трудящихся классов.
Такое вот было противоречие в личности товарища Ленина. Он хотел быть – и называл себя!
и многие соглашались с ним! – хотел быть вождем трудового народа. Но сам он был плоть от плоти дворянства. «Хоть я и в ссылке – но пришлите мне ирландского сеттера и немецкое ружье, я на охоту пойду». Барин! Точнее, барчук. Потому что жил на родительское наследство.
Так вот – с одной стороны барчук, с другой – жестокий и холодный человек. Некий, что ли, Робеспьер. Неудивительно, что это раздражало Леона. Это, к слову сказать, меня тоже раздражало – но я, наверное, не такой тонкокожий, как Леон. И вообще, я жил в бедности, привык к нужде и с ранних лет умел быть благодарным за всякое тепло. А этот барственный и жестокий революционер – я говорю о Владимире Ленине – дарил мне тепло, заботу, улыбку. Домашний уют. И даже пирожки в дорогу! Когда я уезжал от него в Вену, он купил мне пирожки и сам завернул в газету, в несколько слоев, чтоб пирожки подольше были теплыми. Это меня страшно растрогало. Меня мама так не собирала в дорогу, как товарищ Ленин. Ух, как всё перепутано! И я был ему благодарен, я до сих пор помню этот газетный сверток. Хотя его жестокость меня все равно поражала. Все перепутано, все невероятно перепутано. Ленин учил распутывать все сложности с помощью диалектики Гегеля и Маркса, но я не знаю, как распутать такой узел.
Вот.
Итак, вполне возможно, что Леон переносил свою антипатию к Ленину на меня. Бывает. Это по-человечески очень понятно. Друг моего врага – мой враг, ну, если не впрямую враг, то и не друг точно…
Поэтому Леон никогда не приглашал меня к себе домой.
И поэтому мне особенно удивительно, что, когда Наталья Ивановна стала описывать комнату-кабинет Леона, – я как будто увидел, как той ночью Леон сидит на кособоком плетеном креслице у комода с выдвинутыми ящиками и читает вырезки из старых газет, пересматривает свои старые статьи. И на столе, справа, близко к комоду, стоит лампа.
* * *
Но вернемся в этот ужасный день. Вернемся в гостиную Клопфера. Вернемся к рассказу Натальи Ивановны.
Ей показалось, что за окном что-то мелькнуло. Тень дерева?
Сначала она увидела это короткое темное мелькание – и только потом посмотрела на мужа. Он сидел, подвернув ногу и опустив голову на стол. Сначала она подумала – что у него с ногой? И тут увидела темное пятно.
На этих словах Наталья Ивановна снова расплакалась.
Ее опять стали поить водой.
Она вытерла слезы, перевела дыхание, лицо ее сделалось строгим, и она сказала:
– Леон был убит ударом по голове. Ему пробили голову.
Все замолчали, но кто-то все же спросил, не удержавшись:
– Чем?
Бывает, что люди задают бестактные и бессмысленные вопросы. Меня отец учил не задавать таких вопросов. Особенно если кто-то умрет. Нельзя спрашивать «а чем он болел?» или «в котором часу скончался?». Меня отец много чему хорошему научил.
* * *
Кстати, господин репортер, я уже это вспоминал, кажется, но хочу повторить. Странная вещь: мне все родные все время говорили, что отец уехал от нас с мамой, – проще говоря, развелся с мамой. Фактически развелся, без официального расторжения брака, разумеется. Тогда в России это было очень трудно. Да, и все говорили мне, что отец от нас ушел, когда мне было четыре года, что отец сильно пил, был настоящим алкоголиком. Якобы совсем спился. Мне это мама тоже говорила. Но это неправда. Я прекрасно помню, как мы все жили вместе, я любил отца, я помню массу подробностей про нашу жизнь. Он выпивал, конечно. Но пьяницей не был, клянусь!
Почему я все время отвлекаюсь?
* * *
Кто-то спросил Наталью Ивановну:
– Чем?
То есть «чем ему пробили голову».
– Кулинарным топориком, – сказала она.
– Кулинарным топориком? – воскликнули все.
– Да, – сказала она и вытащила из сумки газету и в ней – кулинарный топорик с темными коричневыми пятнами. Коричнево-бурым была запачкана вся газета. Это коричнево-бурое уже засохло.
– А! – закричали несколько человек. – Кровь!
– Но почему полиция не забрала топорик? – спросил кто-то.
Может быть, даже я сам спросил – спросил, протолкавшись поближе сквозь небольшую толпу товарищей, обступивших Наталью Ивановну, и вытягивающих шеи, и поправляющих пенсне, и потряхивающих бородками, глядя на заляпанное кровью орудие убийства.
А может быть, этот вопрос мне показался, потому что Наталья Ивановна тут же на него и ответила:
– Валялся под комодом. Топорик отлетел под комод. Я потом его нашла. Полоса крови, полоса капелек крови вела под комод, комод на ножках… И топор туда улетел. Я увидела эту полосу утром, на рассвете. Солнце…
«Косые лучи восходящего солнца…» – с неподобающей моменту несколько цинической усмешкой подумал я, но осек сам себя, и прошел к своему креслу, и сел, и плотнее вцепился руками в теплые деревянные подлокотники.
– Солнце высветило эти пятнышки, – сказала Наталья Ивановна. – Когда Леона унесли, я сидела всю ночь в его кресле… – она зарыдала.
«Как это по-женски» – подумал я тогда. Она как бы согревала это кресло своим телом, как бы хранила тепло Леона, жизнь Леона, еще час, еще два. Я чуть не заплакал вместе с нею.
Она зарыдала, ей снова дали воды, она всхлипнула и продолжала:
– Утром солнце из окна осветило паркет. Я увидела дорожку из капель засохшей крови. Я встала на колени, пошарила под комодом рукой. И вытащила.
– Вы его завернули в газету?
– Он уже был завернут в газету, – сказала она.
– Ага! – воскликнул кто-то. – Дактилоскопия!
– Что? – спросил кто-то другой.
– На рукоятке топорика могли остаться отпечатки пальцев! Вы знаете, что с помощью отпечатков пальцев уже давно, уже лет десять назад, научились изобличать преступников? Называется «дактилоскопия»! Во всей Европе и Америке является законным методом следствия. Преступник нарочно завернул топорик в газету, чтоб не отпечатались его пальцы.
Все замолчали.
Вдруг дотоле молчавший товарищ Клопфер закричал:
– Это Рамон Фернандес!
– Что?! Что?! – стали переспрашивать все.
– Я знаю этот топорик! – закричал Клопфер еще громче. – Это топорик нашего Рамона! Где он? Где Рамон?
Все загомонили, каждый кричал, что он тоже помнит, как Рамон рубил мясо этим топориком, – я ведь уже говорил, что Рамон хотел стать кулинаром, хотел научиться готовить по-настоящему, мастерски, как шеф-повар дорогого ресторана, и приобрел себе целый набор инструментов и приглашал к себе товарищей на ужины… и я говорил, кажется, что кулинаром Рамон был средненьким. Когда он покупал дорогое и мягкое мясо – его отбивные и ростбифы были хороши, когда дешевое и жесткое – плохи.
– Где Рамон? Вы видели Рамона? – все озирались, словно надеялись, что Рамон сейчас выйдет из-за книжного шкафа.
Там, между книжным шкафом и стеной, в самом дальнем и темном углу комнаты, стоял обитый кожей табурет – такие табуреты специально сделаны, чтоб стоять рядом с книжным шкафом. В них было что-то чуточку не домашнее. Библиотечное, что ли. Впрочем, эта комната в квартире товарища Клопфера была специально приспособлена для собраний и занятий. Да, какая-то недомашняя комната, правда.
Но когда я мечтал о своем собственном доме, я думал, что у меня будут два шведских шкафа, а между ними – невысокий табурет с кожаным сиденьем, я прямо представлял себе эту светло-коричневую кожу, по краям вытертую дожелта, с четырьмя круглыми, обтянутыми кожей пуговицами. Чтобы, вытащив с полки книгу, присесть и полистать ее. Увы! Бог распорядился иначе, у меня не было и нет собственного дома – но! но в моей келье есть два больших шкафа и между ними вот такая табуретка. Простите, что я свои епископские покои назвал кельей, – это, конечно, не келья, одно название…
Но хоть табурет у меня есть, одно из немногих исполненных желаний, и я часто сижу на нем, тихонько читая книгу, втиснувшись в прогалину между шкафами, так что мой келейник, отец Вячеслав, войдя в комнату, бывает, что окликает меня, не замечая сразу. Шкафы у меня, правда, не шведские, а очень глубокие, двустворчатые. Шведских шкафов в России не достать, а которые достать, сломанные и их надо чинить, и не хочется вводить епархию в расходы, тем более что от моего предшественника там остались хорошие шкафы красного дерева, с витыми колонками и резными карнизами.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































