Текст книги "Трактат о человеческой природе"
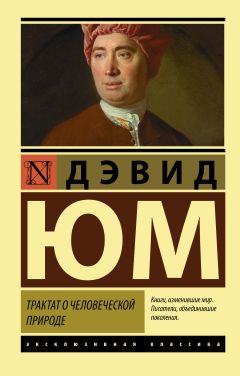
Автор книги: Дэвид Юм
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Все эти виды вероятности признаются философами и допускаются ими в качестве разумных оснований веры и мнения. Но существуют и другие основанные на тех же принципах виды вероятности, которым, однако, не удалось заслужить подобного признания. Первый вид такой вероятности может быть охарактеризован следующим образом. Как было выяснено выше, уменьшение связи и сходства уменьшает способность перехода, ослабляя, таким образом, очевидность. Мы можем прибавить к этому, что такое же уменьшение очевидности вызывается ослаблением впечатления и потускнением красок при его появлении в памяти или в чувственном представлении. Аргумент, который мы основываем на каком-нибудь вспоминаемом нами факте, бывает более или менее убедительным в зависимости от того, недавно или давно совершился этот факт. Хотя философия и не признает этого различия в степенях очевидности твердым и законным, потому что в этом случае любой аргумент должен был бы сегодня обладать одной степенью силы, а месяц спустя – совершенно другой, однако, несмотря на эту оппозицию со стороны философии, очевидно, что данное обстоятельство имеет значительное влияние на познание и незаметно изменяет авторитетность одного и того же аргумента в зависимости от того, в какое время он нами будет предложен. Большая сила и живость впечатления, естественно, сообщают те же качества связанной с ними идее, а, согласно вышеизложенной теории, от степени силы и живости и зависит вера.
Существует и второе различие, которое мы часто можем подметить в степенях нашей веры и уверенности и которое даже всегда бывает налицо, несмотря на то что не пользуется признанием философов. Опыт, произведенный недавно и еще свежий в памяти, действует на нас больше, чем опыт, до некоторой степени стертый, и оказывает преимущественное влияние как на суждение, так и на аффекты. Живое впечатление порождает большую уверенность, чем слабое, потому что в нем больше непосредственной силы, которую оно и сообщает связанной с ним идее, приобретающей благодаря этому большую силу и живость. Таково же и действие недавнего наблюдения, потому что привычка и переход в данном случае совершеннее, а непосредственная сила лучше сохраняется при перенесении. Так, пьяница, бывший свидетелем смерти своего товарища от невоздержания, на некоторое время бывает поражен этим случаем и боится, как бы подобное несчастье не постигло и его; но, по мере того как воспоминание об этом событии постепенно исчезает, прежняя уверенность возвращается к нему и опасность представляется ему уже менее достоверной и реальной.
В качестве третьего примера подобного же рода я приведу следующее: хотя наши заключения, основанные на доказательствах из опыта, значительно отличаются от заключений, основанных на вероятности, однако первый вид заключений часто незаметно переходит во второй единственно благодаря наличию множества связанных друг с другом аргументов. Несомненно, что, когда заключение выводится непосредственно из объекта без помощи какой-либо промежуточной причины или действия, убеждение бывает гораздо сильнее и уверенность живее, чем когда воображение должно пройти длинную цепь связанных друг с другом аргументов, какой бы непогрешимой ни считалась связь каждого отдельного звена [с другими]. Живость всех этих идей заимствуется от первичного впечатления при помощи привычного перехода воображения; и очевидно, что эта живость должна постепенно ослабевать пропорционально расстоянию и терять часть своей силы при каждом переходе. Иногда это расстояние оказывает даже большее влияние, чем то, которое мог бы оказать противоположный опыт; человек может живее убедиться в чем-нибудь при помощи вероятного, но сжатого и лишенного посредствующих звеньев рассуждения, чем при помощи длинной цепи следствий, хотя бы каждое отдельное звено этой цепи было правильным и доказательным. Более того, редко бывает, чтобы подобные рассуждения порождали уверенность: человек должен обладать очень сильным и устойчивым воображением, чтобы сохранить до конца очевидность, прошедшую столько стадий.
Быть может, здесь нелишне будет отметить одно весьма любопытное явление, на мысль о котором наводит нас исследуемый предмет. Очевидно, что нет такого факта в древней истории, в котором мы могли бы убедиться, иначе чем пройдя множество миллионов причин и действий и цепь аргументов почти неизмеримой длины. Прежде чем сведения о некотором факте могли дойти до первого историка, факт этот должен был пройти через множество уст; а после того как он записан, каждая новая его копия является новым объектом, связь которого с предыдущими известна только из опыта и наблюдения. Итак, из предыдущего рассуждения можно, пожалуй, вывести, что очевидность всей древней истории теперь уже утрачена или по крайней мере будет утрачена со временем по мере увеличения цепи причин и приобретения ею все большей длины. Но поскольку мысль о том, что в случае если литература и искусство печатания будут и дальше стоять на такой же высоте, как теперь, то наше потомство, хотя бы и через тысячу веков, станет сомневаться, существовал ли некогда такой человек, как Юлий Цезарь, – поскольку сама мысль об этом кажется противной здравому смыслу, то это можно считать возражением против предполагаемой мной теории. Если бы вера состояла только в некоторой живости, заимствованной от первичного впечатления, она ослабевала бы в зависимости от длины перехода и наконец должна была бы окончательно угаснуть. И, наоборот, если в некоторых случаях вера не может угаснуть, значит, она должна быть чем-то отличным от живости.
Прежде чем ответить на это возражение, я замечу, что оно легло в основу одного знаменитого аргумента против христианской религии, однако с той разницей, что связь каждого звена цепи человеческих свидетельств [с остальными] считалась в последнем случае не превышающей вероятности и допускающей некоторую степень сомнения и неопределенности. И действительно, надо признать, что при подобном (впрочем, неправильном) взгляде на предмет нет таких исторических данных или традиций, которые в конце концов не потеряли бы всей своей силы и очевидности. Всякая новая вероятность уменьшает первоначальное убеждение; и, как бы велико ни было последнее, оно не может уцелеть при таких постоянных убавлениях. Положение это в общем верно, хотя впоследствии мы увидим[20]20
Часть IV, глава 1.
[Закрыть], что оно допускает одно очень значительное исключение, весьма важное для данного предмета познания.
Пока же попытаемся опровергнуть вышеупомянутое возражение, предположив, что историческая очевидность вначале равняется полному доказательству из опыта; обратим, далее, внимание на то, что хотя звенья, соединяющие какой-либо действительный факт с наличным впечатлением, являющимся основанием нашей веры, неисчислимы, однако все они однородны и зависят от точности наборщиков и писцов. Одно издание сменяется другим, другое – третьим и т. д., пока мы не доходим до тома, просматриваемого нами в настоящее время. Проходимые нами ступени не видоизменяются. Зная одну из них, мы знаем все и, пройдя через одну, уже не можем сомневаться в остальных. Только это обстоятельство и сохраняет очевидность истории; благодаря ему же память о нынешнем времени передастся позднейшим поколениям. Если бы вся длинная цепь причин и действий, которая соединяет какое-либо прошлое событие с какой-либо книгой по истории, была составлена из различных частей, которые наш ум должен был бы представлять себе раздельно, мы никак не могли бы сохранить до конца веру, или очевидность. Но так как большинство этих доказательств совершенно сходно друг с другом, то наш ум легко пробегает их, без труда перескакивает с одного на другое и образует лишь смутное и общее представление о каждом звене в отдельности. В силу этого длинная цепь аргументов так же мало способствует уменьшению первоначальной живости, как и более краткая, если только последняя составлена из отличных друг от друга частей, каждая из которых требует раздельного рассмотрения.
Четвертый вид нефилософской вероятности проистекает из общих правил, часто необдуманно составляемых нами и являющихся источником того, что мы называем собственно предубеждением. Ирландец не может обладать остроумием, а француз – солидностью; поэтому, хотя бы беседа первого отличалась несомненной приятностью, а разговор второго – большой рассудительностью, мы, в силу своего предубеждения против них, считали бы вопреки фактам и здравому смыслу, что первый должен быть тупицей, а второй – верхоглядом. Человек по природе своей очень склонен к подобным ошибкам, и наша нация расположена к ним, быть может, не менее всякой другой.
Если бы меня спросили, почему люди составляют общие правила и подчиняют им свои суждения даже вопреки непосредственному наблюдению и опыту, я ответил бы, что, по моему мнению, это происходит в силу тех самых принципов, от которых зависят все суждения относительно причин и действий. Наши суждения о причине и действии проистекают из привычки и опыта, а когда мы привыкаем видеть связь одного объекта с другим, наше воображение переходит от первого ко второму в силу естественного стремления к переходу, которое предшествует размышлению и не может быть им предотвращено. Между тем привычке по природе своей свойственно не только действовать со всей присущей ей силой, когда воспринимаемые объекты совершенно тождественны тем, к которым мы привыкли, но и проявляться в меньшей степени, когда мы открываем лишь сходные объекты; и, хотя привычка теряет часть своей силы при каждом различии между объектами, она редко вполне утрачивается, если сколько-нибудь значительные условия остаются без изменений. Приобретя привычку есть фрукты, человек, всегда употреблявший груши и персики, удовлетворится и дынями, если ему не удастся найти свой любимый плод, а человек, ставший пьяницей вследствие употребления красного вина, с одинаковой жадностью набросится и на белое, если его дадут ему. С помощью этого принципа я уже объяснил тот основанный на аналогии вид вероятности, при котором мы переносим прежний опыт на объекты, сходные, но не безусловно тождественные объектам, известным нам из опыта. Пропорционально уменьшению сходства уменьшается и вероятность, но она все же сохраняет известную силу, пока еще остаются известные следы сходства.
Исходя из этого замечания можно сделать еще один шаг и прибавить следующее: хотя привычка лежит в основании всех наших суждений, однако иногда она действует на наше воображение вопреки рассудку и порождает противоположность в наших мнениях относительно одного и того же объекта. Поясню это. Почти все виды причин связаны со стечением обстоятельств, причем некоторые из последних существенны, другие излишни, некоторые абсолютно необходимы для совершения действия, другие же присоединяются только случайно. Между тем можно заметить, что в тех случаях, когда эти излишние обстоятельства многочисленны, заметны и часто присоединяются к существенным, они оказывают такое влияние на воображение, что даже при отсутствии существенных обстоятельств заставляют нас представлять обычное действие и придают этому представлению ту силу и живость, которые доставляют ему преимущество над простыми фикциями фантазии. Мы можем направлять эту склонность путем размышления о природе данных обстоятельств, однако несомненно, что привычка опережает воображение и дает ему известное направление.
Чтобы не ходить далеко за примером, иллюстрирующим сказанное, рассмотрим следующий случай: человек, будучи подвешен в железной клетке к верхушке высокой башни, не может не содрогаться, окидывая взором простирающуюся перед ним пропасть, хотя он и знает из опыта, что его вполне предохраняет от падения плотность поддерживающего его железа, и хотя идеи падения вниз, повреждения и смерти также имеют своим источником лишь привычку и опыт. Привычка эта, выходя за пределы тех случаев, которые ее породили и которым она действительно соответствует, оказывает влияние и на идеи объектов, до некоторой степени сходных с первыми, но не в точности подпадающих под то же правило. Обстоятельства глубины и падения так сильно поражают человека, что их влияние не может быть уничтожено противоположными обстоятельствами поддержки и плотности, которые должны бы дать ему полную безопасность. Его воображение увлекается своим предметом и пробуждает соответствующий аффект. Аффект этот действует обратно на воображение и оживляет идею, эта живая идея оказывает новое влияние на аффект и в свою очередь увеличивает его силу и живость, а вся эта взаимная поддержка воображения и аффектов оказывает в своей совокупности очень сильное влияние на человека.
Но к чему нам отыскивать другие примеры, когда данный вопрос о [не] философских вероятностях дает нам столь очевидный пример противоположности между рассудком и воображением – противоположности, порождаемой упомянутыми действиями привычки. Согласно моей теории, все суждения суть не что иное, как действия привычки, но привычка может оказать влияние, только оживляя наше воображение и доставляя нам живое представление какого-нибудь объекта. Отсюда можно было бы заключить, что наш рассудок и наше воображение никогда не могут быть противоположными друг другу и что привычка не может действовать на последнюю способность так, чтобы заставить ее противостоять первой. Мы не можем опровергнуть это возражение каким-либо другим способом, кроме как прибегнув к предположению о влиянии общих правил. Впоследствии[21]21
Глава 15.
[Закрыть] мы отметим несколько общих правил, при помощи которых мы должны упорядочивать свои суждения относительно причин и действий; правила эти основываются на природе нашего познания и на нашем ознакомлении путем опыта с его операциями в тех суждениях, которые мы составляем относительно объектов. С помощью этих правил мы научаемся отличать случайные обстоятельства от действующих причин, и когда находим, что некоторое действие может быть произведено без участия какого-нибудь определенного обстоятельства, то заключаем отсюда, что данное обстоятельство не входит как часть в действующую причину, сколь бы часто оно с ней ни соединялось. Но поскольку это частое соединение необходимо заставляет случайные обстоятельства оказывать некоторое действие на воображение, несмотря на противоположное заключение, выводимое из общих правил, то противоположность этих двух принципов производит противоположность в наших мыслях и заставляет нас приписывать одно заключение рассудку, а другое – воображению. Общее правило, как более широкое и постоянное, приписывается рассудку; исключение, как более непостоянное и неопределенное, – воображению.
Таким образом, между нашими общими правилами обнаруживается как бы некоторое противостояние друг другу. При появлении объекта, сходного с некоторой причиной в каких-нибудь очень значительных свойствах и обстоятельствах, воображение, естественно, дает нам живое представление обычного действия этой причины, хотя бы объект отличался от последней в самых существенных и самых действительных чертах. Таков первый способ влияния общих правил. Но когда мы рассматриваем этот акт нашего ума и сравниваем его с более общими и достоверными операциями нашего познания, то видим, что он носит неправильный характер и нарушает все наиболее твердо установленные принципы заключения, вследствие чего и отвергаем его. Таков второй способ влияния общих правил, подразумевающий осуждение первого. Иногда преобладает один, иногда другой в зависимости от настроения и характера действующего лица. Профаны по большей части руководствуются первым, люди мудрые – вторым, а скептики, к своему удовольствию, могут наблюдать здесь новое замечательное противоречие в нашем разуме и видеть, как вся философия, чуть ли не ниспровергнутая одним из принципов человеческой природы, опять спасается благодаря новому применению того же принципа. Следование общим правилам – это весьма нефилософский вид вероятного заключения, а между тем лишь путем следования им можем мы исправить как этот вид, так и все другие виды нефилософской вероятности.
Поскольку у нас есть примеры того, что общие правила оказывают влияние на воображение даже в противоположность рассудку, нас не должно удивлять, если мы увидим, что это действие усиливается, когда они соединяются с последней способностью, и заметим, что эти правила сообщают вызываемым ими идеям силу, превосходящую ту, которая свойственна всякой другой идее. Все знают, что существует косвенный способ высказывания похвалы или порицания, гораздо менее оскорбительный, чем открытая лесть или критика. Несмотря на то что человек с помощью подобных скрытых намеков может сообщить свое мнение с такой же несомненностью, как и открыто объявляя его, очевидно, что влияние этого мнения неодинаково сильно и действительно в обоих случаях. Лицо, бичующее меня при помощи скрытой сатиры, не пробудит во мне такого сильного негодования, как если бы оно прямо заявило мне, что я дурак и нахал, хотя и в первом случае я столь же хорошо понимаю смысл его слов. Указанное различие следует приписать влиянию общих правил.
Независимо от того, прямо ли оскорбляет меня кто-нибудь или же исподтишка намекает мне на свое презрение, я в обоих случаях непосредственно не воспринимаю его чувства или мнения, но узнаю о них лишь при помощи некоторых знаков, т. е. действий этого чувства. Итак, единственное различие между обоими случаями состоит в том, что при открытом обнаружении своего чувства данное лицо пользуется общепринятыми и обычными знаками, а при скрытом намеке на них – более редкими и необычными. Действие, производимое этими обстоятельствами, состоит в том, что воображение, переходя от наличного впечатления к отсутствующей идее, совершает этот переход с большей легкостью и, следовательно, представляет соответствующий объект с большей силой в том случае, когда связь обычна и всеобща, чем в том, когда она более редка и необычна. В соответствии с этим открытое выражение наших чувств называется снятием маски, а тайный намек на наше мнение – его маскировкой. Различие между двумя идеями, из которых одна порождается общей связью, а другая – частной, можно сравнить с различием между впечатлением и идеей. Это различие производит в воображении соответствующее действие на аффекты, причем указанное действие еще более усиливается благодаря следующему обстоятельству. Скрытый намек на гнев или презрение показывает, что у нас еще есть некоторое уважение к данному лицу и мы избегаем открыто оскорблять его. Это делает скрытую сатиру менее неприятной для нас, но и тут дело объясняется с помощью того же принципа. Ведь если бы какая-нибудь идея, на которую только намекают, не была слабее, то не считалось бы признаком большого уважения прибегать к первому способу высказывания.
Иногда, впрочем, грубость бывает менее неприятной, чем тонкая сатира, потому что первая до известной степени вознаграждает нас за оскорбление в самый момент его нанесения, предоставляя нам справедливое основание для того, чтобы осуждать и презирать оскорбляющее нас лицо. Но и это явление объясняется при помощи того же самого принципа. Ведь почему мы осуждаем всякую грубую и оскорбительную речь? Не потому ли, что она противна благовоспитанности и гуманности? Но чем же она противна этим свойствам, как не большей своей оскорбительностью в сравнении с тонкой сатирой? Правила благовоспитанности осуждают все то, что прямо оскорбляет, все то, что причиняет заметное страдание лицам, с которыми мы разговариваем, или приводит их в смущение. После того как это правило установлено, оскорбительная речь всеми порицается и причиняет нам меньшее страдание, потому что грубость и неучтивость такой речи внушают презрение к лицу, пользующемуся ею. Она становится менее неприятной именно в силу того, что сначала была более неприятной, а большая ее неприятность объясняется тем, что она дает нам повод к заключению на основании ясных и не подлежащих сомнению общих правил.
К этому объяснению различного влияния открытой и тайной лести или сатиры я прибавлю рассмотрение другого явления, аналогичного указанному. В вопросах, касающихся чести как мужчин, так и женщин, есть такие пункты, нарушение которых свет никогда не прощает, если оно совершается открыто и гласно, но чаще всего оставляет без внимания, если все приличия и видимость соблюдены и если само нарушение происходит тайно и скрытно. Даже те, кто достоверно знает, что проступок был совершен, легче прощают его, когда доказательства кажутся до некоторой степени косвенными и двусмысленными, чем когда последние прямы и несомненны. В обоих случаях у нас возникает одна и та же идея и, собственно говоря, ее с одинаковым доверием воспринимает рассудок, тем не менее влияние ее различно в силу различия в способе ее появления.
Если же мы сравним оба этих случая, т. е. открытое и тайное нарушение законов чести, то обнаружим, что различие между ними состоит в следующем: в первом случае признак, на основании которого мы заключаем о достойном порицания поступке, единичен и сам по себе достаточен для того, чтобы стать основанием нашего заключения и суждения; тогда как в последнем случае признаки многочисленны и малодоказательны или же совсем недоказательны, если их не сопровождают многие мелкие, почти незаметные обстоятельства. Между тем безусловно истинно, что всякое рассуждение всегда бывает тем убедительнее, чем оно цельнее и законченнее, стало быть, чем меньше труда оно доставляет воображению при собирании его частей и при переходе от них к коррелятивной идее, которая и представляет собой заключение. Работа мысли нарушает правильное течение чувств, как мы увидим ниже[22]22
Часть IV, глава 1.
[Закрыть]; при ней идея уже не поражает нас с такою живостью, а следовательно, не оказывает такого влияния на аффекты и воображение.
С помощью тех же принципов мы можем объяснить и следующие замечания кардинала де Ретца: есть много вещей, относительно которых свет желает быть обманутым, и свет легче извинит человеку поступки, противные правилам, предписываемым его профессией и положением, чем соответствующие речи. Проступок словесный обычно более отчетлив и явен, чем проступок в действиях; последний всегда допускает массу смягчающих обстоятельств и не так ясно выражает намерения и цели действующего лица.
Итак, обобщая все сказанное, [мы можем заключить], что всякое мнение или суждение, не достигающее [степени] знания, имеет в качестве своего единственного источника силу и живость восприятия и что эти качества производят в нашем уме то, что мы называем верой в существование объекта. Эти сила и живость наиболее ярко обнаруживаются в памяти, и поэтому наше доверие к правдивости указанной способности в высшей степени сильно и во многих отношениях равно уверенности в любом демонстративном доказательстве. Следующей степенью этих качеств является та, которая получается из отношения причины действия; она также очень высока, особенно в тех случаях когда мы знаем из опыта, что соединение объектов безусловно постоянно, и когда наличный объект вполне сходен с теми, которые уже известны нам из опыта. Но ниже этой степени очевидности есть еще много других, оказывающих на аффекты и воображение влияние, пропорциональное той степени силы и живости, которую они сообщают идеям. Переход от причины к действию мы совершаем в силу привычек, а живость, переносимую нами на коррелятивную идею, мы заимствуем из какого-либо наличного впечатления. Но если мы не наблюдали достаточного числа случаев, которые могут породить сильную привычку, или если эти случаи противоположны друг другу, если сходство их несовершенно, если наличное впечатление слабо и темно, если опыт до некоторой степени изгладился из памяти, если связь зависит от длинной цепи объектов, если заключения основаны на общих правилах, однако не соответствуют таковым, – то во всех этих случаях очевидность уменьшается соответственно уменьшению силы и интенсивности идеи. Итак, вот какова природа суждения и вероятности.
Что придает особенную авторитетность изложенной мной теории помимо бесспорных аргументов, на которых основана каждая ее часть, так это согласованность этих частей друг с другом и необходимость одной для объяснения другой. Вера, сопровождающая нашу память, одинакова по природе с той, которая проистекает из наших суждений. Точно так же нет разницы между тем суждением, которое основано на постоянной и однообразной связи причин и действий, и тем, которое зависит от прерывающейся и неопределенной связи. И действительно очевидно, что при всех определениях, которые ум принимает на основании противоположных опытов, он сначала приходит в разлад с самим собой и склоняется то к той, то к другой стороне пропорционально числу тех опытов, которые мы наблюдаем и помним. Исход этой борьбы наконец решается в пользу той стороны, на которой мы наблюдаем преимущественное число таких опытов, но все же с некоторым уменьшением силы очевидности, пропорциональным числу противоположных опытов. Каждая из возможностей, из которых составляется вероятность, действует на воображение сама по себе, и наконец одерживает верх большая совокупность возможностей с силой, пропорциональной ее преимуществу. Все эти явления прямо приводят нас к вышеизложенной теории, и нам никогда не удастся дать им удовлетворительное и связное объяснение на основании каких-нибудь иных принципов. Если мы не будем рассматривать эти суждения как действия привычки на воображение, то запутаемся в нескончаемых противоречиях и нелепостях.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































