Читать книгу "Медная шкатулка (сборник)"
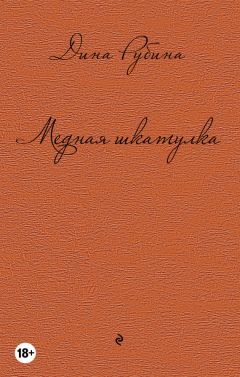
Автор книги: Дина Рубина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Дина Рубина
Медная шкатулка (сборник)
© Д. Рубина, 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2015
* * *
Если что и волнует меня с годами, так это истории человеческих судеб. Рассказанные без особых подробностей, просто, даже отстраненно, – они как монолог попутчика в поезде дальнего следования. И после бессонной ночи все смешается: имена людей и городов, даты встреч и расставаний. Останутся в памяти желтые полосы света от фонарей на полустанках, слуховое окно, мелькнувшее в заброшенном доме, и глуховатый голос, временами зависавший в попытке подобрать слово… Самое дорогое тут: голос рассказчика. Как пресечется он в неожиданном месте, или вдруг смягчится в улыбке, или замрет, будто заново удивившись давно прожитому.
Кстати, многие из этих историй я услышала именно в поезде или в самолете – словом, в пути. Видимо, само ощущение дороги побуждает нас заново осмыслить давние события, вслух размышляя о том, что изменить уже невозможно.
Дина Рубина
Медная шкатулка
– Ничего, что я все болтаю, болтаю?.. Скажите, когда надоем, не стесняйтесь, ладно? Просто вы так хорошо слушаете, а в поезде так славно разговор течет…
Вот мы говорили о семейном предопределении. Если позволите, я – о своей семье. Не пугайтесь, скучно не будет. Истории прошлого века в любом случае занимательны.
Итак, представьте девушку из мещан, гимназисточку-егозу, пророманенную книгами до последней легчайшей кудряшки. Подмосковный городок с летними павильонами, где на подгнивших от дождей подмостках дают спектакли наспех сколоченные труппы заезжих актеров. Как можно не влюбиться в плечистого-речистого героя? Как можно не пропасть в его улыбке, в рокоте его баритона, как можно унять восторженную дрожь, когда он – Гамлет – произносит начальные фразы своего знаменитого монолога?
Не буду утомлять вас атрибутами романтической страсти: всеми этими букетами, записочками, условленными встречами в беседке над рекой. Скажу сразу: она сбежала с труппой. Это была моя бабушка.
Лет через пять герой оставил ее уже в другом подмосковном городе одну, с двумя детьми; старшему было четыре, младшему, моему отцу, – годик. Теперь вообразите ее положение: к тяжелой работе не приучена, денег ни копейки, дети голодают, малыш вяжет руки. Чем зарабатывала? Изредка давала уроки немецкого или латинской грамматики девочкам из не слишком щепетильных семей, ибо столь безнравственную особу тоже ведь не на каждый порог пустят. Написала она родне покаянное письмо, но в ответ ни слова не дождалась; мой прадед и без того крутоват был, а тут случай особый: эдак-то его дочь ославила – на весь город! Трудно ему было позор проглотить. Словом, беда, настоящая беда, хоть вешайся.
И в такой-то тяжкий момент к ней с тайным визитом вдруг приезжает семейная пара: ее троюродная сестра с мужем. Адресок, стало быть, добыли из того самого ее письма, каждая буква которого вопила о спасении. Люди они были состоятельные, порядочные и уж десять лет как женаты, но… ребеночка все бог не давал, и надежда на это совсем истаяла. А я и сейчас восхищаюсь их расчетом: как всё толково обмозговали, как грамотно ловушку расставили! Часа через два пустой болтовни бабушкина сестра вдруг заплакала и сказала:
– Соня, отдай нам младшенького! Мы тебе помогать станем, вроде пенсиона положим. Ты вздохнешь, подкормишься, оглядишься. Человеком себя почувствуешь. И себя сохранишь, и старшего вытянешь…
Такое вот выгодное предложение: продай, мол, сына. Если, конечно, не хочешь сгинуть вместе с обоими… А куда деваться? Жизнь штука подлая, злая. И сидели они трое: женщины ревели белугами, мужчина тоже сильно переживал. Сами понимаете, речь ведь не о болонке, а о живом малыше.
И решилась она. Приняла этот неминучий выбор судьбы. А как еще могла обоих детей спасти?
Только одно условие ей и поставили, зато уж жестокое: не появляться. Раз в году могла она приехать и глянуть на сыночка издали, из-за угла дома или в витрину кондитерской, куда его нянька водила пирожными угощать. Страшно тосковала, страшно! Но и радовалась каждый раз, потому как видела: сынок одет-обут, да при няньках, да такой красавчик и… так на нее похож!
Вот поглядите-ка на меня внимательно: заметили легкую косинку в левом глазу? Это родовая печать. Такая у бабушки была, у моего отца, у меня. И хотя договорилась она с приемными его родителями, что шкатулку с документами о рождении они закопают под грушей у себя в саду – мало ли что с людьми случается, целее будет, – эта легкая характерная косинка, ежели что, лучшим доказательством родства служила. Сразу было понятно, кто кому и кем приходится.
А дальше что? Дальше грянула революция. Парню уже лет семнадцать исполнилось, и он – рослый, красивый, дерзкий – ринулся в эту самую революцию очертя голову и сердце. По характеру, понимаете ли, заводилой был. Как это сейчас говорится: прирожденный лидер. Сквозь революцию и Гражданскую войну прошел, как нож сквозь масло, со всех трибун в светлое будущее народ зазывал. Видимо, артистизм родного папани унаследовал. Был он уже крупной шишкой в НКВД, женатым человеком, отцом двоих сыновей. Его приемный отец давно, еще в начале революционной мясорубки, скончался от разрыва сердца. Еще бы: видеть, как отнимают твою ткацкую фабрику, забирают дом и все нажитое. А главное – видеть, что возглавляет всю эту банду взращенное тобою дитя! Тут любой от ужаса и горя концы бы отдал. Ну а жена его несчастная вслед за ним последовала. Не захотела жить. Наглоталась чего-то, уж и не знаю – чего именно, и померла.
И тогда…
Знаете, люблю я этот поворотный круг в любой истории, исконный, древний, еще из греческих трагедий поворот ржавого рычага, выпускающий на сцену нового либо подзабытого персонажа. Бывает, слушаешь, слушаешь чью-то историю, и ждешь не дождешься: когда же наконец будет произнесено это самое и тогда?..
И тогда на сцене появилась родная мать.
Знаете, что интересно, – я ведь помню тот день. Не поверите: крошкой был, три годика, но почему-то запечатлелась в памяти эта сцена. Наверняка был в ней такой накал, такая драматическая сила… ведь дети, они как животные – чувствуют напряжение в воздухе. Мы со старшим братом играли на полу, строили из кубиков конюшню для деревянного коня, из-за которого постоянно дрались. А мать в кухне крутилась, тесто на пирожки раскатывала. Почему помню, что тесто? А у нее руки были в муке. Ну слушайте…
Позвонили в дверь, мать открыла. На пороге стояла пожилая женщина. Вот закрою глаза, и передо мною – стоит она и стоит. Молчит и порога не переступает. И мать молчит и тревожно так, вопросительно смотрит на нее.
Понимаете, на трезвый внимательный взгляд ей ничего и доказывать не надо было – сын был похож на нее, как две капли воды. Просто одно лицо. Косинка эта характерная, которая так особенно, так лукаво направляет взгляд. И что поразительно: невестка, наша мать, приняла ее с распростертыми объятиями, – помню, на спине у гостьи отпечатались на макинтоше обе мучные мамины пятерни. Нам, детям, сказала: это ваша бабушка, «мамашей» ее сразу стала называть.
А отец…
Он, когда с работы вернулся, выслушал историю с каменным лицом и сказал: у меня мать одна, та, что меня воспитала. Другой у меня нет и не будет. Не верю я в эти байки… Тогда гостья ему говорит: «Сынок, я тебе могла бы доказать, ведь там у вас в саду под грушей шкатулка медная с документами о твоем рождении закопана…» А отец ей: «Кан-е-ешна, шкатулка! «Всадник без головы!» Рукой махнул и отвернулся.
В том доме давно, уже лет десять, как дворец пионеров был. Но сад сохранился, и груша старая как росла, так и осталась, правда, не плодоносила. Можно было бы выкопать ту шкатулку. Но только зачем: какая там шкатулка, когда на одно лицо мать и сын. Но отец даже говорить с ней не желал. И впредь оставался как кремень…
Бабушка к тому времени совсем одна осталась. Старший ее сын, Семен, дядя Сеня, от тифа еще в Гражданскую помер. И видно, так обожгло ее в юности, что женская ее судьба прошла неинтересно, скудно.
Она приходила смотреть за нами, возилась по хозяйству, всю работу делала по дому, очень помогала маме, и та ее уважала и любила. А отец молчал, и так, по молчаливому обоюдному уговору, ко времени его возвращения с работы бабушка должна была уйти. Редко-редко задержится, если кто-то из нас, детей, болеет.
Помню один такой день. Я лежу с камфарным компрессом на шее, а бабушка напекла мне горячих шанежек, чтобы мягко глотать… И тут отец вернулся, и она суетливо так на стол ему – тарелку с горячими шанежками, и чай крепкий, сладкий. А он, опустив голову, с такой горечью вдруг:
– Софья Кирилловна, почему ж вы отдали меня, а не брата?
И в ответ – тишина…
Я вам не надоел еще со своими родичами? Интересная штука: начинаешь рассказывать новому человеку события чуть не восьмидесятилетней давности, а как вспомнишь эту бездонную беззащитную тишину на вопрос взрослого мужчины, так горло и перехватит…
Ну дальше все просто: трагедию нашей семьи разрешил НКВД – отца арестовали в 39-м и, как потом уже я узнал, сразу и расстреляли. Бабушка переселилась к нам и так дожила с нами до смерти.
У нее знаете какой талант был? Она в уме считала мгновенно. Под старость с палочкой ходила по магазинам, стояла в очередях. И если кассирша обманет на копеечку-две, она протянет руку со сдачей и стоит, смотрит, смотрит, пока взбешенная тетка в ладонь ей не бросит недостающую монетку.
Так и вижу ее: стоит и смотрит, молча смотрит в свою ладонь с двумя грошами…
Вот что мучает меня всю жизнь: как вы думаете, горевала она, когда обретенного сына на смерть забрали, или испытала облегчение? А еще простить себе не могу, что, выросши, не откопал под грушей ту медную шкатулку с документами о рождении отца. Зачем? А бог ее знает. Все ж семейная реликвия…
Медальон
– О-о… такая это даль незаглядная – мама ж родилась в восемнадцатом году!
Между прочим, отличная идея – давать в газете галерею судеб двадцатого века. Получается настоящий портрет эпохи. Лично я считаю, в этом деле, как в антиквариате: любая, даже незамысловатая вещица через сто лет становится ценной. И жаль, что припоздали: еще три года назад вы могли бы взять интервью лично у мамы – она до последней минуты оставалась в ясной памяти. Но я попробую.
Значит, восемнадцатый год, окраина рухнувшей империи, Владивосток, власть гуляет от белых к красным, а банд этих разных, шаек-леек зеленых-коричневых, – тех вообще без счету. И дед мой, отец моей мамы, точно так же переходил от белых к красным и обратно, а по пути еще заруливал к каким-нибудь бандитам. Тот еще был деятель, как я понимаю. В семье появлялся, будто полная луна – хорошо, если раз в месяц.
И вот пришла пора бабушке рожать; прихватило ее прямо на бульваре, а поскольку никто не подходил помочь (многие знали ее мужа и обходили роженицу за сто метров), – так она и загибалась форменным образом. Присела на скамейку, обхватила живот, и уж ни встать, ни двинуться – никакой возможности.
В эти именно минуты проезжала по бульвару кавалькада во главе с любовницей атамана Семенова.
Вы когда-нибудь слышали, читали о ней? Очень жаль: это была фигура удивительная, из тех, кого называют харизматической личностью. Впрочем, ее по-разному называли: Маша-цыганка, Мария Нахичеванская, Маша-ханум. Красивая была, экстравагантная, на собственном поезде разъезжала, вся в мехах и драгоценностях. Японские журналисты называли ее королевой бриллиантов. Словом, истинно: атаманша.
Увидев душераздирающую сцену стремительных родов, Маша-цыганка остановилась, спешилась и велела своим бугаям отнести роженицу в ближайший дом. А хозяевам этого дома велела помочь женщине, пригрозив, что собственноручно спалит «халабуду» до последнего уголька, если те сей момент не сбегают за акушеркой. И те, само собой, очень быстро побежали, ветер в ушах свистел. Акушерка была привезена, за пролетку уплачено, и бабушка благополучно родила мою маму.
На другой день любовница атамана приехала навестить спасенных ею мать и дитя, нарекла девочку Марией (в честь себя, несравненной), сняла с шеи медальон и подарила крестнице. Сказала: на память и счастливую судьбу.
Ну, поначалу судьба у малышки оказалась не очень счастливой: через четыре года ее мать, моя бабушка, умерла от каких-то таинственных «печеночных колик», папаша, и ранее вполне бесполезный, к тому времени вообще растаял в дымке морской, улепетнув на последнем корабле в неизвестном направлении. А девочку дальняя родня определила в… как это называлось тогда: дом сирот? детский приют? – неважно, потому как пробыла она там недолго. Видимо, назначенная атаманшей счастливая судьба очнулась и принялась раздувать пары и устраивать «случайные обстоятельства».
Случайным обстоятельством оказалась командировка во Владивосток известного советского писателя, очень доброго и, между прочим, бездетного человека, который прилетел собирать материал для большого очерка об ударных портовых буднях советских дальневосточников.
И все на том же Приморском бульваре, где московского гостя радушные портовики угощали пивом, а воспитательница прогуливала группу детей-сирот, к писателю подбежала маленькая девочка – под скамейку, видите ли, где он сидел, закатился резиновый мячик, ее любимая игрушка… Скажите после этого, что судьба не играет в фанты! Еще как играет – а иначе с чего бы известному советскому писателю всю ночь промаяться без сна в гостиничном номере, вспоминая бледное личико, и это по-взрослому вежливое: «Спасибо, гражданин!», когда он вручил девочке мяч?
Так моя мама попала в семью известного писателя, автора нескольких книг, о которых сейчас мало кто вспоминает, а в те годы читали запоем.
Собственно, семьи-то было – он, «дядя Рува», и его жена, Ирина Марковна, «Ируся». У них моя мама и выросла в любви и уважении.
– К дяде Руве, – вспоминала мама, – часто приходили гости. Ируся хорошо готовила и пекла божественно, так что застолья у нас не переводились. Это были Паустовский, Федин, Бабель… Я тогда не знала, что они – небожители. Для меня они были просто друзья дяди Рувы.
Разумеется, мама закончила одну из лучших московских школ, играла на фортепиано – до старости, знаете ли, и очень бегло! – знала четыре иностранных языка. Как говорит одна моя приятельница: в девочку вложили целое состояние. Ну, «состояние» – это, конечно, метафора, но… Да, я заметила: вы внимательно посматриваете вокруг. Иногда люди восхищаются, иногда осуждают, кто-то однажды назвал нашу квартиру «антикварной лавкой». Но я привыкла жить среди красивых старинных вещей, я выросла среди них. Видите ли, дядя Рува был большим ценителем и коллекционером разных диковин, и маму с детства пристрастил, как сам говорил – «к восхищению, к любованию красотой и мастерством». А позже, когда она стала дипломированным врачом, хирургом, да еще и женой дипломата, она и сама любила бродить по лавочкам, развалам всяким, рынкам-скупкам. Глаз у нее был, папа говорил, «хирургически точным»: из кучи хлама вдруг выудит мизинцем какую-нибудь старинную бутылочную пробку венецианского стекла за один франк…
Вот, например… Гляньте-ка на полку – там, рядом с синей вазой, неприметный такой, тускловатый. Это невероятно драгоценная вещь, музейная вещь: кубок Скандербега… Как – не знаете? Национальный албанский герой. Ну да, вы так молоды, для вас слово «албанский» означает нечто интернетное, да? Вы, конечно, не видели старого фильма 53-го, кажется, года «Великий воин Албании Скандербег»? На слух звучит как-то… замшело, по-советски. Его звали Георгий Кастриоти, он был венецианских корней, жил в пятнадцатом веке, принял ислам, потом отрекся от ислама, возглавил восстание против турок, завоевал такую военную славу, что албанцы назвали его в честь великого Александра (Искандера): Скан-дер-бег.
Так вот, на этот кубок мама наткнулась бог знает где – в деревушке в Албанских Альпах. Понимаете, ее муж, мой отец, был известным дипломатом, и в расцвете своей карьеры бывал послом и во Франции, и в Великобритании, и в Швеции… А по молодости лет им с мамой приходилось жить и в Монголии, и в Афганистане. Вот и в Албании. И мама никогда не сидела сложа руки, никогда не была «супругой посла» – в том смысле, в каком были многие посольские жены. Она всегда работала, и работала по специальности. Много оперировала, порой в немыслимых условиях.
Едва обосновавшись на новом месте, сразу находила себе применение в какой-нибудь клинике. И всюду оставалась собой, только собой. Она, знаете ли, не была красива в расхожем представлении обывателей о красоте. Но в ней столько шарма было: невысокая, хрупкая, шапка чудесных пепельных кудрей; знакомясь с ней, люди представить не могли, что перед ними – врач, кардиохирург.
А я-то помню силу маминого характера! Однажды в детстве я вознамерилась пройти на спор по перилам балкона третьего этажа – я тогда занималась гимнастикой и мнила себя будущей чемпионкой мира. Успела влезть на стул и даже поставить ногу на перила. Глянула вниз… и оцепенела от страха. А отказаться – значит струсить, позор невозможный! Боженька, думаю, спаси меня от этого идиотства!.. И спас! Откуда ни возьмись, мама влетела, как вихрь, стащила меня за волосы и такую трепку задала – до сих пор помню увесистую тяжесть ее изящной руки.
Да… Мама прожила блестящую жизнь, – как в таких случаях пишут в некрологах и монографиях? – жизнь, богатую событиями. Я вам, конечно, покажу все семейные альбомы, вам же нужно – для статьи. Страны, города, конференции разные… сотни спасенных жизней, и так далее. Не в этом дело! Понимаете, она объездила с моим отцом чуть не весь мир, была знакома со знаменитыми актерами, писателями, художниками, встречалась с президентами и премьер-министрами, обедала в королевских дворцах в компании чуть не всей европейской знати. Дружила с Пикассо, Жаном Габеном, Симоной Синьоре… Невозможно все перечислить. А я представляю себе скамейку на бульваре и несчастную роженицу, которую прихватило прямо на людях. И еще представляю благодетельницу в роскошных мехах да бриллиантах и подарок новорожденной – медальон, снятый прямо с лебединой шеи. Такую вот «путевку в жизнь» дала девочке Мария, любовница атамана Семенова.
Ага, я вспомнила: ее называли еще Маша-шарабан, по известной кабацкой песне, которую лучше нее, говорят, никто не исполнял. Незатейливые такие куплеты:
Ах, что ж ты, милай,
Да не приходишь,
Аль заморозить
Меня ты хочешь?
Продам я шалью,
Продам сережки,
Куплю я милому
Эх, ды сапожки!
Рай-рай-рай-рай-да,
Рай-рай-рай-рай-да…
Ну, и так далее… Забавно, правда? Между прочим, когда в 1920 году отец Серафим вез через Читу тело казненной большевиками великой княгини Елизаветы Федоровны, сестры последней императрицы, именно Маша-шарабан помогла ему – и деньгами, и личным участием – благополучно довести до конца скорбную миссию. Так что благодаря ей останки Елизаветы Федоровны ныне покоятся в усыпальнице храма Марии Магдалины в Гефсимании, в Иерусалиме! Маша и сама присоединилась к этой миссии и в конце концов очутилась в Бейруте, где и начала новую жизнь – разумеется, не на пустом месте, а с некоторым количеством золотых слитков. Позже она вышла замуж за хана Георгия Нахичеванского, в который раз сменив имя на Марию-ханум, родила ему двоих сыновей (они потом стали офицерами египетской армии), – короче, жила долгую жизнь, аж до 1974 года! И похоронена в Каире, на кладбище греческого православного монастыря.
– А судьба медальона? – спросила вдруг гостья, которая так и не сделала в своем блокноте ни единой пометки, – слушала, боясь прервать хозяйку.
Та помолчала, поднялась и ушла в соседнюю комнату. Минуты через две вернулась. С руки ее свисал, покачиваясь на длинной цепочке, небольшой медальон, обсыпанный мелкими бриллиантами: старое золото, неразборчивый вензель… Изящная вещица, залог счастливой судьбы.
Ах, шарабан мой,
Эх, шарабан мой,
Не будет денег,
Тебя продам я,
Рай-рай-рай-рай-да,
Рай-рай-рай-рай-да,
Эх, шарабан мой,
Мой шарабан…
Золотая краска
Это был типичный завсегдатай пивной: красномордый, высоченный, с толстой шеей и победоносным брюхом… Короче, он был таким, каким хочется представлять себе немецкое пивное быдло. И прицепился к нам именно в пивной, огромной мюнхенской пивной, простиравшейся чуть не на сотни метров. Наша местная приятельница, уроженка вообще-то Днепропетровска, но ныне патриотка Германии, уговорила нас взять по кружке пива – здесь, мол, особое место, и пиво везут из какой-то особой пивоварни.
Мы стали обсуждать сорта, повышая голос, чтобы перекричать франтоватое, в баварских шляпах с перышками, трио в центре зала – скрипка, контрабас и барабан без продыху лупили что-то бравое, чему горласто подпевали румяные пивцы с кружками. И тогда от шумной компании за соседним столом отделился утес – он казался особенно высоким, потому, что мы сидели, – и с широченной улыбкой направился к нам. Если б не эта улыбка, явное послание добрых намерений, то впору было бы испугаться его буйволиной мощи.
Тут надо кое-что пояснить…
Эта встреча произошла лет пятнадцать назад, в нашу первую поездку по Германии. И длилась она минут сорок от силы, и разговор был коряв, отрывист, иногда мы просто перекрикивали друг друга, если трио вступало со свежим энтузиазмом. Вообще-то первое путешествие по Германии, с заездом в Гейдельберг, Берлин и Франкфурт, Нюрнберг и Дрезден, с десятком выступлений перед новой публикой, с музеями и невероятными парками и дворцами, было настолько сильным впечатлением, что сейчас остается только удивляться: что заставило меня записать тем же вечером рассказ нашего случайного собутыльника? что заставляло меня время от времени вспоминать его и думать о нем, а главное: что заставило сейчас извлечь его буквально из праха распавшейся на горстку ветхих страниц записной книжки и отвести законное место в цепочке этих коротких историй?
Господи, да он с трудом изъяснялся по-русски! А наша приятельница с еще большим трудом балакала по-немецки, хотя и была лучшей ученицей в их группе по изучению языка.
Понятия не имею, почему это въелось в меня: дымная полутемная пивная, красномордая глыба рядом, попытки связать непослушные слова…
Само собой, я не стану буквально изображать его языковые потуги. Он оказался восточным немцем, родившимся еще до войны, в школе учил русский язык. Он и подсел к нам потому, что услышал знакомые слова. И все повторял восторженно: Россия, Россия… – будто лучшая часть его жизни прошла в каком-нибудь Ленинграде.
– Очевидно, он дурак? – пожав плечами и отвернувшись, сказал мне муж. – Что за восторги перед страной, искалечившей его детство?
И будто из упрямства перебил собеседника и поправил: мы вовсе не из России, а из Иерусалима, столицы Израиля. Тот ошалел. Восхитился… «Это тоже нам знакомо, – подумала я, – радостное участие немцев в благобытии страны, созданной по причине и по следам их преступлений».
Но этот… Я пригляделась: у него была симпатичная физиономия трудяги. Он сразу доложился, что по профессии он – шофер-дальнобойщик и в данный момент отдыхает между рейсами. А завтра с утра – тю-тю! – возвращается в Дрезден на своем трейлере.
Свою историю, свою настоящую историю, стал рассказывать с ходу, без предисловий, будто торопясь вывалить все и вернуться к товарищам. Так и запомнила его: взлохмаченный, с потным красным лицом, время от времени он отмахивается большой ладонью от призывов собутыльников вернуться за стол и то и дело запинается в попытке подобрать правильное русское слово.
Пересказываю буквально так, как двадцать лет назад записала в блокноте, чуть ли не конспективно. Почему-то кажется, что таким вот, бедноватым и торопливым, слогом правдивей всего предстает судьбинная мощь его простого рассказа.
Первым браком его отец женат был на еврейке. Молодыми были, влюбились друг в друга, дело нормальное. Но не поладили, очень уж разными были, и разбежались. Мало ли, бывает! Отец женился вторично, уже на немке, и через год родился он, Вилберт, – да, приятно познакомиться…
И вот, когда Гитлер пришел к власти и все это началось… словом, когда по-настоящему запахло жареным, однажды ночью отец молча ушел и вернулся не один, а с молодой женщиной – черноволосой, кудрявой, с огромными зелеными глазами, в блестящем черном плаще (шел сильный дождь!). И мать ее приняла. Мать была замечательным человеком, хотя и излишне прямолинейным. Он, Вилберт, тогда совсем был маленьким, года четыре, поэтому не следил за лицом матери, а жаль: сейчас дорого бы дал, чтоб посмотреть, как эти две женщины друг друга разглядывали.
Отец помог той спуститься в подвал и – знаете что? – до самого конца войны Эстер (ее звали Эстер) из подвала не выходила. Она просидела там все эти годы! Все годы войны отец и мать Вилберта прятали у себя в подвале еврейку. Родной брат отца, Клаус, тот был настоящий наци, служил в гестапо, знал, что брат прячет свою первую жену, но не выдал… А когда Вилберт подрос, ему стали поручать носить ей еду. И он справлялся. Лестница была крутовата, но он же взрослый, почти мужчина, и не боится крутизны и темноты! К тому же там, в подвале, горела лампочка, и хотя Эстер стала бледная как смерть и ее огромные глаза в полутьме так странно светились, он совсем ее не боялся. Наоборот: страшно к ней привязался. Они очень подружились.
– Мы с ней были ближе друг к другу, чем я к матери… – сказал он.
Давно, до войны, Эстер закончила академию искусств, участвовала в выставках. Она писала небольшие пейзажи, пока не… словом, до всего этого дерьма. В подвале очень тосковала без дела, говорила, что это – самое трудное: руки без работы ноют, болят по-настоящему. Тогда Вилберт украл для нее золотую краску. Просто спер, прости господи! В их церкви неподалеку, во Фрауэнкирхе, в подсобке работал мастер, подправлял то и сё, какие-то завитки на алтаре, на деревянных хорах. Уходя на обед, так все и оставлял. Надо было так украсть, чтоб незаметно. Больше всего было банок с золотой краской… и Вилберт не то чтобы грабил мастера, а так… подворовывал. Подкрадется, снимет крышку с ведра и зачерпнет в баночку. Зато бумаги было навалом! Покойный дед до войны владел писчебумажным магазином, и ее много осталось – хорошей, толстой упаковочной бумаги… Эстер писала и писала золотой краской свои пейзажи: золотые деревья, золотое озеро, золотой мостик над ручьем…
И знаете, она пересидела фюрера! Когда пришли советские войска, выползла из подвала, стала получать продовольственные карточки и кормила их всех – всю семью. Они и выжили за счет этих продовольственных карточек.
– У меня родители умерли рано, – говорил он. – Я еще сопляком был. А вот Эстер дожила до восьмидесяти девяти и умерла совсем недавно. И всю жизнь была для меня самым близким человеком.
Конечно, работала до последнего, писала акварели – пейзажи в основном. Была известным художником. Но знаете что? Никогда больше не использовала в работе золотую краску. Зачем? Другой полно, всякой-разной. Все ее пейзажи такие прозрачные, легкие, – прямо ангельские. Словом, искусствоведы и критики знали Эстер именно по этим невесомым пейзажам.
После ее смерти – а Вилберт, само собой, остался единственным наследником, – после смерти в мастерскую Эстер хлынули эксперты музеев и галерей.
– Увидели ее золотые подвальные пейзажи – чуть с ума не сошли! Она ж их никогда не выставляла, не хотела. Говорила: это совсем особый, нетипичный этап в творчестве. Вцепились, давали огромные деньги. Я отказался… И потом всё письма слали, с музейными печатями да гербами, подсылали каких-то своих гонцов, увеличивали сумму, пытались уломать. Но я – на-а-йн! Я не продал! Я развесил их по всему дому – пусть сияют! Золотой лес, золотое озеро, золотой собор…
– Я шофер-дальнобойщик, – добавил он, и кружка в его рыжей волосатой лапе казалась небольшой чашкой. – Дома не бываю по пять-шесть дней. А когда возвращаюсь и вхожу к себе, особо если полдень и солнце в окна, навстречу мне – волны золотого света!









































