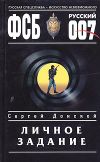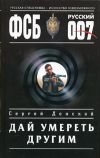Текст книги "ЖД"
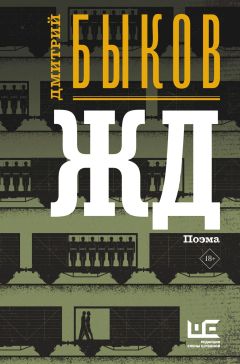
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
– Нет, мы с вами все-таки не так, – ошеломленно отвечал Волохов.
– Да? А с самого начала, когда вы жгли наши города? А потом, когда выгнали нас в Германию? А при первой попытке возвращения, когда ваш Державин придумал для нас черту оседлости? Хотите черту оседлости – ради бога, мы вам это устроим. Но если не хотите – звиняйте, дядьку. Кроме того, границы будут открыты. Ступайте на все четыре стороны. Убирайтесь в свою Гиперборею, откуда пришли когда-то на нас. Знаете, где она? Вероятно, где-нибудь в Кремле до сих пор хранятся реликвии оттуда. Понятия не имеем, откуда вас принесло в нашу Хазарию – видно, из каких-то северных земель, где почва не желала родить и снег лежал чуть не весь год; вот туда и убирайтесь – welcome Grenlandia! Не любо – оставайтесь, но тогда уж не взыщите.
Волохов затряс головой, отгоняя дикую мысль. Ну с чего я это взял?! Ни о каком уничтожении, конечно, и речи быть не может. Запишут навеки в люди второго сорта, и только. О, подлая моя русская голова! Почему ее посещают только такие видения?! И ведь как силен в тебе этот инстинкт поработителя! – ты не желаешь отдать страну тем, кто явно прав, кто, между прочим, мог бы построить тут наконец что-то человеческое… Мог бы, соглашался он. Но как раз человеческим это и не было бы. Я не желаю покоряться еще одной нерассуждающей силе, еще одной абсолютной правоте. Я отчего-то знаю, что истинные хозяева земли так не приходят. Так приходят хозяева жизни, а это совсем другое дело.
Поначалу, когда теория Эверштейна еще казалась ему бредовой, он особенно внимательно присматривался к немногим оставшимся тут хазарам, к собственным друзьям из их числа, даже к людям смешанной крови («полухазаров не бывает» – любимая поговорка патриотов). Ему казалось, что все они объединены тайнознанием, все в курсе своего происхождения и предназначения, – но разговоры на эту тему либо сразу гасились, либо ни к чему не вели. Хазары давно уже не скрывали, что ненавидят Россию и русских; самые умные из них говорили, что Россия-то им как раз очень нравится, но гордиться фактом рождения здесь – и любым другим имманентным признаком – способен только негодяй. Некоторые повторяли заезженные истины конца восьмидесятых: истинно русским должен называться тот, кто владеет языком, языком лучше владеем мы, литература, наука и даже политика лучше получается у нас, – хватит, вы себя дискредитировали, у вас уже ничего не получилось, отдайте! Про ЖД никто ничего не знал, аббревиатура прочно увязалась с Живым Дневником (может, сами ЖД и придумали его для конспирации?), а стоило Волохову намекнуть на существование молодежной организации – его поднимали на смех: «Слушайте, в Каганате каждые три хазара – тайная организация; вы что, не знаете Каганата?» О Каганате принято было отзываться с иронией, но любовной, почти нежной – вообще обычай высмеивать себя, как заметил Волохов, был у хазар одним из механизмов самозащиты. Они экспроприировали насмешку над собой, чтобы не дать другим возможности насмехаться над ними; так мать шлепает ребенка, чтобы не дать отцу выпороть его по-настоящему.
Только один раз Волохов серьезно сцепился с хазаром – и то потому, что напился, чего делать ни в коем случае не следовало. Водка, как известно, усиливает настроение, в котором пьешь – радостное опьянение ведет к эйфории, а грустное – к полному отчаянию. Волохов был в гостях у выпускницы РГГУ, активистки ОГИ, девочки из хорошего круга – давно не девочки, конечно, хотя манера по-детски присюсюкивать, играть в вечное младенчество никуда не девалась с годами. Эта девочка любила собирать и стравливать поклонников, ей нравилось сочетание невинности с порочностью – хотя невинность была крайне искусственна, а порочность очень второсортна. Но главной, любимейшей ее игрой была принадлежность к аристократии: она жила в огромной квартире, владела двумя дачами, одну из которых сдавала, и старательно косила под дворянку. Этого Волохов и не выдержал во время первого же посещения богемистой квартиры, где большая компания собралась по случаю чьего-то очередного окончательного отъезда. Волохова сюда привела кратковременная подруга.
– И откуда все эти хоромы? – зло спросил у нее Волохов.
– У нее дедушка был академик. Видный марксист. А папа – специалист по Всеволоду Вишневскому. Десять книг о нем издал.
– А-а-а. Остатки былой роскоши.
– Типа того. Но сама Соня совсем другая. Она Маркса вообще не читала, как и Вишневского, впрочем.
– Неблагодарная какая, – сказал Волохов. – Наизусть должна знать. Первый матрос, к залу: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, пришедшие сюда для забавы и смеха, – вот пройдет перед вами жизнь женщины-комиссара с ее темным началом и темным концом. Кто из вас хочет комиссарского тела?»
Подруга засмеялась, но ничего не поняла.
Выпив, стали думать, что бы спеть. В стране давно не осталось песен, которые все знали бы, – не считая чего-нибудь вроде «Привет, подушка – привет, подружка» или «Билайн – Джи-Эс-Эм!». Впрочем, такие песни и всегда были в дефиците – захватчики пели одно, захваченные сквозь зубы тянули другое, и «Эй, ухнем», спетое в обществе захватчиков, звучало так же оскорбительно, как Вертинский в кругу фабричных рабочих. Правда, последняя революция основательно смешала ряды, и Окуджава, казалось, примирил всех – однако и его терпеть не могли в так называемых русских кругах. Там вообще не пели. По идее, им следовало бы, хоть для маскировки, затягивать «Лучинушку» – но «Лучинушка» была песней угнетенного большинства, и вообще в кругах профессиональных русских стиль рюсс популярностью не пользовался. Там не любили косовороток, предпочитая френчи, а фолку предпочитали рок, ценя в нем ненависть и жизнеотрицание – любимые воинские добродетели.
Что до ЖД – они как раз любили Окуджаву и пели его тихие грузино-арбатские песенки со странной страстью, не особенно идущей к материалу. Здесь был родной прием – пылкость настаивания на очевидном, и если Окуджава посмеивался над собственными банальностями, Соня и иже с нею исполняли эти зонги с проповеднической страстью, трагическим надрывом, настаивая на том, что и так всем понятно. Эту мысль следовало додумать, тут была причина… Но Волохов отвлекся на вспыхнувший спор: кто-то ради шутки затянул старый гимн – хозяйка дома грубо оборвала шутника: «Что за плебейство!» Певец стушевался, заговорили о плебействе, о том, что стоит выйти за пределы «своего круга», как тут же вляпываешься в быдло; разговор велся с поразительной откровенностью, постыдной еще десять лет назад, когда полагалось хотя бы ритуально приседать перед народом. Кривясь и кривляясь, Соня изображала манеры простонародья. Народ, по ее мнению, не заслуживал лучшей участи, чем доживать по хрущобам; народ мешал Соне и таким, как она. С этим народом ничего нельзя построить. Народ отстал от своей элиты и не желал тянуться за ней. Рядом с Соней сидел невысокий, лысый, крепкий малый и нагло улыбался. Вероятно, это был ее нынешний обожатель – сменялись они, с восхищением рассказала подруга, чаще, чем у Клавдии Сторчак.
Впрочем, элита была не единственной темой разговоров. Особенно много говорили о благотворительности, добре, борьбе со злом. Волохов поначалу – о святая простота! – вообще не понимал, зачем это нужно, и лишь затем вывел для себя ответ: повторение банальностей не бывает бескорыстным, человек прислоняется к общеизвестному, чтобы после десяти бесспорных тезисов осторожно внедрить свой спорный, а то и неверный, но уже привязанный к ним намертво, хитрым ходом выведенный из общепринятого. В качестве бесспорного прикрытия брались так называемые общечеловеческие ценности, против которых, казалось бы, уж никак спорить нельзя – тотчас попадешь в людоеды. Окуджаву в кругу ЖД любили именно за такие проповеди – давайте восклицать, друг другом восхищаться, возьмемся за руки, друзья, а кто не хочет с нами браться за руки – тому мы никогда уже не подадим ни руки, ни надежды, ни милостыни. Присвоим человеческое, чтобы тем верней утвердить свое нечеловеческое; в среду, расслабленную гуманизмом и дружеством, осторожно внедрим свою власть – а любого, кто не желает поклоняться ей, запишем в сатрапы безумного султана. Бедный Окуджава, он так и не понимал, что они с ним сделали, а когда понял – года не прожил! Как он сам ненавидел собственный призыв взяться за руки, как отрекся от него под конец – но никто уже не хотел этого слышать…
Разговор поначалу зашел о Милошевиче, недавно умершем. Хазары радовались смерти Милошевича, не особенно даже стесняясь. Хорошо говорить о мертвых, прощать их, видеть в мертвом враге человека – было в этом кругу не принято. Волохов подумал, что для идентификации собеседника в качестве хазара совершенно достаточно трех признаков: ненависти к Милошевичу (или к столь же мертвому Арафату), любви к семиотике и Лоцману, а на закуску – широковещательного, чрезмерного почтения к благотворительности. Были и иные признаки, типа характерной манеры спорить, мгновенно смешивающей собеседника с дерьмом, или столь же преувеличенной любви к своим, соумышленникам, единоучастникам (солнце мое, сердце мое! Не болит ли головка? Не жмет ли здесь, здесь и здесь?) – но это уж, что называется, интонация, а Волохова больше занимали смыслы. Например, насчет благотворительности он уже смекнул. Благотворительность нужна была для того, чтобы скомпрометировать государство, лишний раз продемонстрировав его жестокость и недееспособность, – а атака на государство нужна была, чтобы переломить стране хребет; и когда после Милошевича сразу перескочили на помощь убогим – Волохов радостно подобрался: наглядности было выше крыши, он угадал.
Соня помогала больным животным, содержала приют для них, возилась с ними, и хотя во всем остальном была чудовищной, непроходимой дурой – к ней прислушивались, берегли ее, как юродивую, и едва она, старательно округляя глаза, просюсюкивала: «Я вообще не понимаю, как люди могут спорить о каких-то принципах, когда каждый день в городе умирает десять бездомных собак?!» – сворачивали любой принципиальный разговор, в котором Волохов уже начинал было одерживать верх. Вы продолжайте, продолжайте, словно говорили ему, пусть последнее слово будет за вами, неважно, все это так незначительно в сравнении с бездомными собаками… Были аргументы и посерьезнее – например, больные дети. Молодая кучерявая художница Ида с криком, со слезами доказывала, что дети, больные раком, не получают ни малейшей помощи, и это первый, первый признак вырождения страны! Потому что если в ней такое происходит – она не имеет, не имеет права больше жить! Ида с таким пылом убеждала всех в необходимости помогать больным детям, так рассказывала о своей благотворительной выставке, так подробно перечисляла всех детей, которых подержала за руку (словно и сам ее приход к больным детям был подобен Божьему дару, кратковременному визиту ангела в ад), – что Волохов начинал подозревать ее в нечеловеческих грехах: чего надо было натворить, чтобы так оправдываться? Впрочем, он скоро успокоился: Ида занималась чистым самоутверждением, ее рисунки вне благотворительности не имели никакой ценности, рисовала она откровенно так себе, но в свете гуманитарной выставки все эти розочки и козочки начинали приобретать особую подсветку, и Иде уже заказали роспись больницы в одном из пригородов Лиона. У нее был роман с французским аристократом, чьей аристократичностью она упивалась особенно, – она-то и сподвигла его пожертвовать пять тысяч евро на московские больницы. На нее он жертвовал больше.
Она много еще чего говорила, и все это обретало статус непреложной истины – ведь Ида помогала больным детям! Аргумент был выбран точно: рак и сам по себе страшен, а когда речь о детях… «Матери закладывают свои квартиры! И когда дети… я не могу… в общем, когда этих детей уже нет – долг приходится выплачивать все равно!» Ида рыдала, закрывала лицо руками, за столом воцарялась скорбная тишина, и обязательная тихая девочка кидалась утешать ее неизменным: «Ида, солнце мое, сердце мое…»
– Все, что вы говорите, Ида, – это вещи бесспорные, – не выдержал Волохов. – Но не кажется ли вам, что благотворительностью вы только упрочиваете существующее положение?
Глаза у Иды мгновенно высохли. Волохова давно поражала хазарская способность переключаться и успокаиваться.
– Вы хотите сказать, что я не должна помогать обреченным детям?
– Ну, обреченным никто не поможет. Остерегитесь называть их обреченными. Давайте договоримся о термине «больные», – Волохов уже понял, что в этих дискуссиях договариваться о терминах надо с самого начала, иначе подмена произойдет так, что моргнуть не успеешь. – Итак, мы говорим о больных, и вы собираете деньги, по сути, на взятки. Поскольку…
– Поскольку без взяток у вас здесь ничего не делается! – пошла в атаку Ида. – Чтобы вовремя попасть на томограф, надо платить семь – десять тысяч рублей, а счет идет на дни… на минуты!
– Подождите. Во-первых, насколько я знаю, томограф в Москве не один, и далеко не везде недельная очередь. Во-вторых, собирая деньги на взятки, вы тем самым конституируете взяточничество…
– А что вы предлагаете? – презрительно спросил неизбежный, тонкий, очень бледный и очень красивый юноша с почти дворянским грассированием. Волохов узнал триаду и восхитился: как тевтонцы даже на льду норовили выстроить свою свинью, так и эти в любых географических условиях строились треугольничком с женщиной впереди.
– Я предлагаю не придавать столь большого значения собственным подвигам, – пожал плечами Волохов. – Вы не делаете ничего особенного, и не стоит, по-моему, так уж гордиться собой. Вообще докладывать о своих добрых делах, учили меня в детстве, стыдно. Вы помогли больным детям, очень хорошо, добродетель сама себе награда…
– Мой пример может разбудить десятки людей! – заорала Ида. – Если мы все будем молчать, я, она, они, – она обвела широким жестом всех присутствующих, в том числе и тех, кто ни сном ни духом не был причастен к благотворительности, – такие, как вы, вообще не узнают о ситуации!
Спорить с ней было трудно, почти невозможно – именно в силу пресловутой хазарской тактики; благотворительность выступала тут в функции розы, подвешенной к танку, но Волохов знал и видел танк. Он чувствовал, что кругом не прав, но чувствовал и то, что всякая белоснежная правота, не желающая никого жалеть, не знающая снисходительности к побежденным, неразборчивая в приемах, хуже его неправоты – умирающей, слабой, грязной, как февральский снег.
– Вы напрасно думаете, что мы не знаем о ситуации, – мягко сказал Волохов. Он уже выучился говорить мягко и размеренно – только это непрошибаемое спокойствие действовало на хазар, заставляя их выходить из себя и явно грешить против логики. – Я помогаю нескольким семьям инвалидов, мой институт регулярно жертвует ближайшей больнице – но это наше личное дело, понимаете? Это не есть общественная добродетель. Вы, может, и разбудите кого-то, и напомните о необходимости благотворить, – хотя, замечу, гораздо больше добра вы сделали бы, громко обнародовав хоть один факт взятки. Это, конечно, не так красиво, как жертвовать на детей, но тоже полезно…
– Вы уволите одного взяточника – придут десять других! – перебила Ида.
– Почему десять? – не понял Волохов. – Но вообще я договорю, ладно? Вы принесли бы больше пользы, обнародовав одну взятку, но самое главное – занимаясь этими благими делами, вы необратимо разрушаете себя. Понимаете, почему я против смертной казни? Потому что казненному уже все равно, а вот палача она уродует серьезно. Это же убийство, пусть и с государственного разрешения. Так и благотворительность: ребенку, конечно, все равно, государство ему помогло или Ида Турковская. Но вот Ида Турковская уже почувствовала себя святой и не терпит никаких возражений, а это первый признак неадекватности. Более того, Ида Турковская уже начинает оценивать свои акварели не с точки зрения живописи, а с точки зрения приносимой ими пользы, – разве нет? То есть святость уже распространяется и на живопись, n’est се pas? Тысяча извинений, если я вас оскорбил…
– Вы никого здесь не можете оскорбить, – ответил за потрясенную Иду очень красивый юноша, явно ее паладин. – Чтобы оскорбить человека, надо находиться с ним на одном уровне. А вы должны понимать, какая честь вам оказана тем, что вы сидите за одним столом с Идой Турковской… Впрочем, понятия о чести у вас известно какие, но следует по крайней мере помнить свое место.
– А какие у нас понятия о чести? – очень спокойно спросил Волохов.
– Они отсутствуют в вашем обществе, – невозмутимо ответил молодой красавец.
– Очень может быть, что ваши понятия о чести у нас действительно отсутствуют, – не повышая голоса, произнес Волохов. – Но сообразно нашим, дрянь этакая, я сейчас вобью тебе в глотку каждое твое слово. Ты хорошо меня понял? Встал! – заорал Волохов, вскакивая на ноги. – Встал быстро и вышел со мной! И я объясню тебе, мразь, кому и какая честь тут оказана! – Он сгреб красавца и потащил в прихожую, но несколько крепких рук растащили их.
– Ты тут под элиту особо не закашивай, – крикнул Волохов, которого на всякий случай как следует держали, но на пол из гуманизма не валили. – Баре нашлись, аристократия, мать вашу… Наследники великой культуры… Славное имя Турковских, стукачей из Союза писателей… Дедушка-марксист, папа-вишневед… Я дедушку-то твоего знаю, не пальцем деланный. Товарищ Коган, видный специалист по раннему товарищу Марксу. Это по его доносу, если ничего не путаю, погиб товарищ Гельфанд, специалист по позднему Марксу, грешивший рационалистическим механицизмом и метафизическим мистицизмом? Вот и квартирка в высотке, правильной дорогой идете, товарищи. Аристократия. По Вишневскому специалисты. По Федору Панферову и его брускам.
– Выведите его! – завизжала Соня.
– Не бойся, успеется. Понятия о чести. Где, откуда у вас понятия о чести? Каковы ваши права на культуру, на честь, на все? Вы можете делать что угодно… Вы победите, и это правильно… – В глазах у Волохова стоял туман опьянения и ярости, комната плыла, лиц он не видел. – Не надо только тут этого… Аристократии тут не надо! Вы не аристократия, потому что все сдали с концами, а когда ненадолго пришло ваше время – вы оказались мелко мстительны, тупо мстительны! Вы доносили друг на друга! Вы вели себя как классические захватчики, потому что ничего другого давно не умеете! Вы ненавидите культуру захватчиков – и правильно делаете, была эта культура и вся вышла. Все наше дворянство – потомки завоевателей, кто б спорил. Но все-таки завоевателей, а не местечковых страдальцев! Вы! В-вы… только и умеете, что жаловаться по углам, трепаться на кухнях, кусать губы под одеялом! Вы ничего… ничего не можете! Из вашего Мандельштама получилось что-то только потому, что он думал и писал по-русски! Быдло не нравится, да? Да – быдло! Но не ваше быдло! Наше помирает достойнее, наше падает, как дерево… аристократы… Какие вы аристократы? Вы черви в трупе, заведшиеся ходом вещей… но не надо претендовать на то, что вы высшая форма жизни!
Никто, конечно, не понимал, о чем речь и в чем дело, – казалось, Волохов просто перепил. Сильная рука взяла его за плечо и подтолкнула к выходу.
– Я уйду, уйду, – сказал Волохов. – Не надо меня… торопить. А вы тут останетесь, праздновать будущую победу. Но только вот не надо… про аристократию, да? Ты тоже, что ли, аристократ? – обернулся он к невысокому лысому ровеснику, который аккуратно, но уверенно подталкивал его к выходу.
– Аристократ, аристократ, – промурлыкал ровесник. – Пойдем, поговорим.
– Ну, поговорим, – кивнул Волохов.
Триада достроилась. Хотя его и пошатывало, в силе своей он был уверен. Он набросил плащ и вместе с лысым гостем вышел на лестничную площадку.
– Драться будем? – спросил он с вызовом.
– Почему драться, – миролюбиво ответил лысый. – Айно густо, вайно хрусто. Оболокать картошно, растолокать оплошно. Да бурно достать, али норно плескать?
– Не понял, – тупо сказал Волохов. – Я, кажется, перебрал немного… а?
– Ладно, спросим проще, – еще спокойнее предложил лысый. – Пестрый кошак на толстый лешак, справа стука, слева крюка, ан что посередке?
– Соколок, – уверенно сказал Волохов. Он сам не знал, откуда помнил эту загадку – то ли вычитал в детстве в фольклорном сборнике, то ли слыхал от старухи-няньки, тамбовской уроженки, но что-то в этих дурацких словах было невыносимо родное. Чистая нескладуха, конечно, но потому и смешно, и мило. Только в очень сильном опьянении можно было проникнуть в такие глубинные пласты собственной памяти. Волохов сразу вспомнил деревянные грибки, елки и матрешек, которыми играл в трехлетнем возрасте, – матрешки ходили искать грибки под елками. В загадке про кошака и лешака говорилось про волшебный лес около дачи – там наверняка жил леший, а в подчинении у него пестрый лесной кошак, животное вроде рыси. Кажется, Волохов даже видел его однажды.
– Хоть это помнишь, – удовлетворенно сказал лысый.
– А ты почем знаешь?
– Что ж мне, языка своего не знать? Ты, окулок, соколок-то видал когда?
– Не бывает никакого соколка, – сказал Волохов назидательно. – Это нескладуха.
– Это нескладух не бывает, – в тон ему назидательно ответил лысый, широко улыбаясь. – Соколок – это вот. Здесь кошак, здесь лешак, тут крюка, тут стука, и все это вместе качается. Неужели не видел? Вверх-вниз, три-четыре.
– Типа качели? – в недоумении спросил Волохов.
– Ну да, только похитрей. Да ты небось сам его в детстве делал сколько раз.
– Никогда.
– Стало быть, все впереди. А вот так: хомка на почку, домка на точку, бурка на ступку – кто на зарубку?
– Шмяк, – радостно сказал Волохов. – Это у нас во дворе так считались.
Лысый хлопнул его по плечу:
– Хороший был двор.
На лестничную площадку робко высунулась волоховская подруга:
– Мальчики, у вас тут все в порядке?
– Даже слишком, – сказал лысый. – Скажи там Соне, что мы пойдем, наверное.
– Я сейчас оденусь…
– А ты посиди, – властно, словно имея право приказывать, произнес странный гость. – У нас свой разговор, не для женских ушей.
– Сиди, правда, – успокоил ее Волохов. – Я завтра позвоню.
6
– Вот так оно все и выгладит, – закончил Гуров, аппетитно затягиваясь сигареткой. Он все делал аппетитно и везде выглядел как хозяин – даже на волоховской кухоньке, где сидел впервые. Лысая его голова уютно блестела под лампой.
– Дурак я, – без выражения сказал Волохов. – Такая простая вещь, а…
– Почему сразу дурак? Ты просек ровно половину, а многие и этого не понимают.
– Половину, и о той в Каганате рассказали.
– А ты поверил, и правильно. Значит, сам чувствуешь что-то такое. Уже полдела.
– Подожди. Когда, ты говоришь, они пришли?
– Хазары? Примерно в шестом веке.
– А варяги? В девятьсот шестьдесят втором?
– Да, когда Итиль пожгли. Кстати, Кестлер цитирует прелестную запись одного путешественника: русы, утверждает он, всегда по трое ходили испражняться. Один испражнялся, а двое караулили. Боялись внешнего нападения. Дурак, да? Он просто никогда не жил здесь и не знал, что русы все делают по трое. Это обычай.
Волохов очень любил Гурова в этот момент. Гуров был первым, кто наконец избавил Волохова от главного проклятия – от любви-ненависти к своим. Теперь их можно было спокойно ненавидеть и не считать своими, и так же спокойно можно было ненавидеть хазар, имевших на эту землю не больше прав, чем его родной гнусный народ. Волохов сам не понимал, почему так легко поверил незнакомому человеку. Гуров говорил то, о чем сам Волохов давно догадывался, добавлял последний штрих в картину мира – что ж было не верить?
– Хазарский Каганат – то самое тринадцатое колено, так что все правильно. Они пришли и довольно быстро построились. Это же пора великих переселений, сам должен знать. Шестой-седьмой века. Мир трещит, все по новой. Бродят народы, ищут непонятно чего, срываются с места… Все борются за лакомый кусок. И тут мы – сам видишь, место злачное, народ кроткий, что ж не захватить? У хазар это быстро. Но только недолго музыка играла – шаталось тут еще одно безземельное племя, только северное. Не знаю уж, за что их погнали, – тоже, наверное, согрешили, а может, просто бродяги, вроде цыган. У меня даже знаешь какая была теория? Что первородный грех – он не один. Его каждое племя совершило и за это было изгнано, и поэтому теперь все живут не на своей земле. А хотят на свою, только не помнят, где она. Вот и скитаются в поисках. Веке в шестом-седьмом точно что-то такое было, все как с цепи сорвались. Галлы пришли в Рим, монголоиды – на Чукотку… А эти к нам. Ну, насчет первородного греха – сам понимаешь, завиральное.
– Но красиво: каждый ищет свою землю – элегантная мотивировка. Надо было тебе к нам в институт идти.
– Мне в моем Генштабе неплохо. А дальше смотри: приходят варяги, выдумавшие потом, что их призвали. Я, кстати, не исключаю даже, что действительно призвали – потому что уж очень надоело под хазарами сидеть. Они пришли – видят, народ действительно незлобивый. «Попытка ведь не шутка – пойдем, коли зовут!» Ну и вот, и остались. Хазар пожгли, они обиделись – пришли и опять захватили. А мы молчим, ждем, пока они друг друга перебьют. Никак. Ладно, в восемьсот сорок пятом вроде бы опять хазары победили, а сто лет спустя – варяги, и уже окончательно. Владимир, как ты знаешь, специально от хазар запер русские земли. Попытки реванша, само собой, были – в воззвании Минина упоминаются наряду с поляками именно хазары, под игом которых подыхает народ…
– Да воззвание-то поддельное.
– Какое? «Мужие, братие»? Самое что ни на есть подлинное. А дальше все по заведенному образцу. Действительно по кругу, тут ты уловил, и объяснение наглядное. Где никто ни во что не верит – там, кроме круга, никакого пути нет. А почему не верит – ты и сам понимаешь. У варяг с хазарами общей веры не бывает, а нашу они и вовсе вытаптывали.
– Что за наша?
– Будет время, расскажу. Все сразу нельзя. Это ведь тоже так, знаешь… травматично. Я в тринадцать лет все узнал от отца, и то чуть с ума не сошел, хотя ребенку легче. Нас мало, беречься надо.
– И почему мы их терпим?
– Тут сложно, – сказал Гуров. – Не так однозначно, по крайней мере. И ты мечом не маши, а то некоторые сразу начинают… тех свергать, этих гнать. Я иногда думаю, что мы их не терпим. Мне кажется даже, что мы их разводим – не в бандитском смысле, а примерно в том, в каком муравьи разводят тлей. Тлям, вероятно, тоже кажется, что они угнетатели. Я допускаю даже, что так кажется коровам. Не жалким, колхозным, а нормальным таким коровам, типа голландских. Корове кажется, что она священная. Верховное божество, все ее обслуживают, делать ничего не надо, знай доись. Как тебе, альтернативщик?
– И что мы имеем с гуся? – спросил Волохов. – Чем доятся эти коровы, которых мы тут на себе развели?
– Ну, во-первых, они друг друга убивают, – ответил Гуров.
– А нам какой прок?
– А иначе кто-нибудь убивал бы нас. Или мы друг друга. Я бы даже сказал, что они за нас живут и умирают. А мы, избавленные от нужд низкой жизни, делаем что-то гораздо более важное. Живем высшей формой жизни, в которой нет ни захватов, ни аннексий, ни контрибуций, ни революций, ни терроров. То есть находимся практически в ангельском состоянии.
– Ну уж и в ангельском? – не поверил Волохов.
– Во всяком случае в лучшем, чем они. И то, что их двое, – большое наше преимущество. Они все время отвлекаются друг на друга. Захватывают, тузят. Нам при этом, конечно, тоже достается, но не в такой степени. Любой другой захватчик нас с нашими данными давно бы уже… под корешок.
– Погоди. Мы, стало быть, их действительно позвали? Как бы наняли? Как нанимают одних бандитов, чтобы защищали от других?
– Это похоже, – усмехнулся Гуров. – Очень похоже. Только мы наняли двух бандитов, враждующих. Они защищают нас от всех внешних – потому что в мире знают, что мы под ними ходим… И при этом друг друга мочат, и никогда не могут замочить до конца. Чрезвычайно удобная схема, ты не находишь? Так что это еще кто кого терпит…
– Мне одно непонятно, – задумчиво произнес Волохов. – Почему при такой истории – с ее кругами, неверием ни во что, угнетением и прочая – такая культура? Уж никак не захватническая, верно?
– Отчасти захватническая. Нашей настоящей ты, небось, и не знаешь почти – ее в книгах мало печатают. Меня тут знаешь что больше всего умиляет? – доверительно сказал Гуров, сам, кажется, очень довольный тем, что нашел нового соотечественника. Вероятно, ему нечасто случалось вот так трепаться с безоговорочно своим. – Что у истоков так называемого золотого века стоят две хрестоматийные фигуры – раскаявшийся хазар и раскаявшийся варяг. Оба двигались друг другу навстречу и могли пересечься в некоей точке – но Бог не дал. И, может, к лучшему. Вдвоем-то они живо сдвинули бы дело… С одной стороны – Пушкин, классический хазар, атеист, смещавшийся всю жизнь к варяжству, государственничеству, северу… и на этом погиб, потому что кому велено чирикать – не мурлыкайте. Что интересно, убили не свои, а именно чужие: не примазывайся. То же и с Лермонтовым: начинал как классический варяг. Патриот, культ гибели, могучие северные образы, антихристианство, дурной вкус, Бородино – а в конце: «Прощай, немытая Россия». Они вечно стараются доказать, что это не он написал. Но «Люблю Отчизну я» – это-то явно он? «Ни слава, купленная кровью… ни темной старины заветные преданья»… Я думаю, это его на Кавказе перевербовали. Был у него такой кунак – явно хазарский. «Чеченец посмотрел лукаво и головою покачал».
– Ну, про чеченцев ты мне не вкручивай.
– Я и не вкручиваю. Сам поймешь. Языки нормально посравниваешь – и поймешь.
– Да ладно, не в чеченце дело, – мечтательно сказал Волохов. – Красиво получается. Действительно, раскаявшийся варяг и раскаявшийся хазар… И потом – эта парочка всегда соблюдается. С Толстым и Достоевским, например.
– Точно. Сообразительный.
– Погоди, погоди, – Волохов с наслаждением развивал теорию. – Толстой: его любовь к Лермонтову – «Пришел как право имущий»… Общий интерес к Бородину… Начинал как офицер… Упивался аристократизмом, кичился дворянством… После – резкий перелом, ненависть к государству, любовь к хазарству и защита его, вплоть до изучения древнехазарского… И с другой стороны – Достоевский, начинавший как бунтовщик, а закончивший гостем и другом царской фамилии. Да? И эта его Пушкинская речь в конце, про такой же предсмертный каменноостровский цикл… Слушай, как все сходится!
– Ну, это просто. – Гуров все время улыбался, и Волохов ловил себя на той же беспричинной улыбке: так радуются только своим. Он чувствовал себя так, словно попал в теплую ванну из ледяного заснеженного пространства. – Как только варяг или хазар начинают немного соображать, они тотчас ссорятся со своими. Вся так называемая великая культура стояла на раскаявшемся варяжстве и раскаявшемся хазарстве.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?