Текст книги "ЖД"
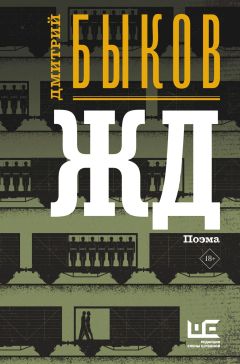
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Плоскорылов и сам сознавал, что ответ его вышел неубедителен, но основой варяжской контрпропаганды как раз и была неубедительность – поскольку солдат и младший офицер должны были верить не аргументам, а мощи. Слаб контрпропагандист, который на вопрос об успехах вероятного противника или преимуществах хазарского образа жизни начинал отвечать всерьез и с цифрами. Истинный политрук в ответ на такой вопрос либо заносил солдату звездюлину в грудак, либо – если был брезглив или, подобно Плоскорылову, страдал одышкой – сдавал его в Смерш, где солдату быстро все становилось понятно, ибо перед смертью, говорят, человек сразу все объемлет умом, только не успевает поделиться. Офицеры понимали, что задавать вопросы следует осторожно, – их, конечно, Плоскорылов сдавать бы не стал, как-никак офицера надо беречь, сам же учит, но стукануть в штаб может, а там попасть под раздачу несложно, сыскался бы предлог. Поэтому ни о чем интересном больше не спрашивали – интересовались, например, следует ли наказывать нерадивого солдата лишением переписки с семьей, или эта мера отметена как способствующая бегству. Плоскорылов радостно сообщил, что процент беглецов за последний год снизился почти в полтора раза, а бежавшая из заключения глава комитета матерей Стрельникова поймана на китайской границе и водворена в читинский лагерь усиленного режима. Эту благую весть он приберег под конец, но был у него для господ офицеров и еще один сюрприз – дева Ира.
Деву Иру возили по дивизиям больше полугода. До пятнадцати лет она развивалась нормально, но в начале третьего года войны у нее начались видения, она услышала голоса и ушла из дома. Первое время она проповедовала на улицах, ее сдуру схватили, начали проверять – тут-то о ней и стало известно в Генштабе, а мимо такой возможности пройти было нельзя. Плоскорылов присутствовал на ее первом концерте в клубе богословского факультета. Дева Ира не блистала красотой, как и дева Жанна; у нее была худенькая подростковая фигурка, мелкие черты лица и бесцветные волосы, но все искупали огромные серые глаза и надтреснутый металлический голос – голос патриотического ребенка, истинной души варяжства. Она исполняла старые песни, которые почерпнула из приемника, из ночных ностальгических радиопередач, – «Огонек», «На солнечной поляночке», «Темную ночь». Правду сказать, сам Плоскорылов не очень высоко ценил эти народные песнопения, сочиненные в окопах, – то ли дело «Война народная» с ее тевтонской поступью! – но в исполнении девы Иры они приобретали почти Достоевский надлом. Так могло бы петь варяжское дитя, умученное хазарами, испускающее последнюю слезинку перед закланием; сложного музыкального сопровождения дева Ира не признавала – она лишь слегка пощипывала струны старенькой гитары. Любая другая музыка могла заглушить этот слабый жестяной голос, который походил бы на дребезжание дачной флюгарки, когда б не надрыв и не подспудная сила, таившаяся в нем. Таким голосом можно было выкрикнуть прощальную речь перед расстрелом, а можно и скомандовать «Пли!» – если расстреливали внутреннего врага. Жертвенно-палаческая оборачиваемость была особенно мистична, в ней выражалась главная идея варяжства; ребенок постиг ее интуитивно, ибо на богословском факультете не учился, а больше взять ее было неоткуда. Только голоса могли трансцендировать из ледяного мира абсолютных сущностей этот детский мученический надрыв в сочетании с приказом; ломкий альт девы Иры, записанный на три немедленно выпущенных диска, разлетелся по всей стране и стал обязателен для слушания в армии.
Попев, дева Ира входила в транс и начинала рассказывать: «Вижу… вижу…» Видела она то самое, что надо: черную бархатную тьму с колючими звездами, полюс абсолютной силы, суровые островерхие ельники на малиновом закате, пустынные неприступные горы с парящим над ними орлом, ополоумевших от восторга и страха дикарей, молящихся непостижимому каменному идолу – любимцу вымерших гигантов… Дева Ира жарила вслух прямо по Горбигеру, которого, к слову сказать, не читала: давным-давно, в эпоху мирового льда, земля населена была титанами, проводившими время в могучих единоборствах, – следами их игрищ лежат перед нами Альпы; титаны жонглировали горами, шутя разбрызгивали озера, шагая через щетинистую поросль лесов, но после геологической катастрофы могучие люди Севера вымерли в теплом климате, а великое их наследие было извращено и оболгано низкими людьми тепла, скучными служителями пользы.
– Сегодня, господа офицеры, – произнес Плоскорылов с интонациями ласковой няньки, подводящей малыша к сюрпризу (например, к бочонку с рассолом, в котором отмокают отменные гибкие розги), – мы увенчаем нашу беседу истинным чудом. Об этом чуде все вы, конечно, наслышаны, но не многие из вас, я уверен, видели его своими глазами. Сегодня для нас поет русское диво, юная муза войны, голос русского сопротивления – дева Ира!
Господа офицеры шумно встали и вытянулись. Ефросиния неслышно распахнула дверь и вошла, подталкивая перед собою бледную деву Иру на подгибающихся ногах.
Мамка была высокая, несгибаемая женщина неопределенного возраста, тяжелая, с серым лицом и скорбно сжатым ртом: идеал варяжской вдовы. Левой рукой она держала за гриф детскую гитару. Ира перед очередным трансом потерянно блуждала глазами по стенам. Ефросиния подтолкнула ее к доске, Плоскорылов услужливо подвинул стул и отошел в угол, готовясь слушать божественные звуки. Ира несколько раз сонно провела по струнам, тряхнула головой и запела:
– Ми… и… мо берега крутого,
Ми… мо… хат…
В се… рой шинели рядового
Ше-о-ол со-о-лдат…
Плоскорылов закрыл глаза. Ему представился бескрайний русский простор, серый прибрежный песок, серая река и вдоль всего этого идущий серый солдат, насекомое войны, бесконечно малая человеко-единица. Солдат несомненно шел умирать, его было необыкновенно жалко, и утешиться можно только тем, что сейчас его наконец убьют – и он тотчас обретет гранитное бессмертие. Голос девы Иры окреп:
Ше-е-ол солдат, слуга Отчизны,
Ше-е-ол солдат во имя жизни,
Землю спасая,
Мир защищая,
Шел вперед солдат…
Она сделала паузу (офицеры не нарушили молчания ни единым бестактным хлопком) и вновь провела по струнам большим пальцем:
С берез… неслышим… невесом
Слетает желтый лист…
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет… гармонист…
Вздыхают, жалуясь, басы,
И словно… в забытьи…
Сидят и слушают… бойцы…
Товарищи мои!
Пока дева Ира детской лапкой с заусенчиками старательно зажимала басы, Плоскорылову представилась осенняя поляна в русском лесу и он сам, почему-то с баяном, хотя он сроду не умел играть ни на одном музыкальном инструменте. Сейчас он доиграет вальс «Осенний сон», и его бойцы уйдут с поляны, растворятся в запахе прели, в желтой листве, просто исчезнут, как и надлежит пропадать без вести истинному солдату: молча, безропотно, не обнаруживая себя даже криком «За Родину!». Они будут уходить, истаивать в желтом осеннем свете, а Плоскорылов все будет играть, играть… словно сама эта музыка, как «Прощальная симфония» Гайдна, тихо растворяет солдат в воздухе – с каждой нотой все меньше, меньше… и вот он доиграл, переведя их всех в состояние печального совершенства, и остался на поляне один. Ползут сумерки, и желтые листья на глазах теряют цвет; в сгущающейся серо-лиловой тьме одинокий капитан-иерей с уже ненужным баяном сидит среди осеннего русского леса – ему нельзя исчезать, они с баяном теперь последняя память о доблестно погибшем подразделении; здесь Плоскорылову стало себя так жалко, что он зажмурился, и по круглым его щекам скатились две слезы. Офицеры, глядя на него, осторожно крутили пальцами у виска. Пение девы Иры производило на них унылое, тошнотворное впечатление. Добро бы Ира возбуждала желание – но при взгляде на нее хотелось одного: немедленно накормить ее и уложить спать.
Между тем обязательный репертуар не был еще исчерпан: дева Ира запела теперь гимн собственного сочинения. По сочетанию хрупкости с воинственностью песня «Звезды Севера» не имела себе равных.
То Север, сугробами светел,
С царицей на каменном троне.
Там сосны, и волны, и ветер,
Там блеск самоцветов в короне.
О, дети слащавого Юга,
Где слишком все ярко и пестро!
В преддверьи полярного круга
Огнем колдовским светят звезды!
Нет сказок чудесней на свете,
Чем Север расскажет, я верю,
И нет ничего на планете
Прекрасней, чем Гиперборея!
Плоскорылов вообразил Гиперборею, ее суровые пейзажи и торжество вертикали – сосны, скалы, человек с филином. Дрожь священного восторга прошла по его спине и дыбом подняла волосы. Ах, ведь и дыба – то же торжество вертикали; не мучают, но возносят… Он вытянулся и хотел уже отдать честь, но понял, что сейчас вслед за ним поднимутся все офицеры, щелкнут каблуками и испортят песню; нет, пусть допоет…
– Товарищи! – вдруг воскликнула дева Ира, вскочив со стула и невидящими глазами уставившись в дальний угол Русской Комнаты. – Товарищи! Все как один пойдем и умрем! Умрем за то, что свято! Умрем за то, что чисто! Умрем все! Сталь… сталь входит в тело… блаженство…
И рухнула на пол в трансе.
Глава третья1
Майор Смерша Евдокимов уже второй час допрашивал рядового Воронова.
Воронов был худ, черноволос и страшно нервен. Может быть, именно по этой причине выбор Евдокимова и пал на него. Бессмысленно было допрашивать тупую деревенщину, изгаляться над крестьянами с их однообразными ответами и полным неумением выкручиваться. Воронов, напротив, извивался ужом. Евдокимов не знал за ним никакой вины и с интересом наблюдал за тем, какую вину придумает сам Воронов. Это было самым увлекательным в работе с интеллигенцией.
Воронов в свою очередь знал за собой слишком много провинностей и сейчас лихорадочно выбирал, в какой из них сознаться раньше. Он не мог угадать, какая покажется Евдокимову более тяжкой. В первые десять минут допроса Евдокимов был добр, но Воронов уже примерно представлял, как тот вдруг переключится с этой доброй тактики на яростную, – как-никак это был уже третий допрос. Однако угадать, когда это произойдет, не смог бы и сам майор, не то что пациент.
Основой следовательской тактики Евдокимова как истинного смершевца было приведение жертвы к осознанию своей греховности. Мало расстрелять, расстрелять всегда успеется: следовало растоптать, внушить мысль о том, что кара заслужена. Воронову предстояло всех предать и оговорить, отречься от матери, заложить командира – и только после того отправиться на казнь с твердым убеждением, что такие, как он, недостойны жизни. Если угодно, это было даже и гуманно: непростительная жестокость – убивать человека, уверенного в своей правоте. Прежде чем ставить кого-либо к стенке, следует сделать так, чтобы жертва сама себя приговорила – и по этой части у майора Евдокимова конкурентов не было, по крайней мере в штабе тридцатой пехотной.
Он был из заслуженных смершевцев, о которых слагались легенды: дзержинец, наследник подлинного чекизма, способный выбить из бойца любое признание, за три дня превратить здорового малого в трясущуюся, кающуюся мразь – и все это почти без физического воздействия. Евдокимов любил утонченность.
Он приметил Воронова давно, с тех самых пор, как привезли пополнение. Две недели ходил вокруг да около, выживая. Приставил к нему осведомителя – слушать разговоры. Воронов был то, что надо: скучал по дому, жаловался на портянки, один раз даже сказал, что вообще не понимает, почему и с кем они воюют… Любому другому это сошло бы с рук, но Евдокимов вцепился в улику не шутя. Это был шанс. Вдобавок и Плоскорылов заказал расстрел перед строем – боевой дух вследствие дождей совсем разложился, – Евдокимов взял Воронова тепленьким, вызвав якобы для вручения письма из дома. Евдокимов понимал, что это значит для человека вроде Воронова. Он подробно изучил дело новобранца и знал, что тот взращен матерью-одиночкой, отца не видел, в мужественных играх не участвовал и вообще, несмотря на приличную физподготовку, был в душе сущая красная девица. Он отправил матери уже два письма. Евдокимов на всякий случай перехватил оба. В письмах не было ничего особенного, кроме телячьих нежностей и уверений, что Воронов устроился отлично, так что беспокоиться матери не следует.
Россия вообще была интересная страна, потому что главная ее история происходила внутри, а не вовне, и главные войны опять-таки были внутренними. Главные конфликты в солдатской жизни разворачивались вовсе не с вероятным или невероятным противником, а с сержантом или иным командиром (просто сержант был ближе, почти родня). Считалось, что сержант и вся стоящая над ним пирамида, включая обязательного смершевца, вырабатывают таким образом из солдата настоящего мужчину, хотя настоящего мужчину они как раз выдавливали из него по капле, как раба, а вместо того вещества, из которого делаются мужчины, вливали в его жилы и кости тухлую, рыхлую, дряхлую субстанцию, парализующую всякое осмысленное сопротивление. Обработанный таким образом солдат способен был воевать только истинно варяжским способом – то есть ничего вокруг не сознавая и боясь своих больше, чем чужих.
Все это шло от того, что ни командиры, ни смершевцы никогда не были солдатами и не могли ими стать, будучи рождены для иного. Любой офицер, заставь его кто-нибудь проделывать то, что требовалось от солдата, обнаружил бы полную профнепригодность, – как и любой менеджер в варяжском бизнесе, поставь его прихотливая судьба на место того, кем ему выпало управлять, оказался бы не способен ни на что, кроме приготовления и распития кофия. Варяжское начальство ни в чем не могло подать примера, ибо не владело ни одним из руководимых ремесел, с одинаковой легкостью руля то нефтянкой, то мобильным бизнесом, то ротой, то госпиталем; варяжский прораб не умел строить домов, варяжский генерал не умел строить оборону, варяжский дирижер не умел строить скрипку – все они умели строить только подчиненных, предпочтительно по ранжиру. Варяжскими начальниками рождались – и годились на эту роль только те, кто не был способен ни к какой деятельности, но виртуозно умел топтать способных. Евдокимов был прирожденный смершевец, элита элит: он вообще ничего не умел. И он был некрасивый. Он был словно топором рубленный. Он был плечистый, нечистый. Блевотное он был существо, прямо говоря. Мало кто был хуже Евдокимова. Варяги любили Евдокимова, ценили Евдокимова.
Когда Воронов явился в Смерш за письмом из дома, он не заподозрил никакого подвоха – мало ли, может, во время помпы все письма должны приходить только через Смерш. Но Евдокимов уже знал, как будет его колоть. В Смерше, еще в Академии Дзержинского, всем внушали: невиноватых нет. Задача исключительно в том, чтобы найти вину. Народ прав, говоря, что у нас просто так не сажают. Настоящий военный психолог должен был тщательно разобраться в прошлом и настоящем объекта, чтобы просто отмести случайные и побочные вины, сосредоточившись на главной. Воронов был настолько удобен, что у Евдокимова через два дня оказался в руках букет расстрельных статей.
– Рядовой Воронов по вашему приказанию прибыл! – четко рапортовала жертва, еще не подозревая о своем новом статусе.
– Так-так, – медлительно сказал Евдокимов. – Так-так… (Это тоже была азбука смершевца – тянуть время, чтобы жертва пометалась.) – Ну что же… ммм… Воронов, да? Значит, письмеца ждете?
– Так точно.
– От кого же, любопытно узнать?
– От матери, товарищ майор.
– Мать – дело хорошее. Один у матери?
– Сестра еще есть.
– А почему ждете письма? Адрес сообщили уже?
– Так точно.
– Ага. Ну, ладно. А почему вы думаете, что мать вам сразу напишет?
Воронов растерялся.
– Потому… потому что волнуется, товарищ майор.
– Волнуется? А почему она волнуется? Вы что, сообщили ей в письме что-то такое, от чего она может разволноваться?
– Никак нет, товарищ майор, – густо покраснел Воронов. – Просто… ну… я подумал, что она будет волноваться. Война же.
– А вы сообщили матери, что находитесь в районе боевых действий? – Голос Евдокимова начал наливаться свинцом. Попадая на фронт, солдаты не имели права об этом сообщать. Такова была особенно хитрая, иезуитская установка I с и штаба: родители знали только номер части. Любая информация в письме, из которой можно было почерпнуть намек на истинное местонахождение солдата, расценивалась как измена и немедленно каралась.
– Никак нет, товарищ майор. Просто написал, что прибыли в часть.
– Так что ж она тогда волнуется? Нервная, что ли? Может быть, больная какая-то?
– Никак нет, товарищ майор.
– Я сам знаю, что я товарищ майор. Что вы мне все время – товарищ майор, товарищ майор? Вы, может быть, думаете, что в Смерше дураки сидят?
– Никак нет, това… Никак нет, я так не думаю.
– А. Интересно. А как думаете?
– Я про Смерш никак не думаю, това…
– «Товарищ майор», надо добавлять. Вы в армии находитесь или где? Вы, может быть, забыли основы субординации?
– Никак нет, товарищ майор.
– Я сам знаю, что я товарищ майор! – заорал Евдокимов. Воронов дошел до кондиции. Момент для перемены регистра был выбран безошибочно. – Значит, сначала волнуем мать, доводим ее, можно сказать, до нервного стресса, – а потом вот так запросто являемся в Смерш за письмецом? Я правильно вас понял, товарищ рядовой? – Это тоже был любимый прием: перечислить с грозной интонацией несколько невинных фактов, из которых сейчас будет сделан неожиданный и убийственный вывод.
– Я не являюсь, товарищ майор… то есть самовольно не являюсь… я явился по вашему вызову…
– Я знаю, что по вызову! – громко прервал Евдокимов. – Не в маразме еще, слава богу! Или вы полагаете, что у нас в Смерше служат маразматики? Отвечать!
– Никак нет, товарищ майор!
– Что «никак нет»?
– Никак не маразматики служат в Смерше, товарищ майор.
– А вы откуда можете знать, кто служит в Смерше? Вы, может быть, уже имели вызовы? Приводы? (В лучших варяжских традициях Евдокимов предпочитал ставить дактилическое ударение, хотя слова такого не знал: «приводы», «возбужден», «осужден».)
Так, мысленно поворачивая перед собою Воронова, как деревянный шар, ища на нем зацепку, заусеницу, шероховатость, майор Евдокимов к концу второго дня был сполна вознагражден. Воронов впал в истерику. Биясь в майорских сетях, как обреченная муха, мечтая хоть о часе передышки (Евдокимову уже два раза подали чай, Воронов не получил даже разрешения пойти на двор), рядовой был готов каяться в чем угодно. Евдокимов припомнил ему разговор с однополчанином о тяготах и лишениях воинской службы, сетования на то, что устав трудно запомнить из-за бессмысленных повторений, и пригрозил очной ставкой с рядовым Кружкиным, донесшим, что Воронов не обнаруживал смысла в войне.
– Значит, не видим смысла в войне? – спросил он хмуро.
– Никак нет, товарищ майор.
– Не видим, значит?
– Никак нет, видим, – повторял Воронов.
– Ты издеваться надо мной, засранец?! – вскочил Евдокимов. – Издеваться над боевым офицером?! (Внутри у Евдокимова все пело. Он даже забыл, что ни разу не был в бою: был приказ – смершевцев в бой не посылать, ценные кадры!). У меня тут такие сидели и кололись, что не тебе чета, ты издеваться надо мной?! Никак нет видим или никак нет не видим?
Перепуганный Воронов некоторое время соображал, но мозги ему еще не отказали.
– Никак нет, видим смысл, товарищ майор!
– Кто видит?
– Мы видим!
Это была как раз необходимая Евдокимову проговорка.
– Запротоколировал? – спросил Евдокимов у высокого бойца Бабуры, своего секретаря, вялого малого несколько педерастического вида.
– Так точно, – небрежно отвечал Бабура. Он был тут свой парень и давно понял, что Воронова живым не выпустят.
– Так кто это «мы»? – нежно, вкрадчиво обернулся к Воронову Евдокимов.
– Мы все, товарищ майор. Все видим смысл.
– А ты за прочих не расписывайся! Что, уже и мысли читаешь? Признался бы сразу: мы есть тайная организация, действующая в войсках противника для приведения их к боеготовности!
– Никак нет, товарищ майор, – вскочил Воронов, – Никакой тайной организации!
– Проговорился, проговорился, – глядя в стол, словно жалуясь ему на чужое вероломство, заговорил следователь. – Предал мать. Всех предал. Себя предал. Но себя – что? Кто ты есть? Ты никто, понял? Но мать! Как ты смел предать свою мать!
– Никак нет, я не предавал матери, – сказал Воронов, собрав остатки мужества.
– Да? А Родина тебе уже не мать? Запротоколировал, Бабура?
– Тык-точно, – небрежней прежнего рапортовал Бабура.
– Не считать Родину матерью! Отречься от Родины! Где вы выросли, Воронов? – Евдокимов перешел на вы, словно рядовой только что бесповоротно пересек тайную грань, отделявшую пусть провинившегося, но гражданина Родины от изменника, недостойного звания человека.
– В Москве, товарищ майор.
– Что есть Москва? По уставу! – завопил майор.
– Москва… Москва есть столица Русской земли, стольно-престольный град, исторический центр ее объединения вокруг себя, мать русских городов и национально очищенный от всякого мусора краснобелокаменный город-герой, неоднократно отстоявший свою честь от иноплеменных захватчиков! – пролепетал Воронов формулировку гласа второго Устава российской истории и местоблюстительства.
– Ну вот, – удовлетворенно проговорил Евдокимов, и в истерзанной душе Воронова проснулась надежда. – Сами же говорите: мать русских городов. И от этой матери вы отреклись, создав боевую организацию и обсуждая в ее рядах, осмысленную или бессмысленную войну ведет ваша Родина. Хотя сама такая постановка вопроса, рядовой Воронов, есть уже государственная измена! Вы понимаете теперь, что с вами будет? Вы понимаете, что будет с вашей семьей? Купить жизнь своей семье, – отчеканил майор, – вы можете только полной сдачей всего личного состава вашей организации, поименно, тут! Мы слушаем вас, рядовой Воронов.
Рядовой Воронов молчал. Тогда Евдокимов лениво встал, поднял его за грудки так, что отлетели пуговицы гимнастерки и несколько раз ощутимо, хоть и не в полную силу, ударил в живот.
– Я так долго могу, – предупредил он.
Воронов молчал весь следующий день и всю ночь, пока над ним трудились еще трое подручных Евдокимова, но когда Евдокимов показал ему представление на арест всех его родственников, направляемое по месту жительства в связи с разлагающей пропагандой в военное время (представление было отпечатано на специальном бланке, такой метод воздействия официально разрешался Генштабом), Воронов признался в существовании тайной организации и назвал весь списочный состав своей роты. Он помнил не всех и поэтому попросил список.
– Все?! – спросил Евдокимов, не ожидавший такой удачи.
– Так точно, все.
– Вы издеваться надо мной?! – снова заорал майор. И еще немного побил Воронова, который и так уже не очень крепко держался на стуле; однако Бабура успел запротоколировать признание, и расстреливать теперь можно было любого.
– Встать! – приказал Евдокимов. – Что ж ты, гадина… дрисня… Своих сдал, да? Всех как есть? Всю роту? А ведь у всех тоже матери!
Воронов молчал.
– Ты понимаешь, что из-за тебя все под трибунал пойдут?! Сейчас?! Сегодня?!
Воронов не отвечал. Он надеялся, что его абсурдное показание вызовет новый приступ майорского гнева, но по крайней мере в те полчаса, что он будет диктовать список, его не будут бить и, возможно, даже дадут попить. Он знал, что во время допросов тридцать седьмого некоторые тоже называли всех, кого помнили, думая, что явная абсурдность показаний скоро приведет к ступору карательной машины, неспособной переварить столько народу; но машина была способна переварить этот народ несколько раз, с детьми, чадами и домочадцами, а хватать всех ей было вовсе не обязательно. Она уже умела растягивать удовольствие. Но еще лучше она умела убеждать пищу, какая эта пища дрянь. Мы бы небось не сломились, если бы вы хоть раз попытались напасть на нас в отместку… но где вам, скотам!..
– Унести это дерьмо, – брезгливо сказал Евдокимов.
Бабура и личный денщик Евдокимова, весельчак и непревзойденный массажист Старостин, чесавший пятки так, что с этим не мог сравниться никакой минет, поволокли Воронова в сарай.
– Завтра и употребим голубчика, – сказал себе Евдокимов. Оставалось главное, ни с чем не сравнимое наслаждение.
Он достал из скоросшивателя письмо рядового Воронова и перечел его с начала до конца. «Дорогая мамочка, маленькая моя! Пожалуйста, не волнуйся. Здесь все ко мне очень добры, я все время занят, боевых действий нет и не предвидится, и если бы не тоска по всем вам, мои дорогие, было бы совсем хорошо. Пожалуйста, не напрягайся слишком насчет посылок, у меня есть все, что надо, и даже с избытком…»
По телу смершевца пробежала приятная судорога удовлетворения – не эротического, конечно, но что-то сродни пароксизму удовольствия, который испытывают крупные земноводные в момент насыщения. Интеллектуальная отрыжка, если угодно, – твердое сознание исполненного долга и легкая приятность полного, безостаточного поглощения. Жертва лежала в сарае. Сарай исполнял роль желудка. Майор Евдокимов изобличил сто тридцать первого внутреннего врага.
2
Плоскорылов занимался. Надо было подготовиться к завтрашней лекции – вводной по теме «Нордический путь».
Он сидел за чисто выскобленным столом в избе молодой солдатки Марфы. Курсе на втором-третьем, во времена молодых заблуждений, о которых он вспоминал теперь со снисходительной улыбкой, он непременно усмотрел бы в таком поселении евангельский подтекст: его умилило бы, что Марфа готовит ему с особенным тщанием, подает на стол расторопно и смущенно, с робкой улыбкой, а лекции и советы по куроводству слушает внимательно, но явно никто не понимает. Откуда, в самом деле, простой крестьянке понять духовное куроводство! Теперь же, отлично зная истинную природу христианских легенд, Плоскорылов видел всю хазарщину этой веры, всю ее дешевизну и безвкусность с точки зрения великого холода; однако на молодые умы и горячие сердца такие побрякушки действовали неотразимо. Что же делать, если в оны времена мудрому варягу Ипадимиру пришлось в целях мимикрии среди враждебного окружения принять ЖДовскую веру! Нынешнему варягу нужно было созреть, чтобы сбросить ЖДовский бред, к которому, кстати, сами ЖДы относились с нескрываемым пренебрежением. Чтобы их победить, нам надо немного стать ими и хорошенько у них поучиться – и по части пренебрежения к собственной новозаветной придумке, и по части поразительной национальной монолитности, и по части воспитания детей: невротизация потомства, которое с первого класса учат быть лучше всех и ненавидеть враждебное конкурентное окружение, была отличной идеей. Плоскорылов и сам рос невротиком, с детства окруженным тысячей страхов и таинственных предчувствий, и только тому был обязан быстрой карьерой. К христианству Плоскорылов относился теперь, как истинный хазар: внешне соблюдал пиетет, внутренне глубоко презирал, и потому уже не умилялся Марфе и не говорил ей с отеческой улыбочкой: «Марфа, Марфа, ты избрала худшую часть!» – как сказал бы лет семь назад. Нынешний Плоскорылов вообще не метал бисера перед коренным населением.
«Нордический путь» был краеугольным камнем правильного офицерского мировоззрения. С его помощью обосновывались тяготы и лишения, и в первую очередь Норд. Вначале следовало объяснить, почему в армии принято говорить не «Север», а именно «Норд». Это было слово из родного санскрита, с далекой прародины. Пошлое и вдобавок ругательное «Север», почерпнутое у коренного населения, годилось только для простонародья, но не для воинской аристократии. «Нар» – древний, славный санскритский корень. Он обозначает воду, но не абы какую, а стремительно текущую. Нара – санскритская река, нары – санскритская кровать (обозначение, восходящее, вероятно, ко временам, когда арии спали в лодках во время долгих морских странствий), Нарцисс – юноша, залюбовавшийся своим отражением в воде; истинный воин обязан быть нарциссом, любить себя до дрожи, до сладкого возбуждения. Плоскорылов был истинный нарцисс, не упускающий случая полюбоваться собою в зеркале, он даже вел тайную тетрадь своих успехов – кто и что ему сказал, как и когда похвалил; плохого Плоскорылов не фиксировал – для чего запоминать ерунду? Нар, нор – гордое санскритское слово, наследие арийцев, выше всего ставящих Норд, норов, северную прародину Норильск, строгую воинскую норму и суровую минорную музыку.
Русские, или русы, – великий северный народ, согнанный с места похолоданием; но похолодание было не случайно – у природы (упоминать чуждого христианского Господа в арийских лекциях Плоскорылов избегал) была особая цель. Истинной причиной оледенения было то, что срединные народы, живущие в глубине материка, нуждались в просвещении. Это просвещение и принесли им арии – русоволосые, высокие воины, проводившие дни в овладении боевыми искусствами и магическими ритуалами. Под руководством вождя Яра, о котором сообщала Велесова книга, русы вышли из Гипербореи и устремились на плодородные земли, где жили дикие племена. Племена уже умели обрабатывать эти земли, но не знали зачем, то есть для кого.
«Дальняя Тула, – писал Плоскорылов круглым почерком, высунув язык и любуясь своей пухлой рукой, пухлыми буквами, пухлой тетрадью, – была вотчиной дальних северных оружейников, и, придя в новые благодатные края, они тотчас учредили здесь свою Тулу. Город прославился оружием и славится им до сих пор. Глубоко не случайно и отчество Соловья-Разбойника – Рахманович, а самые рахманы, как утверждают былины, были мудрецами и жили на краю земли. Не вызывает сомнения, что это брахманы – жрецы высшей расы, жившей на крайнем севере и исповедовавшей индуизм. Впоследствии они ушли с севера и основали вначале славянскую, а затем древнегреческую и индийскую цивилизации…»
Гуров, как всегда, возник словно ниоткуда – не предупредив, не давши Плоскорылову шанса как следует «прорубиться», то есть, в переводе с грязного солдатского сленга, выказать себя с наилучшей стороны. Плоскорылов видел особенный тон в том, чтобы при встрече с личным другом – у него были все основания видеть в Гурове старшего брата, так явно выделял его московский инспектор, – соблюсти максимум воинского этикета; ловя в глазах Гурова признаки начальственного одобрения и даже любования достойным учеником, – а кое в чем Плоскорылов уже и превосходил инспектора, хотя даже наедине с собою не всегда признавался, что понимает это, – внешне он оставался скромнейшим войсковым политруком, знатоком солдатских нужд, тихим работником фронта, привыкшим к ежеминутному риску. Любо ему было аккуратно доложиться, откозырять, застенчиво подать руку для поцелуя (Гуров был все-таки лицо светское, при всех своих семи ступенях, а потому обязан был приветствовать капитан-иерея по всей форме), отрапортовать о случившихся происшествиях и только потом по-братски, по-варяжски троекратно расцеловаться с другом. Гуров, однако, часто пренебрегал ритуалом – вероятно, на седьмой ступени он уже не так нуждался в повседневной интеллектуальной дисциплине, а может, ритуалы там были настолько сложны, что не Плоскорылову было их понять. На пятой можно было то, чего нельзя на первой, на четвертой рекомендовалось то, что исключалось на третьей, и все это сочетание взаимоисключающих правил, когда одному можно одно, а другому – принципиально другое, Плоскорылову представлялось главной доблестью варяжства, той самой цветущей сложностью, о которой писал он когда-то первое курсовое сочинение, отмеченное бесплатной поездкой в Аркаим.









































