Текст книги "ЖД"
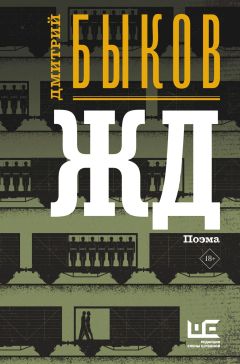
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Гуров всегда входил неслышно, не стукнув дверью, не скрипя половицами, и отлично ориентировался в жилищах коренного населения, словно сам не один год прожил в избе. Плоскорылов обернулся, вскочил, оправил рясу и, приняв стойку «Смиренно», приступил к рапорту, но Гуров, как всегда, не дал ему блеснуть:
– Вольно, вольно, иерей. Здоров?
Плоскорылов, не зная, куда девать повлажневшие от радости глаза, сунул ему руку, к которой Гуров быстро наклонился, и радостно полез целоваться.
– Рад, – повторял он со слезами в голосе, – рад и тронут. Спасибо. Не поленился, приехал. На передний край. Очень, очень рад.
От него не укрылось, что Гуров морщится скорее по обязанности, а на самом деле очень доволен, видя младшего друга в бодрых трудах.
– Как служба? – спросил инспектор, усаживаясь за стол, словно век прожил у Марфы. С коренным населением у него были особые отношения – если к Плоскорылову крестьяне относились уважительно и робко, никогда не признавая его своим, то Гурова они любили, как, должно быть, рабочие любили Ленина: признавая его врожденное право возглавлять и владеть. Так и теперь – Марфа вошла, увидела Гурова, в пояс поклонилась и принялась собирать на стол. Плоскорылов немедленно спрятал конспекты.
– Не надо, не надо, сыт. Что, Марфа, не забижает иерей?
– Как можно, – потупившись, сказала Марфа.
– От мужика твоего есть вести?
– Писал, – кивнула она. – Вроде живой.
– Добро. Эх, устал. Кости ломит. Шел баран по крутым горам, вырвал травку, положил под лавку. Кто ее найдет, тот и вон пойдет. А, Марфушка?
Марфа поклонилась и вышла. Плоскорылова всегда удивляло пристрастие инспектора к варварским считалкам и припевкам, изобличавшим всю плоскостность мышления коренного народа, – вероятно, на седьмой ступени предписывалось заигрывать с крестьянами и даже жалеть их с недосягаемой высоты; сам Плоскорылов свято соблюдал иерейские заповеди о дистанции, несмешании и снисхождении без послабления.
– Слышь-ко, иерей, – с великолепной воинской небрежностью сказал Гуров (седьмая ступень могла позволять эту небрежность, тогда как на шестой требовались усердие, прилежание и то, что на солдатском варварском языке называлось «зубцовостью»), – смершевец-то наш все бдит?
– Да, знаешь, я доволен. Он хотя и простой малый, но чудесный специалист. Одного разложенца так выявил, что любо. Оказался хазарский агент, и какой! Ничем себя, мразь, не обнаруживал. Но пораженец классический. Жаловался матери, распускал пацифистские сопли. Завтра будем кончать.
– Пораженец? – промурлыкал Гуров. Он был теперь похож на большого довольного кота – полный, уютный, но Плоскорылов знал, какое стальное у него тело и как мгновенно, пружинно он подбирается, заслышав внятный ему одному зов боевой трубы. – Пор-раженец – это хор-рошо…
– Пop-рождение ехидны… Когда он его выцепил?
– Дня четыре назад. Долго колол, но ты же его знаешь – ни почем не отступится…
– Хоть без рукоприкладства?
– Зачем, там спецы. Так обработали – в ногах у них валялся, сапоги лизал.
В варяжских кругах особенно ценилось выражение «лизать сапоги», и Плоскорылов, зная любовь Гурова к традиционной варяжской фразеологии, не упускал случая упомянуть дорогие архетипы.
– Хор-рошо. Я его сам посмотрю. Ты Евдокимова не думаешь на посвящение представлять?
– Я бы его сразу на пятую представил, – доверительно сказал Плоскорылов, чуть понизив голос. Было неизъяснимым наслаждением на равных обсуждать с посвященным представления, награды и прочие карьерные подвижки. – Но ты же знаешь, он без высшего…
– Ну и зачем смершевцу высшее? Ты думаешь, у самого, – Гуров возвел глаза, – академия за плечами? Все сам, своим горбом. Представляй, представляй. По нему пятая ступень давно плачет. Сам-то про инициацию думаешь?
Плоскорылов смутился. Он проклинал свою способность мгновенно, девически-нежно краснеть.
– Наш долг, инспектор, служить нордическому Отечеству а прочее в руках Одина…
– Ну ладно, перед своими-то, – ласково осадил его Гурон. – Ты еще каблуками щелкни. Каблуками пусть Пауков щелкает, а ты, иерей, готовься. Я ведь не просто так езжу, сечешь?
Плоскорылов поднял на инспектора глаза, полные собачьего обожания.
– Да, да. Ты парень не из простых, я за тобой не первый день слежу. Такие знаешь теперь как ценятся? Сам видишь, настоящий варяжский дух в войсках – редкость почти неслыханная. А у тебя в штабе все уставники один к одному. Значит, внедряешь. Ты думаешь, тебе вечно в Баскакове болтаться? Подожди, еще преподавать в академию пойдешь. Без войскового опыта ничто не делается. Сам займусь. Не красней, не красней, нечего. Мне тебя повидать – праздник. Инициировать тебя будем в августе, лучший месяц для таких дел. Знаешь, кто посвятит-то?
– Не смею надеяться, – улыбнулся Плоскорылов. Он не допускал и мысли, что Гуров доверит инициацию кому-то другому.
– Корнеев, – сообщил инспектор, заговорщицки подмигнув.
Такого шока Плоскорылов не испытывал давно. Корнеев был вечный дневальный – нерасторопный, огромный солдат с пудовыми кулачищами, тупой, как сибирский валенок, и категорически неспособный к воинской науке.
– Рядовой? – переспросил иерей.
– А какой же? – отечески улыбнулся Гуров. – Ты думаешь, все так просто? Нет, милый, седьмая ступень должна быть везде. И среди рядового состава есть наши… а как мы иначе узнаем о фактах недозволенного обращения? Кто за офицером присмотрит? Ты много не разговаривай об этом, но к Корнееву присмотрись. Он у нас такой… инициатор. Через него все лучшие прошли.
– И ты? – тупо спросил Плоскорылов.
– Почему я? – улыбнулся Гуров. – Меня… ну, узнаешь когда-нибудь. У меня вообще все не как у людей. Готовься, капитан. Числа восьмого и займемся. И вот еще что… Я, собственно, давно тебя спросить хочу… Тут девочки новой, из туземок, не появлялось?
Ни в лице, ни в голосе Гурова ничего не изменилось, но Плоскорылов привычным чутьем сразу угадал, что инспектор заговорил серьезно и сквозь кажущуюся небрежность проступила наконец внутренняя сталь.
– Никого нового не замечал. А что?
– Ты присматривай, присматривай, – не вдаваясь в объяснения, как и подобало варяжскому командиру, продолжал Гуров. – Она может к вам прийти… причем не одна, улавливаешь? Она прибудет с таким мужчинкой лет сорока пяти, я тебе фотокарточку оставлю. – Он полез в нагрудный карман френча и вытащил фото: представительный, с проседью, типичный чиновник уставился на Плоскорылова с тем тайным сознанием превосходства и вседозволенности, которое пробивалось у работников федерального уровня сквозь любой европейский лоск. – Ее фотоморды у нас покуда нет, но уж я расстараюсь. Если они куда и направятся, то к тебе. Либо в Дегунино, но уж там я ее лично перехвачу. Смотри, иерей, это очень серьезно. Если ты ее поймаешь – считай, полковничья звезда тебе обеспечена.
Плоскорылов второй раз за полчаса вспотел от неожиданности.
– Шахидка? – понимающе спросил он. – Предательство?
– Вроде шахидки, – кивнул Гуров, но Плоскорылов, отлично его изучивший, понял: все гораздо, гораздо серьезнее. – А предательство такое, что никакому Власову не снилось. Они, конечно, могут и поврозь, – но подозреваю, что явятся парой. Так уж ты, иерей, не пропусти. Я на Евдокимова надеюсь, но тут особая интуиция потребна. Не проморгай.
– Но, может, ты хоть объяснишь немного, в чем дело, чего от них ждать…
– А ничего не жди. Как увидишь новую туземку, так сейчас же мне и докладай. А ее под замок, всасываешь? Под хороший замок. Она может быть беременная, а может, и не беременная. Если беременная – значит, сразу лично мне на мобилу скидывай. А как этого увидишь – так разрешаю чпокнуть его на месте, своими руками. Ты человека когда-нибудь убивал?
Гуров привстал и наклонился близко-близко к лицу капитан-иерея. Плоскорылов взглянул в его птичьи серые глаза за круглыми стальными очочками и окончательно смутился.
– Вижу, – догадался Гуров; он вообще обо всем догадывался мгновенно. – Ну, ничего. Надо же начинать когда-то. Это хорошее будет начало, иерей. Полковнику без крови никак. В общем, много не болтай – кто знает, какие у них тут союзники… Я тебя предупредил.
– Ну конечно, – горячо сказал Плоскорылов.
– Не «конечно», а по форме! – вдруг прикрикнул Гуров. Плоскорылов вскочил, оправил рясу и после секундного позорного промедления взметнул руку:
– Служу!
– Да вольно, дурашка, – рассмеялся инспектор. Плоскорылов никогда не мог понять, серьезен он или только проверяет его. – Молодца. Любуюсь, сынок. Настоящий варяг… воинская косточка… – Он отвернулся, словно стыдился проявления отеческих чувств. Плоскорылов так любил его в этот момент, что, не колеблясь, послал бы на смерть.
– Помолимся, инспектор, – предложил он от избытка чувств. Совместная молитва была лучшим, что он мог сейчас предложить гостю.
– Думаешь? – поднял глаза Гуров. – Прямо сейчас? Ну пошли.
3
Храм Плоскорылов оборудовал при штабе, – крестьяне построили его по чертежу дня за три. Пауков удивительно умел распоряжаться массами. Храм получился аккуратный, истинно воинский, с арктической устремленностью вверх, с чисто декоративным, несерьезным крестом и без всякой уродливой луковицы, этой неотъемлемой принадлежности православия. Плоскорылов жаждал увидеть на храме древний, любимый ведический знак и даже укрепил на концах креста маленькие, осторожные намеки на него. Собственно, стесняться было нечего, крестьяне не возразили бы, даже укрепи он на храме звезду, и такие прецеденты бывали, весь сталинский стиль тому порукой, но полностью раскрываться пока не следовало. Плоскорылов, однако, настоял, чтобы рядом оборудовали подсобку, которую он лично запирал на замок; туда никто, кроме него, не мог проникнуть. Там покоилась атрибутика арийского, нордического богослужения: без этого Плоскорылов давно бы сошел с ума среди беспрерывных баскаковских дождей, тупости коренного населения и однообразия пресной крестьянской пищи. Пройдя третью ступень, неустанно и восторженно изучая историю Ариев и неразрывно связанное с нею арианство, он не допускал и мысли о молитве пошлому, растлительному хазарскому божеству. Страдальческая фигура на кресте оскорбляла его душу, всецело посвященную солнценосному учению. В под-юбке хранился ведический знак, своеручно вырезанный Плоскорыловым в обстановке строгой секретности из куска тонкой жести, да двенадцать изображений варяжских божеств – почти весь пантеон, кроме Велеса, которого сожрали ненасытные баскаковские мыши, а набить нового было пока не из чего; да еще череп, который Плоскорылов всегда носил с собой для напоминания о главном; да платок, омоченный в хазарской крови (драгоценная реликвия, вручаемая на четвертом курсе); и непременный льдистый кристалл с острыми гранями – образ полюса Севера, с надписью «Привет из Арктики!» для камуфляжа: такие сувениры имперская промышленность в избытке производила в шестидесятые, но вынуждена была скрывать «ориентацию на север» и маскировать ее дурацкой романтикой освоения новых территорий.
Гуров разлапистой, совсем не военной походкой шел к храму. Снова припустил мелкий дождичек, холодало, и Плоскорылов поеживался после теплой избы.
– Часто служишь? – не оборачиваясь, спросил инспектор.
– Стараюсь не чаще трех раз в неделю, – виновато признался иерей. – Ну а где мне силу брать, сам скажи?
– Силу нигде брать не надо, сила должна быть внутри.
– Она и есть внутри! – ругательски ругая себя за неправильный ответ (опять расслабился!), немедленно исправился капитан. – Но пойми, тут же нет ни книг, ни общества! Я скоро шерстью зарасту!
– А для того и глушь! – наставительно произнес Гуров. – Для чего подвижник уходит в затвор? Почему хазарство переняло эту ведическую практику? В душе своей обретешь неиссякаемый источник! Ты думал, ты просто так на фронте гниешь? Ты закаляешься для главного служения!
Плоскорылов сам еженедельно вдалбливал все это офицерам, но когда этим банальностям принимался учить Гуров – ощущал некоторую неловкость.
– Я знаю, – кивнул он. – Но на практике…
– На практике устав читай! – прикрикнул инспектор. – Ты должен быть как алмаз, иерей! Понял? Как алмаз! Я в тебе, тебе одном вижу смену! А спроси тебя обязанности дневального по роте – ты поплывешь, как Вайсберг в океане! Что, нет?
– Ты шутишь, что ли? – обиделся Плоскорылов. – Я в двенадцать лет это знал! У меня с шестого класса строевой устав под подушкой… я карту Курской битвы рисовал, первый приз за реферат по району!
– Ты мне не первый приз за реферат, – холодно сказал Гуров, и Плоскорылов опять не знал, шутит он или всерьез, – ты мне обязанности дневального, и стоять смиренно!
– Дневальный есть военный солдат, – бойко начал Плоскорылов, – которого первейшая обязанность есть надзирать, следить, досматривать и докладывать, а такожде поддержание порядка в расположении роты неусыпно. Дневальный есть принадлежность тумбочки, каковая есть принадлежность входа в расположение. Дневального долг есть натирать краники, стоять смиренно в ожидании кто есть любезный гость, а при появлении любезный гость производить отдание чести и три выстрела: выстрел известительный, выстрел предупредительный и выстрел контрольный, если любезный гость окажется вероятный противник. Когда дневальный заступать, то наряд принимать…
– Вот и врешь, – спокойно сказал Гуров. – Пропустил про дежурного.
– Ах черт, – вспомнил Плоскорылов. Ну конечно, как он мог забыть! Отчего-то он всегда пропускал этот пункт. – Дневального есть долг оповещать дежурного по роте, аще кто прибыл, убыл, прибил, убил, привалил, увалил, пристал, устал, прикололся, укололся…
– Ну?
– Черт… прости, инспектор. Не помню.
– Приложился, уложился, – небрежно продолжил посвященный. – Дневальный есть дежурного по роте первый помощник, правая рука и неодушевленный предмет… Достаточно. В следующий раз спрошу тебя про караульный грибок, и аще ты мне не доложиши квантум сатис, будеши имети от мене три наряда на кухню с отиранием стен и подносов с троекратным отмыванием, понятно ли я излагаю? – Он расхохотался. – У тебя строевой устав не вызубрен, а я тебя посвящаю! Ну не развал ли воинской дисциплины? Ладно, пошли молиться.
В храме было прохладно, пахло свежим сырым дереном – то был славный запах хвои, живой природы, внушал себе Плоскорылов, хотя на деле это был запах мокрых досок, надолго зарядившего дождя и угрюмой крестьянской глуши. Теперь надо было быстро убрать всю убогую, дешевую мишуру полковой церкви – жалкие бумажные иконки, фанерное распятие, без любви выпиленное лобзиком и раскрашенное местным умельцем, – и расставить на алтаре арийские святыни.
Пока Плоскорылов хлопотал по хозяйству, Гуров осматривался. Вместе они молились только однажды, при самом первом приезде Гурова; о дне знакомства Плоскорылов не поминал с умилением. Молитвенный стиль инспектора поразил его аскетической скупостью – минимум выразительности, проборматывание, аккуратные жесты: будничность служения была важной приметой гуровского стиля, иерей даже пытался одно время копировать эту сухость, но его женственной природе она была покамест противопоказана. «Дело молодое», – любовно подумал он о себе. Гуров всякое повидал, его, должно быть, выжгло; он бывал у хазар, отлично знал их быт, не один день провел в общении с коренным населением – где тут было сохранить первозданную чистоту чувств?
Иерей разложил святыни – череп, свастику, кристалл, извлек из недр рясы старинный, закапанный воском и кровью молитвенник, укрепил в специальном держателе свечу вниз фитилем, подставил под нее чашу для сбора драгоценного освященного воска, снял крест и застенчиво спрятал в специальный карман, куда всегда убирал ненавистный хазарский символ во время собственных одиноких молитв; все было готово. Гуров пропустил бородку через кулак, поправил очки и посерьезнел.
– Сам будешь читать? – почтительно спросил Плоскорылов.
– Изволь, – сухо отвечал инспектор. Он положил правую руку на кристалл и размеренно, однако без подвываний и замедлений стал читать «Молитву о даровании победы арийской расе над сыновьями хамовыми»:
– Едине Истинный Господи Боже Израилев. Ты создал еси человека по образу Твоему и по подобию, при Ное же возблаговолил еси учредити и возвестити иерархию посреде племен сынов его, падения ради Хама, последиже чрез законоположника Мойсеа и прочих пророк Ты рек еси многократне, яко не подобает никоего смешения имети с проклятыми сынами хамовыми. Сего ради подобает Тебе, ЯХВЕ, именоватися Всеотцем расы нордическия, яко избран есть корень Симов и Яфетов духовнаго ради господьствия и обладания на земле сей. При конце же времен Ты Сам воздвиг вождя германстего, яко Кира новаго, егоже призвал еси учение о избрании расы ариев прорещи внове и свободити людей Господних от ига антихриста коллективнаго. И днесь со усердием молим Тя, о Всевышний и Всемогущий Творче, о еже вновь вознесеной на высоту быти священной свастике, бо суть символ древлий действа приснаго в людех Пресвятаго Духа Твоего. Собери воедино разсеянный Исраиль и даруй нам Судию обетованнаго, яко Ты еси Бог воителей и меч Твой да пойдет пред нами во одоление над супостаты. Аминь!
– Аминь! – с чувством возгласил Плоскорылов.
На глазах у него кипели слезы. Слова молитвы, даже в суховатом и сдержанном исполнении инспектора, действовали на него наркотически. На словах «расы нордическия» он всегда ощущал такой прилив сил, что забывал и о дурной погоде, и о тупости баскаковцев: нерушимая истина сияла перед ним. «Ариев прорещи…» Как смел Каганат посягнуть на звание Израиля! В такие минуты иерей готов был рвать ЖДов зубами.
– Прочти «На рать идущим», – с мягкой улыбкой сказал Гуров, видя душевный подъем молодого друга.
– Адонаи Яхве, – умоляющим голосом начал Плоскорылов, борясь со слезами, – Владыко Господи Боже отец наших, Тя просим, Тебе ся мили деем, яко же бе изволил еси Сам взыти со угодником Твоим Моисеом, возводя люди Твоя Израильтяны из Египта в землю обетования, такоже и ныне Сам иди с рабами Твоими сими Анатолием и Петром (он радостно, громко поименовал себя и Гурова, лишний раз ощутив тайную с ним связь), и с вой сими, храня их день и нощь. Якоже бе укрепил Исуса Навина образом Крестным, и молитвою Моисеевою на Амалика, и царства ханааньска секущася с ними. Якобе помогл Гедеону с тремя сты, прогонящу мадиамско множество, и секущу Зива и Зевея и Салмона, и вся князи их, такоже и сим помози от избытков Пречестнаго и Животворящаro Духа Твоего, ныне и присно и во веки веком. Аминь.
– Аминь, Яхве наш Один, Велесе козлобрадый, смрадный, хвостозадый, Отче верховный, идолище варяжское злобубучее, – неожиданно подхватил Гуров издевательски высоким голоском.
Плоскорылов в ужасе оглянулся на кощунствующего инспектора.
– Что с тобой, Петя?! – спросил он шепотом.
– А ты не знаешь, так не лезь, – холодно и резко отвечал Гуров. – Канон Велесу всевеликому седьмый, окончательный. А тебе не положено, до инициации. Не учи отца молиться.
– Но раньше ты никогда…
– Что я «раньше никогда»? – с вызовом спросил Гуров. – Все тебе знать надо, карьеристе пухлое, полногрудое. Порядок наведи и изыди конспектировати, да не узрю тебя, пока не отбарабаниши устав гарнизонныя и караульная, полныя и краткия. Убрал свои побрякушки и кру-ом арш! Благословляю, чапай отсюда.
Плоскорылов продолжал стоять столбом.
– Вольно, вольно, – махнул рукой Гуров и дробно рассмеялся. – Что ты, иерей, дурак какой… Ты думаешь, я тебя испытываю? Я тебя, засранца, люблю! – и звучно чмокнул Плоскорылова в щеку.
– В храме-то, – с мягкой укоризной выговорил Плоскорылов, еле переводя дух.
– Отче наш бо воитель, при нем и не такое сказати возмогу, – улыбнулся Гуров. – Уебывай, иерей, шевели булками. Я к тебе вечером зайду, а пока схожу гляну, каков у солдат есть моральный дух.
4
В это же самое время в избе баскаковской жительницы Фроси, где вот уже три месяца размещалась канцелярия шестой роты, перед командиром этой роты капитаном Фунтовым сидела женщина лет пятидесяти, того неопределенного социального положения, в котором пребывала теперь вся отечественная интеллигенция – люмпенизированная, но все еще не забывшая манер. На голове у просительницы был пестрый кашемировый платок, какие часто носили в семидесятые, во времена дружбы с Индией; руки ее были смиренно сложены на коленях, а лицо изображало мольбу. Женщина сильно нервничала. Это была солдатская мать Горохова.
Ротная канцелярия отличалась необыкновенной унылостью. Всякий человек, попадая сюда, почему-то чувствовал, что любые усилия тщетны. Грустны были желтые табуретки, тощие книжечки уставов, угрюм маршал Жуков на портрете. Пол скоблили трижды в день, и все-таки он был грязен. С потолка свисали три клейкие ленты, густо испещренные мушиными трупами. На окне сох ванька-мокрый. Дневальные регулярно поливали его, но что-то неподвластное дневальным поселилось в самом воздухе. Оно выпивало влагу из горшка ваньки, плодило мух и покрывало пылью подоконник. Стоило укрепить на окне белую занавеску, как она немедленно желтела от тоски. Безысходную тоску усугублял голос Фунтова, монотонный, как мушиное жужжание, – но клейкая лента для капитана Фунтова не была еще изобретена.
– Ведь вот вы в третий раз приезжаете, – монотонно говорил Фунтов, короткий, почти квадратный человек, которому было на самом деле двадцать семь, а выглядел он на все сорок – полный, сонный, будто присыпанный пылью. Немо можно было себе представить, о чем можно говорить с Фунтовым на пятой минуте совместного пребывания в одном пространстве. Он мог похабно ухмыльнуться при упоминании о женщинах, мог посетовать на изнеженность и хилость молодого пополнения, мог сладко зевнуть и произнести любимую поговорку – «Эхма, была бы денег тьма, купил бы баб деревеньку да и драл бы их помаленьку», – но ничего другого в нем, казалось, не было вовсе. Особенно невыносимо бывает присутствие таких людей в минуты тоски или треноги, когда жадно ищешь любого человеческого слова и готов благодарить за один понимающий взгляд – но Фунтов был в этом отношении совершенным кирпичом, лишенным эмоций с рождения. В школе он вечно дремал на задней парте, зато славился тем, что умел быстро и решительно откручивать головы голубям. Офицер он был никакой – вялый, безинициативный, но именно полное равнодушие к судьбе солдат делало его бесценным в глазах начальства. Фунтова ставили в пример на офицерских собраниях, на которых Здрок произносил свои часовые кастровские речи. Фунтов был никаким строевиком, ничего не смыслил в геополитической подготовке и вряд ли толком понимал, с кем и зачем воюет, – но в нем с некоторой даже избыточностью было представлено главное офицерское качество, а именно тупость; она настолько заполняла все его существо, что не оставляла места ни для чего другого, и за это Здрок любил его отеческой любовью, и даже Пауков сказал однажды, что Фунтов способный офицер.
– Вот вы в третий раз приезжаете, – лениво тянул он, – и что? Зачем вы приезжаете? Сын ваш, это самое, ваш сын присмотрен… Он подконтролен, это самое… Вы приезжаете, а другим обидно, к которым не приезжают. Он, это самое, не прослужил еще полгода, он имеет взыскания, он, это самое, еще не обсохло гражданское молоко на нем… Он не солки еще, а это самое, огурец… капуста… А вы приезжаете. И что вы приезжаете?
– Понимаете, – нервно говорила солдатская мать Горохова, искренне веря, что, если сейчас она найдет убедительные, единственно нужные слова, Фунтов сумеет облегчить положение ее сына. Нет, конечно, с фронта не отпустит, – военное время, ее и в часть-то пускали все неохотнее, требовалось включать все связи, звонить бывшему однокласснику, который отвечал все отрывистее, унижение, ужас, – но, может, хоть найдется какая-нибудь тихая должность, что-нибудь в штабе или в тылу, поближе к дому… Она не сомневалась, что у сидящего перед ней офицера должна быть душа – надо только до нее достучаться, но как это сделать, не понимала. Она приезжала в Баскаково в третий раз за четыре месяца, потому что сын изводил ее жалобами и просьбами, – но не могла ему помочь, а впереди был еще год и восемь месяцев этой пытки. За год, предшествовавший его призыву, и первые четыре месяца службы она состарилась на двадцать лет, и на лице ее установилось то вечно-жалкое, просительное выражение, которое сразу позволяет определить человека, махнувшего рукой на собственное достоинство. – Понимаете, он пишет, что у него флегмона… что он не может ходить, а его заставляют бегать…
– Они все пишут, что у них флегмона, – тянул Фунтов. – Никого не заставляют бегать, есть тапочки, все ходят в тапочках. Есть медпункт, в медпункте, это самое, все необходимое. Вы его не подготовили, это самое, служить, вот он и пишет. Если бы вы его подготовили, это самое, служить, он бы, это самое, не писал. Но вот он пишет, и вы едете, зачем вы едете?
– Он просил разрешить носки, – зачастила Горохова, – он не может, не умеет заматывать портянки, ну можно же, наверное, носки? Хотя бы на первое время…
– Портянка, это самое, – сказал Фунтов. – Портянка дает дышать ноге. Нога потеет, потная нога. В сапоге она гниет. Гниет в сапоге потная нога. Она гниет от пота, вы понимаете? И чтобы ей от пота не гнить, применяется сообразно устава портянка воинская суконная, также хабе, определенного образца. Она позволяет ноге дышать, и потом предки…
– Что предки? – в ужасе спросила солдатская мать.
– Предки наши, – вяло повторил Фунтов, по-бабьи пригорюнясь. – Наши предки воевали в портянках всегда. От слова порты, портянка. Еще Суворов: служи по уставу, заслужишь, честь и славу. Сталинградская битва в портянках, Курская в портянках. Нога не гниет, и можно что угодно.
Хоть маршировка, хоть это самое. Но надо уметь. Там хитрость в чем? Надо поставить стопу, ступню, на угол, потом и натянуть, чтобы не морщило, и быстро обернуть. Потом еще обернуть, чтобы облегала стопу, давала дышать потной стопе.
Тогда потом вот еще так подворачивается, – он лениво показал в воздухе, как именно, оборачивая при помощи одной короткопалой руки другую, будто солдатской матери Гороховой прямо сейчас, в ротной канцелярии, предстояло обернуть свои стопы портянками и направить их на физподготовку.
И это, и все. Тут делов на пятнадцать секунд по нормативу Потопать еще для уплотнения. Носок не дает дышать ноге, она гниет в нем, начинаются нарывчики и это… (Сам Фунтов в училище ходил в носках, получал за это наряды, но толком наматывать портянку так и не научился.) Портянка русский солдат, это такое русское наше изобретение. Если русский солдат, то портянка. Это знают все, Европа знает, Австралия. – Он помедлил, вспоминая, что еще есть – Африка знает.
– Но понимаете, – все безнадежнее повторяла Горохова, – он не может… Это не всем дано… Он не может бегать. Он хорошо пишет, каллиграфически… Может быть, вы подбеpeтe ему должность какую-то, я не военная женщина, я не знаю, какие у вас есть должности… Может быть, что-то с биохимией, он биолог, со второго курса…
– Я говорю вам, – пресно сказал Фунтов, – он на общих основаниях должен. Какая у нас, это самое, биология? Отслужит на общих основаниях, и будет биология. У нас тоже народ умный, студенты, у нас один прапорщик такие, это самое, знает слова, что ваш сын наверняка таких не слышал. Современная армия, это самое. Дружная семья, солдаты вместе кушают, вместе спят… А что флегмона, то у них у всех флегмона. Когда зарядка, то флегмона, а как в чипок, то у них просто хоть танцы танцуй. Как, это самое, Маресьев.
– Что такое чипок? – оцепенело спросила солдатская мать Горохова.
– Чипок, солдатская чайная, – пояснил Фунтов, – так называется, чипок. Чпок. Там культурно, пряники, сахару купить если когда… Мы же не против, это самое. Но прежде чипка надо же, это самое, родину – так? Надо родине служить. Ты побегай утром на свежем воздухе, и тогда и чипок тебе, и вечерняя прогулка. А если мать все время, это самое, приезжает с каструлями, то какой ты будешь солдат? В военное тем более время.
Услышав о военном времени, Горохова вышла из оцепенения и потеряла всякую власть над собою.
– Военное время! – закричала она. – У вас солдат из автомата выстрелить не может в военное время! Мне сын рассказывал, что служит уже четыре месяца, а на стрельбище был один раз! У вас солдаты картошку чистят в военное время, и в роте моют пол, и бегают по кругу, пока ноги не сотрут до кости! Вы все говорите, что мы плохо подготовили наших сыновей, а вы кого готовите?! Вы четвертый год воюете, что вы навоевали?! И не надо нам тыкать, что мы плохо подготовили! У моей соседки мальчик был разрядник, его на второй месяц убили! Вам не надо, чтобы хорошо готовили! Вам надо быдло бессловесное, куда послали, туда пошел!
В эту секунду солдатская мать поняла, что окончательно лишила своего сына шансов на перевод в штаб или на другую халявную работу, потому что совершила неположенное, невозможное – подняла голос на офицера. Она сползла со стула, встала на колени и принялась стучать лбом в пол ротной канцелярии.
– Простите меня, я вас умоляю, – завыла она. – Я вас умоляю, простите. Отец болен, не встает, мой муж, его отец! Я все что хотите, что скажете, как скажете… Простите, ради бога, я больше не могу…
– Женщина, – не пошевелившись, тянул Фунтов. – Мать Горохова! Встаньте, это самое, что вы! Вы как это… как у себя дома. Это военное место. Что вы говорите, отец не встает, – у всех не встает, вам тут любой такого наговорит… Что вы, это самое, как будто здесь вам цирк… Здесь не цирк, а канцелярия боевой роты… Давайте, это самое…
– Я никуда не уйду, – пролепетала мать Горохова. – Я что хотите буду, я сапоги вам буду чистить. Я любые деньги… Я умоляю вас, я никуда…
– Дневальный! – крикнул Фунтов. Вошел дневальный, толстый солдат Дудукин, с лица которого не сходило выражение тупого счастья. Дудукин считался образцовым солдатом, невзирая на толщину. Он плохо бегал, но его часто ставили в наряды, – он обожал мыть полы, ловко выжимал тряпку и вообще по-женски легко справлялся с непрерывным наведением порядка. Постричь кого-нибудь, побрить сзади шею, вырезать ножичком мужика с медведем Дудукин тоже был мастер.
– Тыщ-капитан, дневальный Дудукин по вашему приказанию прибыл! – рявкнул он с наслаждением.
– Это самое, – сказал Фунтов. – Поднимите мать, и это. Препроводите там. Воды дайте. На тумбочке оставите отдыхающую смену. И нечего. Скоро вообще будет не канцелярия роты, а бардак номер четырнадцать.
Почему номер четырнадцать, никто не знал. Такая у капитана Фунтова была народная поговорка.
Солдатской матери Гороховой стало невыносимо страшно. Она впервые в жизни поняла, что внутри у этого человека нет совсем ничего и именно поэтому он командовал ее сыном. Она поняла, как жутко должно быть ее сыну, окруженному этой совершенно нечеловеческой массой, кушающей вместе, спящей вместе, наматывающей портянки. Также должна была чувствовать себя муха, убедившаяся, что к мушиным чувствам липучки взывать бесполезно. Надо было убивать, если помучится, но солдатскую мать Горохову никто не учил убивать. Оставался единственный выход – дать сыну превратиться и такую же биомассу, потому что выжить иначе было нельзя. Солдатская мать, шатаясь, вышла из ротной канцелярии. Приезжать сюда больше было незачем.









































