Текст книги "ЖД"
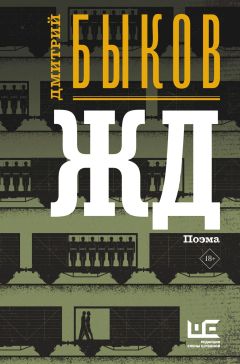
Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
1
Генерал-майор Пауков был горд, что у них с его кумиром родственные фамилии. Сходство по признаку насекомости казалось ему ничуть не забавным и даже символическим. В разнице же фамилий сказывалась новая тактика современной войны: великий предшественник, как жук, катил на сияющую вершину победы навозный шар солдатской массы, – генерал Пауков, как паук, сплетал и раскидывал по стране хитрую паутину коммуникаций и ловил врага в сети неисследимых дозоров. Нынешний враг был коварен, и весь он был внутренний. Внешний давно не совался в это заколдованное пространство, опасаясь, должно быть, паутины. Внутреннего врага следовало вычленять, окружать, оплетать, караулить, обездвиживать и размозжать. Так формулировались шесть пауковских пунктов – главных правил, сформулированных им в новом боевом уставе. Сейчас они с Плоскорыловым доводили этот устав до ума.
Двадцатисемилетний, пухлый, одышливый капитан-иерей Плоскорылов был, с точки зрения Паукова, идеальный политрук. Он понимал священное – или, как он любил говорить, сакральное – значение каждой буквы в уставе. То, что могло неармейскому человеку показаться бессмыслицей, на самом деле бессмыслицей и было, но эта великая тайна не для всех. Могучую системообразующую силу бессмыслицы – ибо все смыслы могут когда-нибудь оказаться неверны, бессмыслица же никогда, – понимали по-настоящему только военные люди, и Плоскорылов был, несомненно, военная косточка при всем своем штатском виде, ласковом голосе и патологической неспособности к стрельбе. Дед его был штабист, прадед – белый генерал, перешедший на сторону красных. Генерал благополучно пережил террор и погиб на охоте, от клыков кабана – «идеальная офицерская смерть», говорил Плоскорылов. Он считал неприличной гибель в бою: генералов не убивают. Кроме того, Плоскорылов знал Философию Общего Дела. Эта высшая штабная дисциплина, преподававшаяся только на богословском факультете военной академии, была Паукову недоступна, но Плоскорылов уверял, что генерал-майор постигает ее интуитивно. Все распоряжения Паукова столь явно служили Общему Делу, что Плоскорылов, попросившийся к нему в штаб после выпуска, теперь постоянно благословлял свою дальновидность. Несомненно, в армии был сегодня только один блестящий русский генерал, и этот генерал был Пауков.
Пауков был блестящ, о, блестящ. Сладостен был запах «Шипра», исходивший от него; квадратный, топорно топорщащийся, это самое, китель нескладно облегал его скособоченную, словно обрубленную фигуру. Пауков говорил резко, отрывисто, команды подавал с такой яростью, словно от рождения ненавидел всех своих офицеров и солдат, – в этом смысле он был истинный варяг, природный северянин, чья генеральная цель не столько захват земель или обращение в бегство противника, сколько максимально эффективное истребление собственных войск. Плоскорылов, будучи младше комдива двадцатью годами и лишь недавно получив капитан-иерейские звездочки, чувствовал даже некоторую неловкость от того, что знал больше. Но Пауков, казалось, догадывается обо всем – даже и о том, чего сам Плоскорылов на своей шестой ступени еще не постиг.
Седьмая ступень окончательного посвящения считалась в армии большой редкостью. Она и на высших этажах государственной службы была не у всех. Коротко знаком Плоскорылов был только с одним ее носителем – военным инспектором Гуровым, нет-нет да и посещавшим штаб тридцатой дивизии с личной проверкой. Гуров явно выделял Плоскорылова, был с ним откровенен и при встречах цаловался. Как все тевтонцы седьмой ступени, инспектор был наголо брит, носил очки, френч и отпустил небольшую клочкообразную бородку. Плоскорылов уже предвкушал, как сам заведет такую же, – пока, в капитан-иерейском звании и на шестой ступени, борода ему не полагалась. Гуров обещал устроить ему инициацию в начале августа, и Плоскорылов думал об этом дне с радостной детской тревогой. Он не знал, в чем заключалась инициация, но ждал чуда. Ему представлялось, что весь мир хлынет в его распахнутую грудь и одарит своими тайнами, которые после раскрытия не покажутся простыми и бедными, о нет! – а лишь яснее выявят свою звездоносную мистическую глубину. Иглы мирового льда представлялись ему; острые кристаллические грани; полярное сверкание, скрежет и хруст, фиолетовая бертолетова соль. Далеко, на истинном полюсе, куда сходились силовые линии мировых судеб, воздев к черному небесному бархату лопаты ладоней, застыл Верховный Жрец, отец народов Севера, звездный тевтон с картины Константина Васильева; покорить ему моря и земли, сложить к его ногам пестрые флаги мира, заменив их одним, черно-голубым, доложить ему о Конце Концов, с которого начнется новая эпоха титанов… о, Плоскорылов знал, что доживет до этого черно-голубого дня.
Пока же политрук тридцатой дивизии читал офицерам лекции, в которых осторожно намекал – не проговариваясь, конечно, прямым текстом – на истинную цель войны и сверхзадачу армии; тех, кто догадается, следовало выделить и незаметно продвинуть в академию. Увы, истинных варягов было в армии немного. И не то чтобы всех перебили в первые три года войны – варяги были не дураки бросаться в гущу боя. Элита не гибнет, она не вправе отступать от высшего долга – командовать жалким, не понимающим своего назначения мясом. Даже и в критической ситуации офицер обязан был первым делом думать о спасении собственной жизни, а уж потом – о своих людях; людей много, офицер один. В этой формуле – тайном варяжском девизе «Вас много, я Один» – отражалось классическое соотношение оккупационных войск и коренного населения; правильное ударение в имени верховного божества было, конечно, на втором слоге, – не зря с этого имени начинался варяжский счет. Бог наш Один, он же Велес, и другого не дано; «велик Один наш бог, угрюмо море». Собственно, в классическом языке древних россов было всего два числа – Один и Много, то есть вождь и остальные. Варяг, рожденный повелевать массой, попросту не имел морального права рисковать собой. На лекциях перед офицерским составом изобретательный Плоскорылов пояснял это так: «Представьте себе, что мать с ребенком крадется ночью через лес, полный опасностей. Напали волки. Что делать? В идейно сомнительном рассказе для детей, выдержанном в антирусской гуманистической традиции, мать отдается на съедение волку, а ребенка заставляет бежать к людям через лес, полный опасностей. Разумеется, ребенок, оставшись без надзора, немедленно погибнет в лесу, полном опасностей, а если даже и спасется.
Но неизвестно, кем еще вырастет без матери. Тогда как отдав на съедение волкам ребенка, сама мать еще могла бы спастись в лесу, полном опасностей, и впоследствии послужить Родине. Так и офицер, как истинная мать, не имеет права оставлять солдата одного в полном опасностей мире, а должен прежде всего озаботиться собственным спасением, чтобы сохранить в неприкосновенности офицерский корпус. Подумайте, сколько сил потратило государство на воспитание истинного офицера и каким возмутительным разбазариванием средств была бы ненужная самоотверженность, навязанная нам хазарскими извращениями христианства!» О том, что христианство – вообще подлая хазарская выдумка, запущенная в мир для его погубления, говорить пока не следовало: даже на богословском факультете это сообщали только на третьем курсе.
Нет, причина падения боевого духа была не в том, что варягов убивали. Во всех войнах, которые вела Россия, популяция северян оставалась почти нетронутой: варяг как истинный воин Одина мог погибнуть на пирушке, на охоте, на бабе, как славный генерал Скобелев, – но умереть в бою было бы для него еще постыднее, чем околеть за плугом или, не приведи Один, шитьем. Увы, слишком долго и безответственно сходились воины Севера с дряблым коренным населением; податливость и безволие, проникли в кровь северян. Все вырождалось. Актуализация древнего зова удавалась не всегда. Обычно нацию очищали и обновляли войны, но эта новая война радикально отличалась от предыдущих. Офицеры не только с трудом, чуть ли не пинками поднимали солдат в бой, но и сами шли в атаку без особой охоты. Плоскорылов, наблюдая за боевыми действиями с почтительного расстояния через стереотрубу, приходил в отчаяние. Не самому же политруку с высшим военно-богословским образованием хвататься за оружие! Все попытки поднять боевой дух войска регулярными расстрелами перед строем заканчивались ничем. В первый год войны Плоскорылов мог собой гордиться – от рук его расстрельной команды пало в полтора раза больше народу, чем государственники потеряли в столкновениях с хазарами и горцами. Наглые ЖД в разлагающих листовках кричали о чудовищных фактах – солдаты русской армии гибли главным образом от рук соплеменников; Плоскорылов лишь усмехался – знали бы они истинные цифры! Женственный Юг, ценивший комфорт и уют, дрожавший за жалкую человеческую жизнь, – как мог он воевать с титанической варяжской армией, для которой физическое бытие солдата было не дороже ячменного колоса! Но в последний год осуществлять варяжскую стратегию было затруднительно – солдат не хватало даже на кухонный наряд. Расстрелы приходилось производить лишь по праздникам, в дни особенно почитаемых святых, – и боевой дух войска неуклонно падал. Армия была не та, и с каждым днем становилась все более не той. Только Пауков воплями и разносами мог еще внушить войскам священный ужас, но и он в последнее время как будто был не прежний.
2
Генерал-майор Пауков и точно был не прежний, хотя порывался еще сохранить обычаи и манеры блестящего офицера в лучших традициях варяжского генштаба. Утром девятнадцатого июля он встал по обыкновению в половине седьмого, приказал окатить себя ледяной водой из баскаковского колодца, сделал легкую гимнастику по офицерскому руководству, приложение пять, – двадцать наклонов влево, двадцать вправо, «ласточка», «крылышки», пятнадцать приседаний, – побрился тупой бритвой «Нева», обрызгался «Шипром», облачился в отутюженную ординарцем форму и направился с обычным утренним визитом к актрисе Гуслятниковой.
Сорокалетняя толстеющая Гуслятникова сохраняла еще следы былой красоты. Она оказалась в Баскакове с актерской бригадой. Пока на фронтах была передышка, в штаб тридцатой дивизии постоянно наезжали столичные гости в рамках программы политического воспитания войск. Сначала нагрянул «Аншлаг», распотешивший солдатню до звонкого солдатского пуканья; особо знатно изображали ЖДов – жирных, с портфелями. Потом писатели – тоже целая бригада, прикомандированная отчего-то именно к Паукову; позже на него свалились гастроли Нижегородского театра Русской Армии. Это получалась уже не служба, а одно бесконечное культмассовое мероприятие; может, им еще и бордель из Москвы привезти? И так не осталось во всех окрестных деревнях девки неотжаренной; и так подворотничков не меняли по три дня, забыли солдатскую гигиену, ходят в чирьях, – нет, им прислали театр с обязательным предписанием смотреть спектакли и все это время кормить артистов. Артисты приехали в самом деле голодные – в Нижнем, как и в прочей провинции, театры давно позакрывались за ненадобностью, единственный шанс выжить во время войны был именно давать концерты в войсках; но и концерты у них были, прямо сказать, псивые, не то что «Аншлаг». Одно название что театр. Сначала читали какие-то басни, изображали медведя и лису, потом показали солдатам отрывок из сказки «Колобок», с переделанным про ЖДов текстом, потом разыграли целое действие из пьесы «Солдатская мать» – про дезертира, который сбежал под мамкину юбку, а мамка его заложила военкому и закатала обратно на фронт. Пьеса была хороша в политико-воспитательном отношении, особенно выразительна была солдатская мать – тугая, сочная женщина. У солдат, однако, это вызвало нездоровые реакции – среди рядового состава многие неприлично громко обсуждали, что хотели бы иметь такую мать и показали бы ей много интересного, так что в целом пьеса не вызвала нужных эмоций. Артисты отыграли три концерта и должны были свалить, но захотели остаться – в Нижнем, говорили они, давно жрать нечего, а тут все-таки войсковое довольствие. Особенно нагло вел себя нерадивый сын солдатской матери, он же постановщик пьесы – уминал, сволочь, тушенку так, что ряха трескалась; Пауков побежал к политруку, тот запросил Москву – но Москва подтвердила, что артистов надо принимать, иначе сорвется план воспитательной работы. Артисты харчились у них еще неделю, переиграв весь классический репертуар. На прощание – от радости, что свалят наконец, – Пауков приказал всем выдать по стакану спирта и сам выпил, а выпив – принялся почему-то гусарить. Стыдно вспомнить. Блестящий русский офицер. Пил спирт из туфельки (не очень чистой, тридцать девятого размера). Чуть не задохся от натуги, поднимая на руки солдатскую мать Гуслятникову, и даже стал перед нею на одно колено, а уж каблуками щелкал так, что сбил набойки к чертовой бабушке. Сулил поставить на все виды удовольствия. Читал стихи – сначала из «Офицерского письмовника» («Жасмин хорошенький цветочек, он пахнет очень хорошо»), потом, по просьбе артистов, из «Офицерской азбуки»: «Давид играл на арфе звучно, дрочить в сортире очень скучно». Распустил хвост, показал настоящий армейский шик – было бы перед кем метать бисер! В ту же ночь Гуслятникова ему отдалась, а когда все уехали – осталась.
Паукову поначалу льстило, что настоящая артистка, хоть и из Нижнего Новгорода, будет жить теперь при нем в расположении его штаба – и у него, вот уже три года как оторванного от родной семьи, толстой жены и двух уродливых дочерей, будет своя полевая спутница, как и положено на настоящей войне. Он что-то читал подобное. Гуслятникова вызвалась каждый день декламировать стихи по деревням, где были расквартированы солдаты из его дивизии, – и в самом деле, надев единственное концертное бархатное платье, терзая потный платочек, читала солдатам по вечерам, вместо телепросмотра информационной программы:
Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города…
Солдаты уже не решались отпускать шутки про то, как она лежит и как бы хорошо ей всунуть пушечку куда-нибудь в Кушечку, потому что Гуслятникова была теперь уже не приезжая артистка и не солдатская мать, но полевая жена генерала Паукова, отнюдь не любившего шутить. Программа «Время», конечно, была бы интересней. Все-таки краешком глаза посмотреть на гражданскую жизнь – тетки в летнем, мороженое… За месяц актриса успела не по одному разу выступить во всех деревнях вокруг Баскакова. В услужение ей Пауков назначил солдатика – по рекомендации собственного ординарца, который обрадовался случаю пристроить земляка. Первую половину дня Гуслятникова проводила в избе, томно нежась, ежась, красясь, жалуясь на судьбу то хозяйке, к которой ее определили на постой, то денщику Тулину. Пауков уже две недели как не ночевал у нее – при трезвом рассмотрении солдатская мать оказалась толстой, неловкой и совершенно ненасытной. Паукову в сорок восемь лет было трудно удовлетворять ее прихоти, поэтому он навещал ее лишь иногда. Сначала это казалось Гуслятниковой проявлением особого армейского шика, потом насторожило и даже обидело. Теперь, после двух недель раздельного проживания, она говорила с ним низким, грудным голосом, с многозначительно-трагическими интонациями, выкатывая коровьи сливовые глаза, – словно он ее соблазнил и бросил. Паукову страшно хотелось послать актрису куда подальше, но блестящий русский офицер не мог кричать на женщину и отказывать ей в приюте.
Утром девятнадцатого Пауков зашел к ней, как всегда, – деликатно постучавшись согнутым пальцем.
– Ах, минутку, я не одета, – простонало из горницы. Пауков пять минут прождал у двери.
– Что она там, химзащиту надевает, что ли, – буркнул он про себя и постучал снова.
– Да, войдите, – ответила Гуслятникова, чем-то шурша. Пауков вошел. Гуслятникова в пестром халате китайского шелку в изысканной позе лежала на широкой деревенской кровати, среди живописно разбросанного тряпья. Неряшливость ее была чудовищна.
– Здравствуйте, генерал, – томно произнесла она. Несмотря на ранний час, на лице ее Пауков обнаружил сизоватый слой грима. – Я польщена вашим посещением. В последнее время вы меня нечасто балуете. Все дела службы?
– Война, – сурово сказал генерал. – Война – наша работа, Катерина Николаевна, и требует всечасного напряжения всех сил.
– Да, да, и не говорите… Но когда же, по-вашему, кончится эта ужасная война?
– Этого я, как человек военный, не могу знать и разглашать, – ответил Пауков. – Военный человек, хотя бы даже и имея секретное сведение, не может его разглашать никому. Дата окончания войны, она же время «Щ», не может быть разглашаема ни при каких обстоятельствах, равно как и численность, снаряжение и наименование вероятного противника, а также и самое его наличие.
Пауков не мог упустить случая блеснуть перед штатским существом формулировкой из своего проекта.
– Я так боюсь за вас, – протянула актриса.
– Что же делать, это так положено. Но русской актрисе не следует бояться за русского генерала. Я при первой встрече особенно оценил вашу выправку, – подпустил генерал обязательного ежеутреннего комплимента.
– В русском классическом театре это называют статью, – кивнула Гуслятникова.
– Да, да. Классическая женская выправка. Вы не должны поддаваться бабьим страхам. Всем этим, знаете, истерикам. Мы солдаты, и если нужно, то не раздумывая и грудью. И так же вы. Это такое наше русское дело.
Повисла пауза. Набор офицерских комплиментов был высказан, почтение к русскому классическому театру продемонстрировано. Паукову пора было идти к войскам, но Гуслятникова продолжала пялиться на него многозначительным, влажным и не отпускающим взором.
– Но хотя бы где противник, вы можете сказать? Предвидятся ли атаки? Я страшно боюсь стрельбы… Вы должны будете предупредить меня загодя. Ваше общество мне дорого, – она многозначительно потупилась, – и я успела полюбить ваших солдат…
– Солдат есть… да… да, – сказал Пауков. – Солдат есть да, инструмент любви к Отечеству. Тонкие энергии и все это. Возвышенное чувство проницает и направляет, и торсионные поля… – Упомянув торсионные поля, он окончательно исчерпал свой светский репертуар. – Мы ценим ваше мужество, Катерина Николаевна, – сказал он, как должен был в его представлении говорить блестящий офицер: отрывисто, лающе, с ледяной вежливостью рьяного служаки. – Но рекомендую вам в самое ближайшее время покинуть расположение штаба, потому что война есть непредсказуемое занятие, в котором каждый из нас не может сегодня знать того, что надо было делать вчера.
Это тоже была славная армейская мудрость, которую он намеревался со временем обнародовать в записках.
– Вы только и можете повторять одно, – сморщившись, брюзгливо заговорила Гуслятникова. – Можно подумать, что ВЫ мной тяготитесь.
– Никак нет, этого не может быть ни при каком угле рассмотрения, – выдавливал из себя Пауков последние запасы воинского красноречия. – Как не может цветок тяготиться пчелкою, так не может старый солдат тяготиться присутствием прекрасной половины человечества, пышным букетом украшающей этот ломящийся от яств стол… (Пауков сам не заметил, как перешел на классический офицерский тост: пока офицер в силах был произнести эту фразу, полную хитрых шипящих согласных, он считался еще не пьяным.)
– А между тем ради вас я оставила любимого человека, да! – не останавливалась Гуслятникова. – Святой человек, беззаветный служитель искусства. Вы говорили, что истинный ценитель женщины – только офицер. Теперь я вижу, как вы меня цените! Вы обещали мне заботу и внимание. Но вас я почти не вижу, и все это вы мотивируете делами службы! Какие могут быть дела службы в перерыве между военными действиями! Вы наверняка пьянствуете где-то со своими подчиненными и с нетребовательными местными девками, а женщина культурная вам уже не под силу, ибо в ее присутствии вы ощущаете себя бурбоном! Да, да, бурбоном! Я целыми днями заперта в грязной избе, со мной только этот тупой Тулин, мы не развлекаемся, у нас нет балов! Вы не можете обеспечить даже, чтобы солдаты хорошо слушали, когда я им читаю! Я несу им свою душу, а они в задних рядах подшиваются! Я не понимаю, почему, в конце концов… Я вправе требовать…
– Молчать! – заорал Пауков, багровея. – Мне, боевому генералу! Сука! Блядь! Встать! Сесть! Я покажу тебе «раскинув города», старая пердунья! – И, запустив в Гуслятникову ведром, выскочил на улицу.
В это же самое время Плоскорылов читал первую утреннюю лекцию офицерам дивизионного штаба. Пока рядовые под наблюдением сержантов занимались уже третьим за утро подметанием дворов и выравниванием плетней по бечеве, офицеры собирались на занятия по геополитической подготовке.
Плоскорылов с детства любил варяжский воинский дух, офицерскую прямоту стана, презрение к работе, отношение к солдату как к неодушевленному предмету – ибо если видеть в нем одушевленный, перестает срабатывать норманнская концепция великой жатвы. Сама мысль о наемной армии была в плоскорыловской среде невыносима: она оскорбляла воинскую идею. Единственная думка солдата должна быть не о семье, не о денежном довольствии и даже не о Родине, но исключительно о посмертной славе – каковую славу и призван был обеспечивать Плоскорылов; тут бы он не подкачал. Плоскорылов обожал мертвого солдата. Только мертвый солдат, установленный на площади в виде памятника, назидательно поминаемый во время молебствий, торжественно называемый Неизвестным, – был абсолютным воплощением норманнского духа, ибо утрачивал личность, на войне излишнюю. Личностью мог обладать командир, она наличествовала у политрука и являлась важным компонентом смершевца, – но личность солдата упразднялась идеей варяжской доблести. Единственное устремление маленькой, некрасивой воинской единицы в серой шинели, с неумело замотанными портянками (Плоскорылову отчего-то именно таким, слегка трогательным, представлялся типичный рядовой) должно было направляться к гибели, возможно более скорой; не героическими деяниями и не совершенно излишней в воинском деле смекалкой (какая может быть смекалка, если есть твердо поставленный приказ!), но исключительно живой солдатской массой можно было одолеть любого врага, решая тем самым обе генеральные задачи: порабощение противника и сокращение собственного войска. Дорогу к победе следовало мостить телами – это понимали немногие избранные военачальники. Кумир Паукова и сам Пауков были из их числа. Всякое дело прочно лишь постольку, поскольку под ним струится кровь – разумеется, не драгоценная кровь элитного варяжства (Плоскорылов вел род от личного сокольничего Рюриковых сыновей), а черная кровь земли, нефть войны, щедро отжимаемый сок рядовых. Солдат, солдат – есть тот же виноград; не жать из него сока – не будет и прока, гласила армейская мудрость из сборника речений преподобного Евстахия Дальневосточного, архиполковника ДальВО. Из ДальВО редко кто возвращался живым даже и в мирное время.
К сожалению, довести население до идеальной численности не удавалось никак: оно всякий раз умудрялось быстро восстановиться, и Плоскорылову виделся в этом несомненный пережиток варварства. После очередной чистки в стране становилось легче дышать – в юности, готовясь в историки, он с особенным наслаждением перечитывал источники, относящиеся ко временам таких разрядок; но как же быстро все засорялось! Как скоро опять начинали кишеть по углам какие-то дети, ныть – какие-то старики; как быстро жизнь плебса входила в колею, отторгая великие воинские добродетели! Элита, призванная направлять и благословлять, растворялась в слепой, шевелящейся, жаждущей зрелищ и размножения людской массе; в этом разложившемся, гнилостном субстрате вовсю хозяйничали невыводимые хазары, и приходилось вновь и вновь изыскивать поводы для великого похода. Чем дольше был мирный промежуток, тем неохотнее мобилизовывалось население; ЖДы за деньги готовы были предоставить любую справку о нездоровье (меж тем как сами воевали все отчаяннее) – короче, война назрела; не совсем, правда, ясно было, как объяснить ее необходимость обычным офицерам, академий не кончавшим и вообще по большей части получившим военное образование на спецкафедрах гражданских институтов, где не умели внушить правильного мировоззрения. Плоскорылов так и эдак подбирался к сути, намекал – но всякий раз пасовал перед откровенной скукой на лицах слушателей, а рассказать всю правду не мог. Даже о варяжской оккупации сообщалось только на пятой ступени – до нее все обучавшиеся искренне считали русских коренным населением.
Несмотря на все эти трудности, Плоскорылов любил читать лекции. Он чувствовал себя отцом всех этих людей – и даже немного матерью. Как известно, любой мыслитель предпочитает выстраивать то мироздание, в котором ему, с его комплекцией и темпераментом, наиболее комфортно; Плоскорылов рожден был благословлять идущих на смерть.
Он любил мертвых нежной, тонкой любовью; ему было среди них отлично. Они не могли ему возразить и не скучали, слушая его. Ему особенно удавались проникновенные, несколько бабьи интонации; его голосом могла бы говорить Родина-мать с известного плаката, неумолчно зовущая в могилу вот уже которое поколение бессовестно расплодившихся сыновей. Призывая отважно погибнуть во имя Русского Дела, Плоскорылов уже немного и оплакивал погибших, которые пока еще в живом, несовершенном виде сидели перед ним в душной избе, переоборудованной им в Русскую Комнату. Он немедленно вывесил в ней портреты Леонтьева, Шпенглера, Вейнингера, Меньшикова, Ницше и других милых его сердцу истинных норманнов, а на доске, экспроприированной в сельской школе, давно пустовавшей и наполовину развалившейся, рисовал геополитическую схему борьбы Севера с Югом.
Предметом нынешней его лекции была очередная годовщина великого танкового сражения. Излагать норманнскую концепцию последней войны надо было осторожно – даже среди офицеров не все правильно понимали подлинные задачи воевавших сторон и глубокую единоприродность норманнского духа, управлявшего обеими армиями. Плоскорылов лишь намекал на подлую роль Англии, которая в последний момент поссорила двух титанов, подписавших пакт о вечной любви. На стороне Англии активно действовали ЖДы, отлично понимавшие, что после воссоединения арийских сущностей им окончательно не жить. К этой лекции Плоскорылов готовился особенно тщательно, подбирая такие слова, чтобы думающее офицерство поняло, а обычное ничего не заметило.
– Господа офицеры! – крикнул дежурный по Русской Комнате, прапорщик Крутлов. Все встали. Плоскорылов в длинной рясе с золотым аксельбантом протянул дежурному полную влажную руку для поцелуя и милостивым кивком благословил собравшихся. По сердцу его прошла теплая волна. Было необыкновенно приятно, хотя и чрезвычайно ответственно, в двадцатисемилетнем возрасте уже пасти народы; не зря на богословский факультет Военной академии Генштаба конкурс был до двадцати человек на место.
– Дорогие собратья, сегодня мне хотелось бы побеседовать об идее Севера, – начал он уютным богословским распевом. – Долгие годы хазарские историки-наймиты отвлекали наше внимание от главного противостояния – борьбы Севера с Югом, навязывая русскому сознанию искусственную борьбу Востока с Западом. Восток и Запад якобы сошлись и в последней великой войне, в этой битве народов, о которой и поныне благоговейно помнят правнуки победителей. Между тем это было не противостояние мифических западников со столь же мифическим Востоком, а смертельное объятие двух могучих титанов Севера, великих братьев, которым стало тесно в одном мире. Глубокая единоприродность связывала борющихся, русский дух преградил путь могучему немецкому, – так сталкиваются в небе две тучи, производя гром и блистание и заставляя потрясенных зрителей дивиться силе Божией. Русский брат прильнул к устам тевтонского смертельным поцелуем – и мускулистый титан задохнулся в стальном объятии. Плодами победы пытались воспользоваться враги обоих режимов, и прежде всего мировое хазарство, поднявшее голову, – но дальновидным решением русского вождя хазарам была отведена отдаленная резервация, и русско-тевтонское дело продолжилось на сорок лет. За эти сорок лет было достигнуто многое – осуществился космический полет, человек шагнул в ледяную благодать Космоса, – однако хазарский реванш остановил триумфальное движение русской судьбы. Сегодня мировой Юг снова тщится отнять у человечества понятие ценностей, подменив все ценности примитивной, растительной жаждой жизни, он растлевает и разлагает миллионы, и прежде всего метит в нас – в последний оплот мирового духа. История делается сегодня здесь, в дегунинском котле, где Север и Юг сошлись лицом к лицу. Дегунино – геополитическое сердце Евразии, и тот, кому оно будет принадлежать, получит власть над миром…
Так он говорил еще минут примерно двадцать, зная, что последние десять лучше всегда оставлять на вопросы. Офицеры проявляли удивительную изобретательность в придумывании вопросов. Если вопросов не возникало, Плоскорылов ябедничал в штабе, и тогда все участники политзанятий получали взыскания за незаинтересованность – прощай отпуск.
– Господин капитан-иерей, – спросил капитан Селиванов, – а как с точки зрения борьбы Севера и Юга закончился конфликт ислама и Соединенных Штатов? А то, знаете, солдатики интересуются, кто все-таки победил…
– Солдатикам, – посуровел Плоскорылов, – следовало бы больше интересоваться строевой подготовкой как основой воинской дисциплины в русском духе. Но если вы позволяете солдатам задавать общеполитические вопросы, рекомендую отвечать кратко: читай устав, в нем есть все. Согласитесь, господин капитан, что при вдумчивом чтении устава в нем можно найти исчерпывающий ответ на любые вопросы, от бытовых до богословских. Сошлитесь, например, на параграф пятнадцатый строевого завета от Паисия Закавказского: «Аще же кто усомнится в своей воинской мощи, убояся вероятного противника, тому позор и поругание перед лицом товарищей и три наряда на службу».
Селиванов испуганно умолк. На самом деле у Плоскорылова не было ответа на каверзный вопрос. Ислам был наш форпост на юге, друг и партнер, терпящий бедствие, но не признаваться же в этом публично! С тех самых пор, как был открыт флогистон и перестала что-либо значить черная кровь земли, у ислама не было никаких шансов противостоять Каганату и насквозь прохазаренным Штатам. Полная изоляция России от прочего мира, позволившая ей наконец без помех разыгрывать свою торжественную мистерию, происходила единственно оттого, что она оказалась в числе государств, не имевших флогистона. Непонятно, как в стране, столь богато оделенной от Господа лесами, реками, нефтью, юфтью, финифтью, пенькой и ворванью, не нашлось пустякового газа, которого никто никогда не видел и на котором таинственно держалась теперь вся мировая промышленность. На флогистоне ездили автомобили, бездымно работали фабрики, делались бешеные деньги – а Россия по-прежнему ездила на бензине, которого у нее теперь хоть залейся, ибо нефти никто не покупал. Запасы флогистона обнаружились везде – в Штатах, в Африке и даже в Антарктиде; в хазарском Каганате его было столько, что в стране не осталось участка земли без скважины, – не было его только на исламском Востоке и на всей российской территории, строго по фанице; оскорбительное издевательство природы начиналось немедленно за российскими пределами, в презренной Польше. Из-за проклятого газа прекратилась столь перспективная было война на Ближнем Востоке, где Штаты увязли накрепко; ислам из мировой религии сделался чем-то провинциальным и почти вегетарианским. Честно сказать, Плоскорылов ненавидел флогистон. Он не до конца в него верил. Это явно было подлое хазарское изобретение, и конспирологическая теория выходила на диво стройной; оставалось понять, как на этой грандиозной ЖДовской лжи крутятся моторы.









































