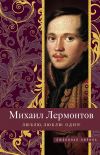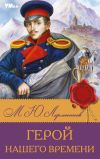Текст книги "О поэтах и поэзии"

Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Брюсов был вечным примером, укором, уроком, вечным авторитетом и оппонентом для Гумилева и Маяковского, и для Блока, конечно; все они к нему тянулись, все жаждали его одобрения – и все от него отталкивались, потому что сколько можно жить самодисциплиной, властью, насилием? Но все они, хоть и по-разному, приходили к тому же самому: не потому, что садомазохизм – общая участь, нет, конечно. Но потому, что у поэта один способ уцелеть в соблазнах мира – вот это одинокое рыцарство, труд, аскеза.
Особенную ярость у современников – Маяковский даже откликнулся несправедливой эпиграммой – вызвала брюсовская попытка закончить «Египетские ночи» Пушкина. Это эксперимент, не претендующий ни на какое равенство с Пушкиным, ни на какое соперничество; это чутье поэта, уловившего у Пушкина свою тему, то же соседство любви и смерти, страсти и казни; и мне представляется, что это главное свершение Брюсова-поэта, потому что это прекрасно додуманный сюжет и очень хорошие стихи, с великолепной концовкой, в которой Клеопатра, предавшая смерти трех своих любовников, сама предстает жертвой приближающегося к ней Антония. Так всегда бывает. Просто Маяковский узнал в этой ситуации свою собственную, услышал намек на Лилю с ее любовниками – своевольную Лилю, которая жонглировала сердцами, а сама пасовала перед собственным мужем, не в силах добиться от него взаимной страсти; так что его озлобление тут диктуется желанием защитить вовсе не Пушкина, а скорее собственные постыдные тайны. Иначе никак не понять, почему человек, призывавший бросить Пушкина с корабля современности, так пылко вступается за него год спустя, защищая – от кого же? – от ведущего пушкиниста, автора лучшей на тот момент – боюсь, и на сегодняшний – статьи о «Медном всаднике».
3
Правда, слова «Где же мы? На страстном ложе иль на смертном колесе?» свидетельствуют вовсе не об анонимности и заменяемости партнера, а о том, что страсть сама по себе, с любым партнером, есть мучение; и стихи эти вошли в историю именно потому, что с небывалой откровенностью трактуют изначальный и непреодолимый трагизм физической любви. Тут речь не о взаимном мучительстве и не о садомазохистской ролевой игре, а о том, что вся участь человеческая – участь по преимуществу пыточная; тут уловлено настигающее иногда в действительно сильной любви ощущение общей смертности, обреченности, клетки человеческого существования, и называется это стихотворение «В темнице», и о темнице плоти мало кто сказал откровеннее. Если даже речь здесь идет о темных брюсовских эротических фантазиях, то фантазии эти, будем откровенны, имеют некоторое отношение к высшей реальности:
Кто нас двух, душой враждебных,
Сблизить к общей цели мог?
Кто заклятьем слов волшебных
Нас воззвал от двух дорог?
Кто над пропастью опасной
Дал нам взор во взор взглянуть?
Кто связал нас мукой страстной?
Кто нас бросил – грудь на грудь?
<…>
В диком вихре – кто мы? что мы?
Листья, взвитые с земли!
Сны восторга и истомы
Нас, как уголья, прожгли.
Здесь, упав в бессильной дрожи,
В блеске молний и в грозе,
Где же мы: на страстном ложе
Иль на смертном колесе?
Сораспятая на муку,
Давний враг мой и сестра!
Дай мне руку! дай мне руку!
Меч взнесен! Спеши! Пора!
(Конечно, «Меч взнесен» здесь и дурновкусно, и двусмысленно, но давайте попробуем это читать глазами современника, для которого эта стилистика вполне органична.)
Брюсов трактует человеческую участь как трагическую, и ничего удивительного, что он ищет спасения в работе. У нас, кроме работы, нет никакого способа противостоять хаосу: «Вперед, мечта, мой верный вол, неволей, если не охотой! Я близ тебя, мой кнут тяжел, я сам тружусь – и ты работай». Это вещь полемическая, ответ на стихотворение славянофила Хомякова «Труженик», так и называется – «В ответ», но это скорей не ответ, а развитие темы. У Хомякова герой тоже в конце концов отказывается от мысли об отдыхе: «Иду свершать в труде и поте / Удел, назначенный тобой; / И не сомкну очей в дремоте, / И не ослабну пред борьбой». Отличие у Брюсова только в том, что герой Хомякова идет скорее бороться, утверждать свою правду – у Брюсова же работа самоцельна: она сама по себе противостояние энтропии. Не ради триумфа своей идеи или своей школы трудится он, а потому, что все остальные действия бессмысленны и множат в мире зло, хаос, тщету. Любопытно, что в «Соловьином саде» Блока герой – да и автор – уже решительно предпочитают любовь и мечту, а вол вполне сознательно заменен на осла; не надо, не надо бросать соловьиный сад ради сомнительного труда! «Заглушить рокотание моря соловьиная песнь не вольна», товарищи, но это не повод идти к рокочущему морю от поющего соловья. Лучше весь век проспать рядом с любимой, чем «ломать слоистые скалы в час отлива на илистом дне». Блок это понимал – и все равно ушел к «рокочущему морю»; в том и дело, что поэт всегда «все понимает», а поступает так, как диктует ему стихия.
4
Особенный интерес представляет его стихотворение «Каменщик» – самое цитируемое, поскольку в нем видят отзыв на революцию 1905 года, и советская власть – вообще не слишком любившая и плохо понимавшая Брюсова – включала его в программы и антологии. Между тем стихотворение не такое простое, и я сам, думается, не очень глубоко его понимал, пока одна моя школьница – девочка редкого ума и чуткости – не сказала: подождите, но ведь каменщик здесь – автор, Брюсов, это к нему обращение! Брюсов же и есть каменщик, он всю жизнь себя так интерпретировал. Тогда смысл совершенно иной. Напомним этот хрестоматийный, но многими забытый текст:
– Каменщик, каменщик в фартуке белом,
Что ты там строишь? кому?
– Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим мы, строим тюрьму.
– Каменщик, каменщик с верной лопатой,
Кто же в ней будет рыдать?
– Верно, не ты и не брат твой, богатый.
Незачем вам воровать.
– Каменщик, каменщик, долгие ночи
Кто ж проведет в ней без сна?
– Может быть, сын мой, такой же рабочий.
Тем наша доля полна.
– Каменщик, каменщик, вспомнит, пожалуй,
Тех он, кто нес кирпичи!
– Эй, берегись! под лесами не балуй…
Знаем все сами, молчи!
Каменщик – это строитель храма культуры, в котором, как ни ужасно это звучит, есть место и власти, и власти отнюдь не демократичной. Культура – вообще пространство иерархий куда более бесспорных, чем социальные; тут случаются революции, но к радикальной переоценке ценностей не приводят. Пушкина хоть сто раз брось с корабля современности – хуже от этого только кораблю. Брюсов – каменщик, и он должен признать, что поддерживаемый им строгий порядок мира включает в себя и тюрьму – поскольку тюрьма плоти вообще входит в изначальные условия игры; и любовь, и культура – все разновидность храма, а в чьем-то понимании – тюрьмы, а точней всего – их синтеза, монастыря. И вот эту монастырскую Россию Брюсов строил, строил всеми своими стихами, организационной и критической деятельностью, научными изысканиями, гениальными переводами вроде «Энеиды», даже и Брюсовским институтом. Об этом у него одно из самых зашифрованных – и все-таки самых точных стихотворений – «В Тифлисе».
Увидеть с улицы грохочущей
Вершины снежных гор, —
Неизъяснимое пророчащий
Зазубренный узор;
Отметить монастырь, поставленный
На сгорбленный уступ.
И вдоль реки, снегами сдавленной,
Ряд кипарисных куп;
<…>
Пройдя базары многолюдные,
С их криком без конца,
Разглядывать остатки скудные
Грузинского дворца;
Припоминать преданья пестрые,
Веков цветной узор, —
И заглядеться вновь на острые
Вершины снежных гор.
Восстанавливать руины, отметить монастырь – и все-таки заглядеться на хаос, на буйство природы, на горы: в этом он весь. Он жизнь положил на то, чтобы этому хаосу противостоять, – и все-таки он его пленяет больше, чем все человеческое; больше, чем базары, и дворцы, и монастыри с их соразмерностью. Но мечтая об этом – он строит свой храм и отлично понимает, что, может быть, поколению его сыновей (сам он был бездетен) придется томиться в стенах этого монастыря. Тут он не ошибся.
И что же теперь – не строить?
На этот вопрос у меня нет ответа. Хочу отметить лишь, что уже поколение его детей – в том числе Заболоцкий – совсем иначе смотрели на соотношение природного и человеческого. Брюсов об этой природности мечтал и ею любовался – Заболоцкий как раз видит спасение в человеческом, пусть и мелком на фоне этой стихии.
И бедное это селенье,
Скопленье домов и закут,
Казалось мне в это мгновенье
Разумно устроенным тут.
У ног ледяного Казбека
Справляя людские дела,
Живая душа человека
Страдала, дышала, жила.
А он, в отдаленье от пашен,
В надмирной своей вышине,
Был только бессмысленно страшен
И людям опасен вдвойне.
Это – уже послесталинский текст, и всем понятно, кто тут Казбек. Но выбор «бедного селенья», трудящейся и деловитой людской души – это еще одно возвращение к Брюсову. Не зря Заболоцкий словно буквально отвечает ему ровно 55 лет спустя – на того самого «верного вола»: «Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь». Тем же размером – и словно одной рукой.
5
Цветаева вспоминает о подростковой влюбленности в его стихи, да и мало кто из русских поэтов в детстве прошел мимо него – именно потому, что в детстве и отрочестве многое понятней, а потом мы слишком охотно соглашаемся с диктатом обстоятельств. Брюсов не детский поэт, но ребенку он понятней – потому что ребенок ценит чистый звук, его тухлятиной не накормишь. И потому однотомник Брюсова – первая книга, ко торую моя мать купила на стипендию, – был в детстве для меня драгоценностью; «Конь блед» меня страшно пугал своим жутким ритмом, семистопным хореем, таким патологичным, специально придуманным для передачи невероятного, невозможного, и очень многое я знал наизусть. Брюсовская дисциплина и формальное его совершенство – сочетавшееся иногда, впрочем, с удивительной глухотой и комическими ляпсусами, – не должны от нас заслонять главного: его строгого самосознания, его самоненависти, его фанатичного преодоления человеческих слабостей и соблазнов.
Бальмонт называл его творчество «преодоленной бездарностью» – мне кажется, что это применимо к любому поэту, недоброжелатели могут такое сказать и о Пушкине, почему нет; на мой вкус, «преодоленной» – а местами непреодоленной – бездарности и в Бальмонте не меньше, хотя поэт он Божьей милостью, тут спорить не о чем. Брюсов был человеком весьма одаренным, в том числе музыкально. И если сам он всю жизнь пишет о себе как о фанатичном труженике, а на праздных сынов гармонии и на свободную стихию смотрит с любовной завистью – так ведь это он сам создал такой миф о себе; такая самопрезентация его больше всего устраивала, а все купились, поверили и за ним повторяют.
На деле он был человек, который больше других про себя понимал, только и всего. И в этом смысле время Брюсова приходит только сейчас. Наше дело – взглянуть на мир и на себя с его трезвостью и написать те новые стихи, которые он пытался выдумать в начале двадцатых, но на которые уже не хватило его сил и слуха.
Нам должно хватить.
Зинаида Гиппиус

1
Зинаида Гиппиус (1869–1945) была не то чтобы андрогином, как многие подозревали, но явным кентавром – сочетанием несочетаемого.
Замечательный поэт – и практически никакой прозаик; проницательный критик – и слабый, увлекающийся публицист; автор точных, временами провидческих дневников – и самовлюбленная хозяйка нескольких одинаково смешных салонов; женщина изумительного ума – и поразительного неумения себя вести; один из самых влиятельных, но и самых фарсовых персонажей русского Серебряного века и впоследствии русской эмиграции. Нельзя ею не умиляться – и не восхищаться временами, – но нельзя ее и не пожалеть, хотя весь ее облик и душевный склад как будто исключают жалость, и сама она не терпела ни сюсюканья, ни состраданья. Жена подлинно великого писателя, чье величие открывается нам постепенно, отдаляясь от пошлой оценки современников, – она многое взяла от Мережковского, но воспроизвела на собственном уровне, как бы перевела его мысли, интонации, даже стилистику в иной регистр, переложила его для женского голоса. Но – тут уж неизбежны упреки в сексизме, нынче ведь нельзя ничего сказать, чтобы кто-нибудь не оскорбился, – «царица Савская была мудра мелочной мудростью женщины», как заметил Куприн, явно имея в виду не только царицу Савскую. Гиппиус была как раз прежде всего женщиной, чего многие друзья и ровесники не желали видеть; ей нравилось блистать, она была не по таланту тщеславна, ей хотелось колебать мировые струны и управлять Временным правительством через своих людей, она была болезненно чутка к современности и глуховата к будущему, и эта метафизическая глухота материализовалась в ее старческой тугоухости. Она прожила достаточно долго, чтобы стать пережитком своей эпохи, остаться в полном литературном и человеческом одиночестве, но, кажется, так ничего и не поняла относительно России, потому что догадывалась о многом, но подтверждения своих догадок не видела. А между тем оно было, но взгляд ее был слишком нацелен на сиюминутное, на политическое; метафизику истории она чувствовала – и в самом деле как будто о многом проговаривалась, особенно в приступах раздражения, но проявлений ее не замечала. Это, впрочем, беда многих говорящих и думающих о России: они за деревьями не видят леса, за политическим не видят глубокого, внутреннего и совершенно аполитичного. Россия вообще не политическая страна, и, по большому счету, в ней меняется очень немногое. Мережковский, кажется, простился с этой темой сравнительно рано, написав историческую трилогию «Царство зверя» и все для себя поняв; сегодня редко перечитывают «Александра I» и «14 декабря», а стоило бы. Гиппиус же так и не успокоилась, так и не махнула рукой на Россию с ее историей и будущим, так и искала пути спасения Родины, не желая понимать, что Родину спасать не нужно, она так живет и иначе не хочет.
Блок незадолго до смерти писал Чуковскому: «Слопала-таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка». Это с большим или меньшим правом могли сказать о себе все люди Серебряного века, которым померещился выход из замкнутого круга; но Гиппиус, кажется, могла бы первой при менить к себе эти слова своего «лунного друга», как называется ее отличный очерк о Блоке. Если бы она перестала интересоваться современностью – не было бы и глобального разочарования семнадцатого года, и угрюмого доживания, но тогда, пожалуй, не было бы и дневников, и стихов, и всей остроты, всего напряжения ее жизни. Слабость Гиппиус в записях 1917–1920 годов обернулась силой, и, пожалуй, только эти записи останутся в конце концов главным в ее обширном наследии. Мы все ничего не изменим в России – «И погромче нас были витии, / Да не сделали пользы пером», – но наше отчаяние по этому поводу порождает и еще некоторое время будет порождать значимые тексты, а что интересует Главного Читателя, кроме текстов?
2
Гиппиус родилась 8 ноября 1869 года, рано потеряла отца и с трудом оправилась от его смерти, рано заболела туберкулезом, лечилась на Кавказе. Она росла девушкой печальной и сосредоточенной, но эта печаль объяснялась тем, что ей нечего было делать и не с кем общаться. Вообще же натура у нее была необычайно деятельная и, что называется, кипучая – но только при условии, что найдется дело, приложение сил; если такого дела не было, она предпочитала одиночество, и не демонстративное, а подлинное, от глубокого нежелания общаться с чужими. И потому есть и тут некая двойственность, почти несовместимость: мы знаем лирическую героиню Гиппиус печальной, изолированной от прочих, желающей лишь того, чего не бывает, – и она же принимается живо и горячо откликаться на общественное движение, как только оно начинается. Эта замкнутая мечтательница кидается в любое начинание, спорит о политике, собирает кружки – как только в российской жизни намечается хоть робкое оживление. В этом смысле Гиппиус была самой типичной отечественной декаденткой: когда все гниет и застывает, она удаляется в башню из слоновой кости, когда повеет хоть малейшей надеждой – нет человека активней и вовлеченней.
Мережковский был старше Зинаиды Николаевны на четыре года. Они познакомились на Кавказе – он туда отправился путешествовать после выхода первого сборника. Тут была не то что любовь с первого взгляда, но исключительно глубокое взаимопонимание, и за пятьдесят пять лет совместной жизни они не расставались больше, чем на сутки. Мережковский был человеком огромного личного обаяния – не понять и не почувствовать этой харизмы могли лишь те, чья душевная настройка была недостаточно тонкой. Вот, например, Иван Ильин – один из главных теоретиков и практиков русского консерватизма (рискнул бы я сказать – на грани фашизма, о чем современники писали более открыто): ему казалось, что в Мережковском, его писаниях и его героях слишком много рассудочности и мало непосредственного чувства. Увы, поклонники русского консерватизма под рассудочностью понимают чаще всего воспитанность, а под непосредственным чувством – готовность без долгих рассуждений дать в морду; их нелюбовь к рациональности на деле означает всего лишь любовь к национальности, иррациональным мотивам и врожденным признакам; все это, конечно, уже скомпрометировало себя и скомпрометирует еще сильнее, но Мережковский при жизни от таких людей натерпелся. Нина Берберова, считавшая себя очень умной и проницательной, хотя на деле была всего лишь очень красивой и здоровой, писала: «Человека этого (Мережковского. – Д. Б.) она ценила необычайно высоко, что было даже странно в писательнице такого острого, холодного ума и такого иронического отношения к людям. Должно быть, она действительно очень любила его». Человек типа Гиппиус может любить лишь того, кем восхищается, прежде всего интеллектуально; это не тот случай, когда сначала любишь, а потом начинаешь взахлеб нахваливать творчество любимого. Гиппиус любила Мережковского, потому что понимала.
Так, например, она все понимала про религиозно-философские собрания, разрешения на которые Мережковским пришлось добиваться лично у Победоносцева. Широко известен вопрос, который задал Победоносцев: да понимаете ли вы, что такое Россия? Россия – ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек! Менее известен ответ Мережковского: да кто же, как не вы, превратил ее в эту пустыню?! Собрания – идея общая: Гиппиус стало недостаточно узкого кружка декадентов, поэтов и публицистов. Она захотела привлечь церковников, а в идеале – чиновников. И ей, и Мережковскому мыслился третий завет, это идея в те дни весьма модная, но, кажется, Мережковский глубже всех ее проработал. Первый завет – закон, второй – милосердие, третий – дух, то есть собственно культура. Чувство исчерпанности человеческой истории, обреченности человечества владело многими, Мережковские совпадали в остроте этого переживания. По мысли Дмитрия Сергеевича, первое человечество было погублено потопом, второе погибнет в огне всемирной войны, третья попытка будет кардинально отличаться от первых двух, ибо новое человечество будет духовным, творческим, сверхчеловеческим в ницшеанском понимании. О тех, кто спасется, надо думать уже сейчас; надо вовлекать в духовную работу как можно большее число людей – и эти рыцари нового, сверхлюди начала века виделись им в людях русской революции, в террористах, в самоотверженных и, по сути, самоубийственных эсеровских акциях, в каторжанах, беглецах, политических эмигрантах. Религиозно-философские собрания были насильственно прекращены, но Мережковские, уехав за границу в разгар революции 1905–1907 годов, предположили, что новая религия куется сейчас в русских сектах. Это могут быть секты религиозные, а могут – революционные: не принципиально.
Это мысль спорная, но по-своему перспективная. Секты всегда были в России альтернативой официальной Церкви, и не зря они вызывали острейший интерес у всей предреволюционной интеллигенции как возможная основа новой Церкви после краха этой, присвоенной государством и потому антихристовой. Антихристовой, кстати, назвал ее именно Мережковский, считавший огосударствление Церкви главной ошибкой Петра. Революционные кружки – тоже почти религиозные объединения, и главные их преимущества – как и вообще несомненный плюс самой идеи тайного общества – заключаются в особого рода инициации, в невротизации, в постоянной готовности к подвигу вплоть до самоуничтожения. Правда, есть у секты и существенный минус – она почти всегда вырождается, да вдобавок участие в ней сопровождается повышенной самооценкой, чувством, что мир лежит во зле, а мы тут, праведники, спасемся; но ведь секты – или кружки, или общества, – которые так восхищали Мережковских, и не были рассчитаны на долгую жизнь. Их задача была воспитать новое поколение, а там уж оно, стараясь не повторять прежних ошибок, построит другую Церковь – и другое общество.
Именно здесь – корень интереса Гиппиус к Савинкову, которого она заметила и вывела в писатели; ее внимание к сектам – особенно заметное в рассказе «Сокатил», но он далеко не единственный – того же рода. Появились новые люди, которые и собираются в свои тайные кружки; со временем все эти ручьи сольются в единый океан. Она чувствовала, что пришло новое поколение, и – более того – к этому поколению принадлежала. Его убила война, иначе Европа давно бы жила в том новом мире, который мечтался лучшим ее умам; в новом веке это поколение выросло опять – и опять, в порядке самосохранения, старый мир готовит ему войну, но на этот раз вряд ли у него получится. Война как ответ на новизну, как способ законсервироваться – тема рассказа Гиппиус «Странный закон», отличного – не по исполнению, но по глубине догадки: «Вспомните время перед войной, вспомните бесплодие, томленье, метанье молодых слоев Европы – и России, и России! И это – вне социальных разграничений, спуститесь куда угодно: вам незнакома разве надоевшая фраза: «хулиганство деревенской молодежи»? Искали причин в социальных условиях, а причина была одна, вечная, законная: готовилась великая борьба, но она еще не наступила, определенные силы не находили своего истинного приложения, не вошли в русло… И преобразились, едва вошли. Костя и Ваня – мои дети? Дети истории, дети времен ее прежде всего. Они родились не для меня, не для себя, а для той мировой борьбы, которая должна была неотвратимо наступить. Оба они, и большой Костя, и Ваня, опоздавший родиться, просияли, углубились, изменились, так счастливы были, те же слова повторяли: «Пойдем умирать за родину!» А средний, Воля, тихо смотрит, тихо говорит: «Мне жить придется после войны». Он в свое время родился, ни слишком рано, ни слишком поздно, родился для себя, для жизни после войны. Так оно есть… Таков странный закон человеческих судеб…
Гиппиус верила, что эту молодежь не удастся выбить войной и запугать реакцией. А потому именно о них – ее главные романы и знаменитая пьеса «Зеленое кольцо». «Отлично понимаю: собрания, «Зеленое кольцо» наше – ведь это лаборатория; не жизнь – подготовка при закрытых дверях; на улицу-то еще не с чем идти. И надо спокойно».
Но спокойно не вышло. Двадцатый век, к которому обращено ее гневное стихотворение 1914 года, – не дал:
И если раньше землю смели
Огнем сражений зажигать —
Тебе ли, Юному, тебе ли
Отцам и дедам подражать?
Они – не ты. Ты больше знаешь.
Тебе иное суждено.
Но в старые меха вливаешь
Ты наше новое вино!
3
Проза Гиппиус – удивительная квинтэссенция публицистичности, безвкусия, эклектики, прямое отражение русской жизни нулевых и в особенности десятых годов: тут вам и мотивы «Серебряного голубя» Андрея Белого – лучшей русской книги о сектантах, и тема тайных обществ и провокаторов, и эсеровские покушения, и хлыстовские радения; словом, всего в избытке, и в центре всегда молодая бледноволосая красавица, которая с детства все понимает. И «Чертова кукла», и «Роман-царевич», и даже «Кольцо», которое почему-то восхищало Блока, – все это легко читается и никуда не годится. Проблема, вероятно, в том, что никуда не годилась и сама идея молодежного тайного общества как средства воспитания (сначала) и перемены всего российского устройства (потом). Уже в «14 декабря» Мережковского видна мысль о том, что никакое общество, никакая секта не переменят ситуации, потому что внутри такого общества нарастают замкнутость, сознание своей обреченности, а впоследствии даже диктатура. Как тогда менять Россию? Вероятно, тем самым рутинным просвещением и чувством ответственности, то есть правами, свободами, самоуправлением… Но все это не работает без мотивации, а мотивации не будет без веры или по крайней мере без ценностей. Вот почему Мережковский со второй половины десятых годов ищет именно эту мотивацию – то есть пытается пробиться к сущности христианства за всеми многовековыми расслоениями; Гиппиус все еще верит, что все начнется с кружков. Вероятно, это потому так ей важно, что идея своего круга – салона, если выражаться презрительно, – ей вообще близка. У Гиппиус была органическая, врожденная потребность царить в маленьком кружке, где ее суждения не подвергались бы сомнению. Такой кружок она создала в 1902–1903 годах, таков же был салон Мережковских во время их первой эмиграции, так же функционировал он в доме Мурузи, где они жили до самого отъезда в Польшу в 1920 году. Салон, кружок, секта – главные формы самоорганизации в русской жизни. Это не лучший способ изменить русскую жизнь – и ничего в самом деле не получилось, не зря Ленин постоянно предостерегал соратников от кружковщины и сектантства, – но хорошая среда для полемики, для общения, для литературы, наконец. Вся проза Гиппиус, вся ее драматургия, за небольшими исключения ми, – об этом; и если Мережковский ищет рецептов в истории, в религии – Гиппиус уповает на клуб единомышленников, с которого, по ее рассуждению, начиналось и христианство.
Лучшее, что она написала, – дневники 1917–1920 годов, так называемые «Черная книжка», «Синяя книга» и «Серый блокнот», в которых отчетливо видна эволюция ее самоощущения: эйфория по случаю Февраля, лихорадочная деятельность весны и лета семнадцатого года, гипертрофированное сознание собственной значимости, нарастающее отчаяние, ненависть наконец; ненависть ко всем – к интеллигенции, народу, России в конце концов. Это соблазн, которого никто из российского разночинства не избежал: перемены встречаются восторгом, собирается кружок, пытающийся влиять на мировые события, и в этом кружке вздувается чудовищное самомнение. У Мережковских обсуждаются свежайшие сплетни, новейшие инициативы, опаснейшие слухи – все это фиксируется в дневнике. И вот любопытно: все, что она придумывала, – выходило у нее слабо. Проза, пьесы, публицистические обзоры. Но все, что имело отношение с самоуглубленностью, как стихи, или с непосредственной фиксацией окружающего, как дневник или критика, – все отлично. Ее книга «Последние стихи» – вариант дневника: там все названо и угадано с истинно женской беспощадностью.
Оглянитесь вокруг – разве не то же самое видите вы?
Страшно оттого, что не живется – спится.
И все двоится, все четверится.
В прошлом грехов так неистово много,
Что и оглянуться страшно на Бога.
Да и когда замолить мне грехи мои?
Ведь я на последнем склоне круга…
А самое страшное, невыносимое, —
Это что никто не любит друг друга…
29 октября, через три дня после большевистского переворота, она опять все сформулировала первой:
Какому дьяволу, какому псу в угоду,
Каким кошмарным обуянный сном,
Народ, безумствуя, убил свою свободу,
И даже не убил – засек кнутом?
Смеются дьяволы и псы над рабьей свалкой,
Смеются пушки, разевая рты…
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
Народ, не уважающий святынь!
Так оно и вышло.
4
Конечно, она не избежала пошлейших соблазнов – а кто их избежал? Я, что ли, не видел в начале девяностых, как стремительно менялась интеллигенция, приближенная к власти, и как она все свои завоевания потом сдавала? Я, что ли, не надеялся влиять и воздействовать? Я ли не пьянел вместо со всеми, ловя признаки верховного интереса к гуманитарным проблемам, я ли не надеялся на все и всяческие оттепели и не пытался давать советы? Умение махнуть рукой и рано разочароваться – скорее добродетель снобов, а не творцов. Но Гиппиус, после краткого опьянения весны семнадцатого, по крайней мере все поняла. И хотя «Последние стихи» по уровню далеко не «Сестра моя жизнь», все-таки у русской революции три поэтических памятника: «Поэтохроника» Маяковского, «Сестра» Пастернака и эта книга Гиппиус.
«А «Двенадцать»?» – спросите вы.
А «Двенадцать» имеют к русской революции весьма касательное отношение, это памятник тем великим надмирным событиям, бледным отражением которых была русская революция. Гиппиус в такие сферы не проникала. Как писал Георгий Адамович, временами проницательный, «в ней самой этой музыки не было, и при своей проницательности она не могла этого не сознавать. Иллюзиями она себя не тешила. Музыка была в нем, в Мережковском, какая-то странная, грустная, приглушенная, будто выхолощенная, скопческая, но несомненная. Зато она, как никто, чувствовала и улавливала музыку в других людях, в чужих писаниях, страстно на нее откликалась и всем своим существом к ней тянулась».
Но уж в чем была ее правда, так это в умении воздерживаться от самых массовых и самых отвратительных мод: скажем, от прославления войны. Нужны не воинственные крики, а «тихие молитвы»: так она ответила на ура-патриотические стихи Сологуба – а что писал в это время Леонид Андреев! Что нес Брюсов! Маяковский вызвал у нее особенную брезгливость: «К тому главному положению, что футуризм умер, как футуризм, найдя свою настоящую плоть, и что эта плоть – война, пояснения Маяковского ничего не прибавляют. Но они оправдывают нашу прежнюю интуитивную ненависть к футуризму, отрицание принципа этого футуризма. Три четверти мира (больше) относилось и продолжает относиться отрицательно к войне, к самому ее принципу. Что же такое ликующие клики Маяковского о всемирном разлитии футуризма, – «все футуристы. Народ футурист»? В лучшем случае – ребячество. Нисколько не «наводнен мир» военно-футуристическим упоением. Если «наводнена» некая малая часть мира, то разве только Германия (с придачей футуристов). Но и германский народ, как «народ», трудно, страшно осудить навеки, объявив его «народом-футуристом»; говорить ли о каком-нибудь другом? Англия, что ли, Франция или мы жили войной и теперь принимаем ее как «исполнение мечтаний»? Но даже и в Германии, если и живут войной, – не говорят этого (стыдятся). Даже там делают вид, что «принуждены были к войне», что «любят мир» и т. д. Одни итальянские футуристы 12–13-го года заорали про войну, да вот теперь наши переимщики открыто ликуют, – «воплотилось желанное»!».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?