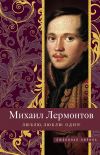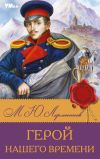Текст книги "О поэтах и поэзии"

Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Александр Блок

1
Николай Богомолов, ведущий специалист по Серебряному веку, знавший о Кузмине и Вячеславе Иванове больше, чем знали они о себе, вел на журфаке в 1984 году семинар «Поэзия русского символизма», и нас там было человек пять. На Богомолова мы молились, поскольку он был добр и всеведущ, а к тому же редактировал том песен Окуджавы в его самиздатском десятитомнике и, о боже, несколько раз уточнял у него даты, то есть с ним говорил. Однажды он объявил темой следующего семинара лирику Блока, но пришел смущенный и сказал:
– Ребята, я тут подумал… Говорить о Блоке – это все равно что, я не знаю, о Пушкине. Я не решаюсь в рамках одного семинара… и даже двух… и вообще не решаюсь. Давайте лучше о Сологубе.
Если он не решился, то где уж мне. Как можно вообще «говорить о Блоке»? Мои школьники, когда я попытался как-то проинтерпретировать «Незнакомку» и «Клеопатру», дружно сказали: «Да ладно, Львович… почитайте еще, а?» Я позвонил матери злой как черт: наверное, я действительно плохой учитель, им было неинтересно… На что мать сказала: «Блоку проиграть не зазорно». Вот все они, даже люди такой гордыни, как Ахматова, считали, что проигрывать Блоку – как Богу – не зазорно: короля поэтов выбирали из всех, кроме Блока, потому что его место не оспаривалось. Блок вообще – и при жизни, причем с молодости, – вызывал благоговение, его первенство признавалось безоговорочно, и даже вечный его оппонент Гумилев, таща из «Всемирки» саночки с пайком вьюжной петроградской ночью (кульки с пайком у них в этой вьюге срезали), говорил Чуковскому: «Александр Александрович, конечно, гениальный пУэт, но…» Он был для них как Бах для Тарковского, который говорил: «Бах не просто на первом месте, все остальные начинаются примерно с одиннадцатого».
Такое отношение к нему предопределялось, я думаю, двумя вещами. Во-первых, он ничего не выдумывал, а транслировал то, что слышал. В обычном смысле он был не умен, как не был умен Окуджава: Булат Шалвович был трезв, а это другое дело. Их наивность во всем, что не касалось главного, была поразительна. Блок, например, хоть и не верил прямо в «кровавый навет», но признавался Арону Штейнбергу в своей близости к юдофобству, особенно во время процесса Бейлиса. Убеждения Блока, его собственные мысли – почти всегда зыбкие и туманные, его взгляды на политику и вообще на современность не играли никакой роли в том, что он писал, и главная его заслуга была именно в том, что все эти вещи не мешали ему писать, что он сам себе не мешал. Вот почему внешность Блока могла быть любой, и биография – любой, и мы почти ничего из этих стихов не узнаем о Блоке – да и вообще мало о нем знаем. А вторая вещь состояла в том, что Блок был абсолютно честен и прям и всем говорил, что думал, и Горький не зря его сравнил с высокими узкими напольными часами – такими же стройными и так же показывающими время.
Есть крошечный кусок пленки, на котором живой Блок. Это случайный кадр кинохроникера, поймавшего его в марте 1917го на Невском, и опознал его на этой пленке историк, просматривавший съемки Февральской революции. Вот он там стоит в толпе, но на пару секунд оборачивается к оператору, словно к нам нынешним, улыбаясь как раз такой улыбкой, которую описал Штейнберг, – немного печальной, а немного все-таки безумной; с такой улыбкой он, верно, писал о «Титанике» – «Есть еще океан». Вот он смотрит на солдат, идущих по мостовой, на ту самую стихию, о которой столько говорил, и улыбается гибели мира – и своей собственной; улыбка человека, который сам себя ощущал последним в традиции, обреченным, а потому его обреченность радостно резонирует с общей. Потом он эту улыбку стирает с лица и деловито, с будничным выражением идет куда-то дальше. Он часто тогда шатался по улицам – а что еще было делать? Из письма к матери 23 марта 1917 года: «Бродил по улицам, смотрел на единственное в мире и в истории зрелище, на веселых и подобревших людей, кишащих на нечищеных улицах без надзора. Необычайное сознание, что все можно, грозное, захватывающее дух и страшно веселое». Страшно веселое – куда уж точней.
Революция была дело радостное, и вот что он записывал в дневнике 15 мая 1917 года: «Вечером я бродил, бродил. Белая ночь, женщины. Мне уютно в этой мрачной и одинокой бездне, которой имя – Петербург 17-го года, Россия 17-го года. Куда ты несешься, жизнь?» Уют в бездне – самое блоковское, и, как всегда, точнее всего о нем – он сам, с обычной своей прямотой. «Трудно дышать тому, кто раз вздохнул воздухом свободы» – это у него в кавычках, но, видимо, как реплика в пьесе. Источник этих слов не найден, и вероятнее всего, это мысль самого Блока.
В советской историографии (литературоведении тоже) приняты были формулы: принял революцию, не понял революцию, восторженно принял Февраль, но не понял Октября… В этом очень мало смысла, во всяком случае, если речь идет о художнике par excellence; художник реагирует на вещи тонкие и неполитические. Состояние Блока на протяжении всего 1917 года колебалось между надеждой и отвращением. Вот он пишет: «Все будет хорошо, Россия будет великой. Но как долго ждать и как трудно дождаться». Вот, уже гораздо трезвей, замечает: «Если история будет продолжать свои чрезвычайные игры, то, пожалуй, все люди отобьются от дела и культура погибнет окончательно, что и будет возмездием, может быть, справедливым, за «гуманизм» прошлого века». То есть приходит время расчеловечивания, и это, может быть, правильно; наивный, он в своем «Крушении гуманизма» предполагал, что явится нечто большее, нежели человек… а явилось нечто гораздо меньшее – сверхнедочеловечек, потому что человеческое пока остается на земле единственным пристанищем (и агентом) божественного. Многим тогда верилось, что за человеком настанет величие, – а за человеком настал фашист; чтобы выдать себя за грядущего сверхчеловека, он развязал войну, в которой зачатки подлинного человека будущего – модерниста и творца – были попросту сожжены и затоптаны; сегодня шанс на этого сверхчеловека есть опять – и война разжигается снова, и шансы нового поколения спастись иллюзорны, и возмездие приходит совсем не туда и не оттуда. Блок этого не знал, не видел и не предвидел. Мечта о чем-то новом, «равно не похожем на строительство и разрушение», осталась неосуществима: «Что же делать, если обманула та мечта, как всякая мечта, и что жизнь безжалостно стегнула грубою веревкою кнута?» «Ничего не вижу впереди, хотя оптимизм теряю не всегда. Все, все они, «старые» и «новые», сидят в нас самих; во мне, по крайней мере. Я же – вишу в воздухе; ни земли сейчас нет, ни неба. При всем том Петербург опять необыкновенно красив».
Ну так все и делается для того, чтобы Петербург был необыкновенно красив; чтобы те немногие, которые могут услышать музыку, услышали ее. А остальные… что остальные? Их жалко, конечно, и Блоку все время всех жалко (и притом он озлоблен на всех, как озлоблен слушатель в консерватории на чужой кашель, мешающий ему наслаждаться). Но все равно ведь все умрут, просто некоторые перед этим послушают музыку, а остальные нет.
Революции ведь делаются в конце концов не для того, чтобы восторжествовало это новое: его, может быть, вовсе и не бывает. Революции делаются, чтобы Блок написал, а Россия прочла
«Двенадцать» – ту самую поэму, про которую лучший критик той эпохи Дмитрий Святополк-Мирский писал, что, если бы пришлось выбирать – оставить ли от русской литературы только эту поэму или, уничтожив ее, спасти все остальное, он бы по крайней мере крепко задумался. Следует читать: если бы от русской истории предложили оставить только русскую революцию или все, что к ней привело, – задуматься бы очень и очень стоило.
Сейчас это трудно понять. Сейчас революцию как бы вычеркнули, и юбилей ее не отмечают, и происходившего толком не помнят. Оставлено «все остальное». У нас сейчас есть все, что к этой революции привело, все в мельчайших подробностях – кроме самой революции, потому что тогда уже попробовали – не получилось, а сегодня уже и не хочется. В результате тогда труп получил гальванический удар и зашевелился – а сегодня он просто разлагается, и никто не верит, что из этого разложения получится что-то новое. Поэтому «Двенадцать» сегодня – самая понятная поэма Блока: мистический ореол ее утрачен, и можно спокойно подумать, про что она.
2
«Двенадцать» – поэма о том, как апостолы убили Магдалину. Александр Эткинд в блоковском разделе «Хлыста» – книги о том, как связаны в русской революции секты и секс, – подробно рассматривает «Катилину», ключевую работу Блока времен революции. Там революция трактуется именно как бунт против всех изначальностей и данностей, в том числе против пола: ведь в основе угнетения лежит именно пол, гендерное разделение ролей, обреченность на эти роли. Женщина в революции обречена уже потому, что напоминает о тюрьме плоти, обрекает на нее. Все прежнее – семья, быт, любовница – тянет вниз; должно прийти окончательное раскрепощение. Христос у Блока, в начатой пьесе 1918 года, «не мужчина и не женщина». Двенадцать – не просто апостолы, но первые люди, освобожденные от всех своих изначальных ролей: профессии, возраста, любых других привязок.
Блоковский образ революции – «Черный вечер. / Белый снег. <…> / Ветер, ветер – / На всем Божьем свете» – оказался необыкновенно влиятелен. Собственно, именно эту мизансцену воспроизводит Булгаков в первой сцене «Собачьего сердца»: ночь, ветер, буржуй и пес. Вся повесть выглядит как жесточайшая пародия на блоковскую утопию: нового человека буржуй делает из пса, и он оказывается хуже пса.
«Двенадцать» – поэма улицы, ее голосов и вывесок, плакатов и обрывочных разговоров. Проститутки договариваются учредить собственный профсоюз: «На время – десять, на ночь – двадцать пять… / …И меньше ни с кого не брать…». Писатель-вития в очередной раз повторяет, что Россия погибла – хотя именно в эти минуты Россия переживает высшую точку своей истории: как пишет Блок матери, революция могла случиться только здесь (тут, кстати, не поспоришь – Россия действительно была самым слабым звеном в цепи старого порядка и потому оказалась наиболее уязвима перед порядком новым, грубее и проще прежнего). Старушка сетует на то, что из огромного лоскута не выкроили «портянок для ребят», а сделали плакат: «Вся власть Учредительному собранию» – какового собрания не будет, и это уже понятно. «Ветер веселый и зол и рад» – опять страшное веселье революции; весело потому, что не будет больше «Страшного мира», не будет карамазовщины и ругон-маккаровщины, которые Блок сближает в дневнике; не будет распутинщины, поповщины, казенщины, все черно и голо – и в этой метели, сметающей все, видится Блоку, понятное дело, Христос. Потому что Христос – его второе пришествие – как раз и есть знак конца мира, его радикального обновления. А вы что же думали: он в тот раз принес меч, а в этот раз принесет мир? Нет: «Несут испуганной России весть о сжигающем Христе». И очень может быть, что он действительно приходил, именно тогда и именно сюда. После чего Россия действительно кончилась, но ничего нового не началось.
Ведь после того его посещения мир, в общем, остался прежним, просто в нем поселилось христианство; но оно стало заметно не сразу, долгое время было маргинальным, почти обреченным… Может быть, в 1917 году сюда тоже заронили что-то такое, с чего может – не сейчас, но потом – начаться новая жизнь? И это не марксизм, конечно, и не социализм, и не ленинские утопии – а новое состояние нации, которое она испытывала тогда? На девяносто девять процентов это, конечно, фантастика, но есть же надежда на этот последний процент?
Если же признать, что посещение Христа означало бесповоротный финал российской истории, то есть конец этого проекта – который с тех пор уже трижды пытался запустить себя заново, но никак не смог, и сейчас мы наблюдаем самую жалкую, самую безнадежную, самую пошлую попытку, потому что прежние лекала не работают, а придумать новые никто так и не может, – тогда вся поэма приобретает еще более стройный и трагический вид. Тогда становится понятно, увы, что всякая революция первым губит то, во имя чего она затевалась; тогда образ Катьки приобретает уже иные, не женские, а вечно женственные черты; тогда вспоминается набросок «Русский бред», который так, казалось бы, некстати – а на самом деле очень кстати – упомянут в новом романе Пелевина «iPhuck 10»:
Есть одно, что в ней скончалось
Безвозвратно,
Но нельзя его оплакать
И нельзя его почтить,
Потому что там и тут
В кучу сбившиеся тупо
Толстопузые мещане
Злобно чтут
Дорогую память трупа —
Там и тут,
Там и тут…

Нельзя почтить душу России, потому что пошляки оплакивают ее тело; тело-то парадоксальным образом воскреснет (или по крайней мере будет шевелиться под новыми и новыми гальваническими ударами войн и репрессий, бунтов и подавлений), но вот душа исчезла, как и предупреждал все тот же Пелевин. Вишневый сад уцелел на Колыме, но задохнулся в новом безвоздушном пространстве. «Вишня здесь, похоже, уже не будет расти». Вечная женственность трактуется Блоком, как замечают многие, кощунственно, но вполне в русской традиции: проститутка тут со времен Достоевского отождествляется с Магдалиной (хотя это довольно опасное отождествление). Для Пастернака, например, революция и была прежде всего отмщением за Магдалину, ее, так сказать, социальной и психологической реабилитацией – отмщением за всех растленных, за всех, кого до нас и без нас волокли в койку жирные и порочные. Лара в «Докторе Живаго» – именно Магдалина; революция вырастает из боли за «женскую долю», и в «Спекторском» тоже – «Вдруг крик какой-то девочки в чулане» (отсылка к новонайденной главе из «Бесов» – «У Тихона», с исповедью Ставрогина, с самоубийством Матреши в чулане). Проститутки для Блока – персонажи романтические, как та самая «Незнакомка», которая не зря же приходит каждый вечер, в час назначенный, в ресторан на Озерках? И Незнакомка из пьесы – для поэта гостья со звезды, а для остальных известно кто; и Вечная Женственность состоит в том, чтобы раздавать себя; и именно эта жертвенная проститутка Катька «с юнкерьем гулять ходила, с солдатьем теперь пошла». И ее убили – именно потому, что иначе никогда не начнется то самое новое; просто двенадцати невдомек, что без нее исчезнет последнее, ради чего жить стоило вообще. Блок в последние месяцы, свидетельствует Шкловский, переписывал по памяти старые уличные романсы – последнее, что осталось. Это деталь значимая: он пытается сохранить ту самую пошлость, потому что, кроме этой пошлости, ничего живого не осталось. Страшный мир исчез, да, но после него настал пустой мир, скучный, как бетонная стена или «марксистская вонь» (блоковское словцо, сохраненное Юрием Анненковым). Тогда было хоть страшно, а теперь вообще никак. Ад бывает дантовский, а бывает жэковский; в жэковском свои бездны, но стихов про него уже не напишешь.
Христос прошел – и смел все; и самих двенадцать смел тоже. Вся последующая советская литература была деяниями апостолов, их существованием после Христа, их послереволюционной советской одиссеей. Уцелели немногие, большинство погибло в той самой мясорубке, которую строило. Основали ли они новую Церковь – пока неясно, судить об этом рано, но есть признаки, что – нет. Проект, по всей вероятности, закончен.
3
Косвенное указание на это есть в «Скифах» – самом звучном и, вероятно, самом неудачном стихотворении Блока; с этого стихотворения началось русское евразийство – путь тупиковый и, выражаясь словами самого Блока, немузыкальный. «Скифы» написаны Блоком, а не продиктованы небом; звука эпохи в них нет – или разве что звук тогдашней барабанно-колокольной, революционной поэзии, французские, столь мало свойственные Блоку гражданские ноты Барбье: «Свобода – женщина с упругой, мощной грудью, с загаром на щеке, с зажженным фитилем, приложенным к орудью, в дымящейся руке». Дымящаяся рука, каково! – и хотя спасибо за это не автору, а переводчику Буренину, этому Топорову столетней давности, все равно ужасно. Так вот, «Скифы» – стихи, в которых развернута историософская концепция Владимира Соловьева, изложенная – точней, намеченная – в «Повести об Антихристе». В 1894 году, напоминая России о судьбе гордой Византии и о горьком финале национального самообожания, Соловьев пророчествовал:
О Русь! забудь былую славу:
Орел двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен.
Смирится в трепете и страхе,
Кто мог завет любви забыть…
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.
(«Панмонголизм»)
В 1904 году многим казалось, что это пророчество исполняется; время показало, что XX век развивался по другому сценарию, что страхи и надежды Соловьева были преувеличены, что наказывать Россию, как всегда, выпало самой России, потому что больше за это никто не возьмется, да никому и не по плечу; но Блок 17 апреля пишет матери именно о соловьевской схеме: «Всем тяжело. Пусть, пусть еще повоюет Европа, несчастная, истасканная кокотка; вся мудрость мира протечет сквозь ее испачканные войной и политикой пальцы – и придут другие, и поведут ее, «куда она не хочет». Желтые, что ли?» («Поведут, куда не хочешь», – аллюзия на 21.18 от Иоанна).
И вот в этих желтых он поверил – вполне по-соловьевски; поверил настолько, что увидел в Азии спасение, свежесть, молодую силу и чуть ли не «Новую Америку». «Скифы», – писал Евтушенко, – «вообще не русские стихи», и это справедливо, но ведь Блок в это время и не видит никакой России. Россия была страшным миром, страшным сном, и этот сон кончился, и скифы – вот что важно понимать! – антирусская сила. Потому что никакой веры в возрождение страны у Блока после работы в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства – нет. (Он видел, как на допросах этой комиссии рыдали бюрократы прежнего режима, – и жалел их, а не злорадствовал; видел он и то, что пришедшие им на смену ничуть не лучше – «Русский народ (…) глупый, озлобленный, корыстный, тупой, наглый, а каким же ему еще, господи, быть?») И он поверил – ему поверилось, точней, – в эту дикую варварскую силу, в ту самую азиатчину, которой он из последних сил противостоял в 1908 году, когда писал «На поле Куликовом». Прошло ровно десять лет, и она догнала его. Полно, одна ли рука это писала?
Орлий клекот над татарским станом
Угрожал бедой,
А Непрядва убралась туманом,
Что княжна фатой.
И с туманом над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла, в одежде свет струящей,
Не спугнув коня.
Серебром волны блеснула другу
На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу
На моем плече.
И когда, наутро, тучей черной
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда.
(«На поле Куликовом», 1908)
Мы любим плоть – и вкус ее, и цвет,
И душный, смертный плоти запах…
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?
Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы
И усмирять рабынь строптивых…
Придите к нам! От ужасов войны
Придите в мирные объятья!
Пока не поздно – старый меч в ножны,
Товарищи! Мы станем – братья!
А если нет – нам нечего терять,
И нам доступно вероломство!
Века, века вас будет проклинать
Больное позднее потомство!
Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!
(«Скифы», 1918)
Андрей Синявский предполагал, что авторский вариант был – «Мы широко по дебрям и лесам перед пригожею Европой раскинемся! Мы обернемся к вам своею азиатской…» Но это, хоть и остроумно, вряд ли. Блок был серьезен. Он искренне верил, что мы Восток – а еще в 1916 году верил, что Запад, – и что с этого Востока на гнилой Запад хлынет поток свежей энергии. Ему представлялось, что варварство – это что-то новое, тогда как ничего дряхлее не бывает. Ему показалось, что истинный лик России – не «лик нерукотворный», но именно азиатская рожа, и таких радикальных перемен ни один российский поэт еще не демонстрировал, даже Пушкин, начавший с «Вольности» и закончивший словами «Недорого ценю я громкие права»; но путь Пушкина был путь сознательный, а Блок воспроизводил то, что слышал. И Россия 1908 года, при всей своей гнили, была Россией европейской; а в 1918-м – Россией азиатской. Блок увидел прищур Ленина и что-то в нем разглядел.
Потом, разумеется, все вошло в обычное русское русло, но евразийская идея была уже подхвачена, и новое течение сменовеховской, имперской, реставраторской мысли так и называлось – скифство. Это скифство весьма много навредило русской мысли, когда вошло в моду учение Гумилева – вполне приемлемое как фэнтези или как рабочая гипотеза, но не как научная истина и тем более не как идейное руководство. Гумилеву – сыну главного блоковского оппонента, который в результате подхватил блоковскую мысль и его интонацию, – присущ был латентный, имплицитный, как ныне говорится, культ варварства, свежей крови, дикой силы; и Россия повелась на это, и до сих пор ведется, и считает способность и желание убивать признаком особой духовности, знаком пассионарности. К счастью, из этого евразийства ничего не вышло – варварство устарело и не воспринимается больше как ex oriente lux, знаменитый и пресловутый свет с Востока. Очень возможно, что Блок был гораздо левей и радикальней Ленина – и что он со своим евразийством потерпел гораздо более ужасное поражение, чем советская власть; ибо евразийство, в сущности, началось после нее, оно стало так называемым «русским миром», его идеологи подожгли Донбасс и сняли все новорусское патриотическое кино (вина их, конечно, несопоставима). Блок не был болен, вопреки мнению Гиппиус, когда писал свои последние вещи. Больно было все вокруг Блока, а Блок был так устроен, что транслировал небесный звук. Вот тогда в небе жужжало такое. И оно до сих пор жужжит, только заполнило все небо и почти перестало пропускать небесный звук; просто это жужжание уже никто не принимает за музыку.
Ничего. Скоро здесь начнется то самое «новое, равно не похожее на строительство и разрушение», только для этого надо было пережить последний соблазн. За которым опять откроется что-то небесное – вроде «Свирель запела на мосту, / И яблони в цвету».
Мы, думаю, доживем. А дети наши, которые так любят Блока, доживут уж точно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?