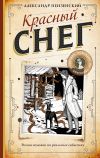Читать книгу "Рыбаки"

Автор книги: Дмитрий Григорович
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 6+
сообщить о неприемлемом содержимом
VI
Гришутка
Никогда еще во всю свою долгую, но бесполезную жизнь дядя Аким не трудился так много, как в это утро, когда, обнадеженный словами Анны, остался гостить в доме рыбака. Наставления старушки были постоянно перед его глазами. Опасаясь, с одной стороны, не угодить в чем-нибудь Глебу, исполненный, с другой стороны, сильнейшего желания показать всем и каждому, что он отличнейший, примерный работник – «мастак работник», Аким не щадил рук и решительно лез из кожи. Подобно ручью, который в продолжение многих верст лениво, едва заметно пресмыкался в густой и болотистой траве и который, выбежав на крутизну, делится вдруг на бесчисленное множество быстрых, журчащих потоков, дядя Аким заходил во все стороны и сделался необыкновенно деятелен: он таскал верши, собирал камыш для топлива, тесал колья, расчищал снег вокруг лодок – словом, поспевал всюду и ни на минуту не оставался без дела. Иногда, уже невмочь одолеваемый одышкой и поперхотой, он останавливался, чтобы перевести дух, но встречал всякий раз пристальный взгляд Глеба и принимался суетиться пуще прежнего. Уж зато и уходился же дядя Аким! Пот катил с него крупными горошинами, ноги подгибались как мочалы, плечи ломило, как словно их вывихнули. Такое усердие, конечно, не ускользало от внимания Глеба; но он оставался, по-видимому, совершенно к нему равнодушным. Хозяева вообще не щедры на похвалы: «Похвала – та же потачка, – рассуждает хозяин, извлекая, вероятно, это правило из наблюдений собственной природы, – зазнается еще, чего доброго! Возьмет „форс“ на себя!..» Такие мысли свойственны хозяевам, когда дело идет о работнике и труженике. Русский мужичок в деле практической хозяйственной сметливости никому не уступит. Небрежный, беспечный и равнодушный ко всему, что не имеет к нему прямого, личного отношения, он превращается у себя дома в ломовую, неутомимую лошадь и становится столько же деятелен, сколько взыскателен. Нет народа, который бы так крепко отстаивал свою собственность и так сильно соблюдал свои материальные выгоды, как русский народ. «Ничего, авось, небось и как-нибудь», так часто произносимые русским мужиком, повторяются им точно так же, если хотите, когда он у себя дома; в последнем случае, однако ж, слова эти выражают, поверьте, скорее торопливость, желание сработать больше, сбыть выгоднее, чем беспечность или нерадение. Мужичок производит «кое-как» только для мира, для общества; он знает, что базар все ест: ест и говядину, коли есть говядина, ест и что ни попало, коли нет мяса. Но зато войдите-ка во двор семьянистого, делового, настоящего хозяина, взгляните-ка на работу, которую предназначает он для себя собственно: тут уж на всем лежит печать прочности и долговечности, соединенные с расчетом строжайшей, мудрой экономии; здесь каждым ударом топора управляло уже, по-видимому, сознание, что требуется сделать дело хорошо, а не кое-как! У семьянистого хозяина даром корка не пропадет. Бросил зерно в землю – давай сам-сём; счетом взял – отдавай с лихвою; взял лычко – отдай ремешок; на сколько съел, на столько сработай. Труды батрака соображаются с количеством поглощаемой им каши и числом копеек, следующих ему в жалованье, и потому редкий на свете хозяин остается вполне доволен батраком своим и редкий батрак остается доволен своим хозяином. Впрочем, такие свойства русского мужика издали только бросаются в глаза и кажутся достойными порицания; на самом деле они отличаются от свойств других людей только формою, которая у простолюдина немного погрубее – погрубее потому, может статься, что простодушнее…
Но перейдем к Акиму, который сидит теперь между Глебом и старшими его сыновьями и конопатит лодку.
Солнце до половины уже обогнуло небо, и работа приближалась к концу, когда к работающим подошел младший сынишка Глеба.
Заплаканное лицо его, встрепанные волосы, а рубашонка, прорванная в двух-трех местах и запачканная грязью, обратили на него тотчас же внимание присутствующих.
– Что ты, Ванюшка? – спросили в один голос отец и Василий.
– Должно быть, с моим Гришуткой… Вестимо, ребятеночки еще: что с них взять! – обязательно предупредил Аким, догадавшийся с первого взгляда, что тут, конечно, не обошлось без Гришутки.
– Хорошее баловство, нечего сказать! – возразил Глеб, оглядывая сынишку далеко, однако ж, не строгими глазами. – Вишь, рубаху-то как отделал! Мать не нашьется, не настирается, а вам, пострелам, и нуждушки нет. И весь-то ты покуда одной заплаты не стоишь… Ну, на этот раз сошло, а побалуй так-то еще у меня, и ты и Гришка, обоим не миновать дубовой каши, да и пирогов с березовым маслом отведаете… Смотри, помни… Вишь, вечор впервые только встретились, а сегодня за потасовку!
– Да я его не трогал, – сказал мальчик, утирая рукавом слезы, которые текли по его полным, румяным щекам.
– Стало, он тебя поколотил?.. Ну, полно, не плачь: дай нам прийти домой, мы ему шею-то сами намнем.
– Он меня не колотил, – поспешно сказал мальчик.
– Как же так?
Мальчик замялся и пробормотал несвязно:
– Он меня… все… вот так-то вот… все… вот… все бьет!
– Должно быть, как-нибудь невзначай, – поспешил присовокупить дядя Аким.
– Ну, хорошо, – возразил Глеб, – он тебя поколотил; ну, а ты что?
– Я ничего, – отвечал простодушно Ваня.
– И сдачи не дал?
– Нет.
Глеб и за ним все присутствующие засмеялись.
– За что же он прибил тебя? – спросил отец, очевидно, с тою целью, чтобы позабавиться рассказом своего любимого детища.
– А я и сам не знаю, за что, – отвечал со вздохом Ваня. – Я на дворе играл, а он стоял на крыльце; ну, я ему говорю: «Давай, говорю, играть»; а он как пхнет меня: «Я-те лукну!» – говорит, такой серчалый!.. Потом он опять говорит: «Ступай, говорит, тебя тятька кличет». Я поглядел в ворота: вижу, ты меня не кличешь, и опять стал играть; а он опять: «Тебя, говорит, тятька кличет; ступай!» Я не пошел… что мне!.. Ну, а он тут и зачал меня бить… Я и пошел…
– Так, стало, сдачи-то ты и не дал?
– Нет.
– Ну, плохой же ты парнюха после этого! – смеясь, сказал отец. – Авось разве опосля как-нибудь посчитаетесь, а теперь пока он над тобой потешился… Эх ты, мозгляк, мозгляк, право мозгляк!.. Ну, что я стану с тобой делать? Слышь, сдачи не дал!.. Ну, где тебе быть с рыбаками! Ступай-ка лучше к бабам… вот они… ступай-кась туда… Они же, кстати, тебя и умоют! – заключил старый рыбак, подтрунивая над сыном и указывая ему рукою на отдаленную груду камней, из-за которой раздавался дружный стук вальков и время от времени показывались головы Анны и снохи ее.
Мальчик стыдливо потупил голову и молча поплелся к матери.
– А должно быть, шустер твой мальчишка-то, сват Аким, не тебе чета! – начал Глеб, снова принимаясь за работу. – Вишь, как отделал моего парня-то… Да и лукав же, видно, даром от земли не видок: «Поди, говорит, тятька зовет!» Смотри, не напроказил бы там чего.
– И-и-и, батюшка, куды! Я чай, он теперь со страху-то забился в уголок либо в лукошко и смигнуть боится. Ведь он это так только… знамо, ребятеночки!.. Повздорили за какое слово, да давай таскать… А то и мой смирен, куда те смирен! – отвечал дядя Аким, стараясь, особенно в эту минуту, заслужить одобрение рыбака за свое усердие, но со всем тем не переставая бросать беспокойные взгляды в ту сторону, где находился Гришутка.
Ванюша между тем, обмытый и обласканный матерью, успел уже забыть свое горе, и вскоре звонкий, веселый голосок его смешался со стуком вальков, которому, в свою очередь, с другого конца площадки отвечало постукиванье четырех молотков, приводивших к концу законопачиванье лодки.
Солнце приближалось уже к полудню.
– Шабаш, ребята! – весело сказал Глеб, проводя ладонью по краю лодки. – Теперь не грех нам отдохнуть и пообедать. Ну-ткась, пока я закричу бабам, чтоб обед собирали, пройдите-ка еще разок вон тот борт… Ну, живо! Дружней! Бог труды любит! – заключил он, поворачиваясь к жене и посылая ее в избу. – Ну, ребята, что тут считаться! – подхватил рыбак, когда его хозяйка, сноха и Ваня пошли к воротам. – Давайте-ка и я вам подсоблю… Молодца, сватушка Аким! Так! Сажай ее, паклю-то, сажай! Что ее жалеть!.. Еще, еще!
И четыре молотка, как бы подстрекаемые веселым смехом старого рыбака, застучали еще пуще прежнего.
Внезапно с середины двора раздался пронзительный, отчаянный крик. В ту же секунду из растворенных ворот выбежали Анна, жена Петра и Ваня.
– Пожар! Пожар! Горим! – кричали они, отчаянно размахивая руками.
Молотки выпали из рук четырех работников, пораженных ужасом. Глеб быстрее юноши поднялся на ноги; он был бледен как полотно.
– С нами крестная сила! – пробормотал он, крестясь дрожащею рукой, между тем как сыновья его и Аким бежали к избе.
Секунду спустя он бросился за ними.
На дворе происходила страшная суматоха. Жена Петра бегала как полоумная из угла в угол без всякой видимой цели; старуха Анна лежала распростертая посредь двора и, заломив руки за голову, рыдала приговаривая:
– О-ох, вы, мои батюшки!.. Остались-то мы, горькие… без крова, без пристанища… И куда-то мы, сиротинушки, куда приклоним головы!..
Нигде, однако ж, не было заметно признаков пожара.
– Где горит? – закричал Петр, вбежавший прежде всех на двор.
Петр, казалось, вырос на целый аршин; куда девался сонливый, недовольный вид его! Черные глаза сверкали; каждая черта дышала суровою энергиею.
– Где горит? – повторил он грозным жестом.
– В избе!
– В избе, в избе! – подхватил Ваня.
– Батюшка! – крикнул Петр, обращаясь к отцу, который вбегал в эту минуту на двор, бледный и смущенный. – Ступай к завалинке и вышибай окна; я с братом в избу!
Сказав это, он бросился на крылечко и исчез в дыме, который повалил клубами из сеничек, как только отворилась дверь.
Благодаря поспешно выбитым окнам и отворенной двери дым очистился и позволил Петру осмотреться вокруг. Пламени нигде не было видно. Посреди серого, едкого смрада, наполнявшего избу, Петр явственно различил густую беловатую струю дыма, выходившую из-под лавки, прислоненной к окнам. Он бросился к тому месту, нащупал руками лукошко с тлеющими щепками и паклею, вытащил его на пол и затоптал ногами. В избе сделалось тотчас же светлее. Осмотрев затем место и убедившись, что не предстояло уже никакой опасности, Петр спокойно, как ни в чем не бывало, вернулся на двор.
– Полно, матушка, – сказал он, обратившись к старухе, – никакого нет пожара; полно тебе выть! Сама посмотри.
– Батюшки! Царица небесная! – воскликнула старушка, падая на колени, и боязливо, все еще как бы глазам не веря, принялась озираться во все стороны.
– Ступай, сама посмотри, – повторил Петр.
Затем он указал ей на крыльцо, мигнул жене и вышел к отцу, который стоял как вкопанный подле дяди Акима.
– Ничего, батюшка, – вымолвил Петр, – сошло; а только… только нас подожгли, – заключил он мрачно, насупив брови.
Он рассказал ему обстоятельно причину чуть было не случившегося несчастья.
– Где Гришка? – вскричал Глеб, как бы озаренный внезапной мыслью. – Где Гришка? – повторил он, неожиданно обратившись к дяде Акиму и грозно подымая кулаки.
Аким раскрыл рот, хотел что-то сказать, затрясся всем телом и бессмысленно развел руками.
Петр и Василий бросились отыскивать мальчика.
Минут десять спустя оба вернулись к отцу.
Гришки нигде не было.
– Так и есть: он! – сказал рыбак.
– Батюшка! – отчаянно вскрикнул дядя Аким и повалился в ноги.
– Ну вот еще, будешь нам рассказывать! Он, вестимо он! Ах, он… Ребята, давай мне его сюда, давай сюда!.. Ступай, догоняй; всего одна дорога; да живо… испуган зверь, далеко бежит… Ну!
Дядя Аким быстро вскочил на ноги и кинулся уже вперед; но рыбак удержал его, сказав:
– Куда тебе! Стой здесь: ведь Васька попрытчее твоего сбегает.
Как ни ошеломлен был Глеб, хотя страх его прошел вместе с опасностью, он тотчас же смекнул, что Аким, запуганный случившимся, легко мог улизнуть вместе с мальчиком; а это, как известно, не входило в состав его соображений: мальчику можно задать таску и раз навсегда отучить его баловать, – выпускать его из рук все-таки не след. Простой народ, не только русский, но вообще все возможные народы, вероятно по недостаточному развитию нравственного чувства и совершенному отсутствию нравственного мнения, снисходительно смотрят на проступки ближнего, к какому бы роду ни принадлежали эти проступки. После первого взрыва отношения Глеба к Акиму и его мальчику ни на волос не изменились; мужики что дети: страх, ненависть, примирение, дружба – все это переходит необыкновенно быстро и непосредственно следует одно за другим.
«Парнишка балуется, чуть было не набедовал! Надо прожустерить парнишку», – вот все, о чем помышлял рыбак.
Василий, побуждаемый частью любопытством, частью перспективой зрелища, которое, по всей вероятности, доставит наказание Гришки, – перспективой, доставляющей всегда большое удовольствие всякому простолюдину, даже самому мягкосердечному, полетел без оглядки за беглецом.
Дядя Аким опустился на завалинку, закрыл лицо руками и безнадежно качал головою. Он и сам уже не рад был (куды какая радость!), что приплелся в дом рыбака. В эту минуту он нимало не сокрушался о поступке сына: горе все в том, что вот сейчас, того и смотри, поймают парнишку, приведут и накажут. Дядя Аким, выбившийся из сил, готовый, как сам он говорил, уходить себя в гроб, чтоб только Глеб Савиныч дал ему хлеб и пристанище, а мальчику ремесло, рад был теперь отказаться от всего, с тем только, чтоб не трогали Гришутку; если б у Акима достало смелости, он, верно, утек бы за мальчиком. При малейшем звуке он поднимал голову, и слезливые глазки его с беспокойством устремлялись на тропинку, изгибавшуюся к вершине ската. Впрочем, не он один убивался. Тетка Анна и сын ее Ванюша принимали также немалое участие в судьбе, ожидавшей Гришку. Старушка, у которой уже совсем прошел страх и отлегло сердце, поминутно отрывалась от дела и выбегала за ворота.
Ваня, прижавшись за плетнем, дрожа от страха и едва сдерживая слезы, не отрывал глаз от тропинки.
Наконец на вершине ската показались две точки; немного погодя можно было уже явственно различить Василия, который с усилием тащил Гришку. В то же время на дворе раздался грубый голос Петра:
– Поймали, батюшка; ведут!
Глеб, сопровождаемый всем своим семейством, кроме Ванюши, вышел к завалинке.
В чертах рыбака не отражалось ни смущения, ни суровости. Чувство радости быстро сменяет отчаяние, когда минует горе, и тем сильнее овладевает оно душою и сердцем, чем сильнее была опасность. Глеб Савинов был даже веселее обыкновенного.
Он с усмешкою посмотрел на Акима, повернулся к горе и, приложив ладони к губам, в виде трубы, закричал:
– Тащи его сюда, Васютка, тащи скорей! Так, так! Держи крепче!.. Ну уж погоди, брат, я ж те дам баню! – заключил он, выразительно изгибая густые свои брови.
– Батюшка, Глеб Савиныч, помилуй! – сказал Аким растерянным голосом.
– Помиловать? Ну, нет, сват; жди, пока рак свистнет!.. Миловать не приходится. Я потачки не дам… Отжустерить-таки надо на порядках. Знал бы, по крайности, что баловать не дело делать!
– Отец родной… не бей его… не бей, кормилец!.. Ты только постращай, только… Он и с эвтаго перестанет…
– Полно, батюшка. Ну что ты, в самом-то деле! Он и так бояться станет, – сказала, в свою очередь, Анна.
– И ты туда же! Ну, видно, и в твоей голове толк есть! – отозвался Глеб.
– Нет, матушка, не дело говоришь, – перебил Петр, лицо которого, как только миновала опасность, сделалось по-прежнему мрачным и недовольным, – этак, пожалуй, невесть что в башку заберет! Пущай его страха отведает. Небось не убьют.
В эту минуту из-за угла избы показался Василий, тащивший Гришку.
На мальчике лица не было. Открытая грудь его тяжело дышала; ноги подламывались; его черные, дико блуждавшие глаза, всклоченные волосы, плотно стиснутые зубы придавали ему что-то злобное, неукротимо-свирепое. Он был похож на дикую кошку, которую только что поймали и посадили в клетку.
– Ага, мошенник, попался! Давай-ка его сюда! – закричал Глеб, у которого при виде мальчика невольно почему-то затряслись губы. – Пойдем-ка, я тебя проучу, как щепы подкладывать да дома поджигать… Врешь, не увернешься… Ребята, подсобите стащить его к задним воротам, – заключил он, хватая мальчика за шиворот и приподымая его на воздух.
– Батюшка, помилуй! – отчаянно закричал дядя Аким, удерживая рыбака.
– Взмилуйся, Глеб Савиныч! – завопила Анна.
– Тятька! – закричал неожиданно Ваня, вырываясь из своей засады, бросаясь к отцу и повиснув на руке его. – Тятька, оставь его!.. Пусти! Пусти!.. – продолжал он, обливаясь слезами и стараясь оторвать Гришку.
– Прочь! – сурово сказал отец. – Прочь!
И, оттолкнув от себя жену и сына, вышел к огороду.
Анна, дядя Аким и Ванюша бросились к воротам; но их снаружи придерживали Петр и Василий.
– Батюшка, Глеб Савиныч, побойся бога! – кричала старушка.
– Батюшка, взмилуйся! – кричал Аким, упав на колени.
– Тятька! Тятька! – голосил Ваня.
Но все эти крики покрылись скоро голосом Глеба и жалобными визгами Гришки.
Наконец ворота отворились, и Глеб показался с сыновьями.
– Полно вам, глупые! О чем орете? Добру учат! – сказал он, проводя ладонью по высокому лбу, который снова начал проясниваться. – Небось не умрет, будет только поумнее. Кабы на горох не мороз, он бы через тын перерос!.. Ну, будет вам; пойдемте обедать.
Дядя Аким хотел было юркнуть за ворота, но, встретив взгляд рыбака, не посмел и поплелся за всеми в избу.
Во все время обеда Аким не промолвил слова, хотя сидел так же неспокойно, как будто его самого высекли. Как только окончилась трапеза, он улучил свободную минуту и побежал к огороду. Увидев Гришку, который стоял, прислонившись к углу, старик боязливо оглянулся на стороны и подбежал к нему, отчаянно замотав головою.
– Безмятежный ты этакой! Что ты наделал! Ах ты, разбойник такой!.. Мало тебе, окаянному! Мало! – жалобно заговорил Аким, грозно подымая левую руку, между тем как правая рука его спешила вытащить из-за пазухи кусок лепешки, захваченный украдкою во время обеда.
Но тетка Анна успела уже предупредить Акима: в руках мальчика находилась целая лепешка и вдобавок еще горбушка пирога.
Это обстоятельство мгновенно, как ножом, отрезало беспокойство старика. Всю остальную часть дня работал он так же усердно, как утром и накануне. О случившемся не было и помину. Выходка Гришки, как уже сказано, нимало не изменила намерений старого рыбака; и хотя он ни словом, ни взглядом не обнадеживал Акима, тем не менее, однако ж, продолжал оставлять его каждое утро у себя в доме.
Недели полторы спустя после Благовещения Петр отправился в «рыбацкие слободы». Все сомнения исчезли при этом в душе Акима, который с той же минуты поздравил себя батраком рыбака Глеба Савинова.
К сожалению, недолго попользовался дядя Аким новым своим положением.
VII
Мастак-работник
Одного месяца не прошло с тех пор, как дядя Аким поселился у Глеба, и уже над кровлей рыбака воздвиглась скворечница. Мы будем говорить беспристрастно и тут же скажем, что скворечница дяди Акима должна была по-настоящему служить образцом всем возможным постройкам такого рода. Шутки в сторону: скворечница была действительно замечательна; ее островерхая крышечка, круглое окошечко, крылечко и даже пучок прутьев, живописно прикрепленный сбоку, невольно привлекали взгляды, показывая вместе с тем в строителе величайшего знатока и мастера своего дела. Конечно, обошлось не без хлопот; потребовались даже два воскресенья. Первый день проведен был на дворе и весь ушел на распилку и сколачиванье дощечек; второй день исключительно проведен был Акимом на крыше. Приняв в соображение усердие Акима, можно было подумать, что он сохранил в душе своей непременную уверенность превратиться на днях в скворца и снаряжал скворечницу для себя собственно. Труд Акима, как и следовало ожидать, не возбуждал большого сочувствия; появление скворечницы встречено было грубыми насмешками. Глеб и сын его Василий не переставали трунить над Акимом. Но таков уже удел всех великих произведений при их зародыше! Судите сами, если Глеб и его сын были правы.
Наступило именно то время весны, когда с теплых стран возвращались птицы; жаворонки неподвижно уже стояли в небе и звонко заливались над проталинками; ласточки и белые рыболовы, или «мартышки», как их преимущественно называют на Оке, сновали взад и вперед над рекою, которая только что вступила в берега свои после недельного разлива; скворцы летали целыми тучами; грачи также показались. Можно ли было после этого обойтись без скворечницы? К тому же дядя Аким ясно, кажется, объяснил Глебу и Василию, что трудился над скворечницей единственно с тем, чтобы потешить ребятишек; но ему как словно не давали веры и все-таки продолжали потешаться. К счастию еще, дядя Аким не обращал (так казалось, по крайней мере) большого внимания на такие насмешки: гордый сознанием своих сил, он продолжал трудиться на поприще пользы и с каждым днем сильнее и сильнее обозначал свое присутствие в доме рыбака. Вскоре весь дом и вся окрестность наполнились звуком тех дудочек, которые так искусно умел он делать. Писк и трескотня немолчно зазвучали в ушах Глеба Савинова. Куда бы еще ни шло, если б потешались только Гришка и Ванюшка: легко было отбить у них охоту к музыке; к тому же и сами они умолкали, завидя еще издали старого рыбака. Но горе в том, что дети Петра были точно так же снабжены дудками, и Глеб, не имея духу отнять у малолетних потеху, поневоле должен был выслушивать несносный визг, наполнявший избу. Глеб не обнаружил, однако ж, своего неудовольствия Акиму: все ограничилось, по обыкновению, двумя-тремя прибаутками и смехом; то же самое было в отношении к другим, более или менее полезным выдумкам работника. С некоторых пор в одежде дяди Акима стали показываться заметные улучшения: на шапке его, не заслуживавшей, впрочем, такого имени, потому что ее составляли две-три заплаты, живьем прихваченные белыми нитками, появился вдруг верх из синего сукна; у Гришки оказалась новая рубашка, и, что всего страннее, у рубашки были ластовицы, очевидно выкроенные из набивного ситца, купленного год тому назад Глебом на фартук жене; кроме того, он не раз заставал мальчика с куском лепешки в руках, тогда как в этот день в доме о лепешках и помину не было. Встречаясь с женою, старый рыбак посмеивался только в бороду; в остальном он и виду не показывал. Тайна такого снисхождения заключалась в том, что рыбак убеждался с каждым днем, как хорошо сделал, взяв к себе приемыша. Мальчик был, правда, озорлив, но обнаруживал необыкновенную сметливость, силу и проворство, обещавшие со временем дюжего, ловкого к работе парня. Что ж касается до Акима, Глеб Савиныч и прежде еще не видел в нем проку; время показало, что дядя Аким был годен делать одни скворечницы. Странно как-то выходило всегда, что труды его ровно ни к чему не служили. Иной раз целый день хлопочет подле какого-нибудь дела, суетится до того, что пот валит с него градом, а как придет домой, так и скосится и грохнет на лавку, ног под собой не слышит; но сколько Глеб или сын его Василий ни умудрялись, сколько ни старались высмотреть, над чем бы мог так упорно трудиться работник, дела все-таки никакого не находили.
– Эх ты, сватьюшка Аким, сватьюшка Аким, высоко поднял, брат, да опустил низко; вожжи-то в руках у тебя, в руках вожжи, да жаль, воз-то под горою!.. Эх, пустой выходишь ты человек, братец ты мой! – скажет Глеб Савинов, махнет рукой да и отойдет прочь.
Со всем тем Аким продолжал так же усердно трудиться, как в первые дни пребывания своего в доме рыбака: прозвище «пустого человека», очевидно, было ему не по нутру.
Не знаю, прискучило ли наконец дяде Акиму слушать каждый день одно и то же, или уж так духом упал он, что ли, но только мало-помалу стали замечать в нем меньше усердия. Вместе с тем и нрав его как-то изменялся. Бывало, шутливый такой, грохочет с утра до вечера, с ребятишками возится или выйдет за ворота скворцом позабавиться: «Эх, самец-то у меня хорош, скажет, вот разве самка бы не опростоволосилась: не сидит, шут ее знает, на яйцах! Нет, не дождаться, знать, птенцов! Так, знать, ни во что пошли труды наши!» – и частенько выкинет при этом такое коленце, что все держатся только за бока и чуть не мрут со смеху. Ну, а теперь совсем не то: ходит – набок голову клонит, как словно кто обидел его или замысел какой на душе имеет; слова не вызовешь: все опостыло ему, опостыла даже и самая скворечница. Несмотря на то что сбылись задушевные мечты его – самка не только не опростоволосилась, но вывела даже множество птенцов, которые поминутно высовывали из окошечка желтые носочки, – дядя Аким не думал радоваться.
– Что ты, мой батюшка? – спрашивала иногда тетка Анна, единственное существо из всего семейства рыбака, с которым дядя Аким сохранял прежние отношения. – Что невесел ходишь? Уж не хвороба ли какая, помилуй бог? Недужится, може статься… скажи, родимый!
– Нет, матушка, – отвечал обыкновенно дядя Аким глубоко огорченным тоном, – господь терпит пока грехам – силы не отымает. Одним разве наказал меня, грешного…
– Да чем же, батюшка?
– А вот чем, матушка, – отвечал Аким с горькою усмешкою и всегда вздыхал при этом, – вот чем: старость наслал, матушка. Оно не то чтоб добре стар стал: какие еще мои года! Да так уж, видно, для людей состарелся. И делаешь, кажись, не хуже другого, а все не угодишь, все, по-ихнему, как бы не так выходит! То не так, это не так: не в угоду, стало, пришел. И добро бы, матушка, старые люди так-то осуждали: ну, все бы как словно не так обидно! А ведь иной вот живет без году неделю, молоко на губах не обсохло, а туда же лезет тебе в бороду… Вот, примерно, теперь хошь бы твой Васька… Ну, что я ему дался за скоморох такой? Чего он привязался?.. Нет, матушка, так, видно, завелось ноне на свете: дожил до старости, нет тебе ни в чем уваженья, никуда ты не годен!.. Я и тогда говорил: нам, старикам, житья ноне от молодых не стало… Добре много развелось их, матушка, – вот что!
В последнее время дядя Аким особенно как-то не благоволил к Василию. Нерасположение это, начавшееся с того самого утра, когда парень догнал и притащил Гришку, делалось с каждым днем сильнее и сильнее. Василий, подстрекаемый примером отца, подтрунил разочка два над Акимом. Тем бы, может статься, дело и покончилось, если б Аким не показал виду; но Аким, таивший всегда недоброжелательство к молодому парню, не выдержал: он обнаружил вдруг такой азарт, что все, кто только ни находились при этом, даже Ванюша и его собственный Гришутка, – все покатились со смеху. Это, как водится всегда в подобных случаях, пуще еще раззадорило молодого парня. Сначала дядя Аким огрызался; наконец стало не под силу: он замолк и уже с этой минуты стал отворачиваться всякий раз, как встречался с Василием.
Все шло, однако ж, хорошо до тех пор, пока Аким продолжал мало-мальски трудиться. Глеб молчал. Уверившись раз навсегда, что от свата нельзя было многого требовать, он наблюдал только, чтобы сват не ел даром хлеба. Так прошло два месяца. Не знаю, может статься, Акиму показалось наконец обидным невнимание Глеба, или попросту прискучило долго жить на одном месте, или же, наконец, так уж совсем упал духом, но только к концу этого срока стал он обнаруживать еще меньше усердия. Наступил ли праздник, он уходит ни свет ни заря из дому и целый день на глаза не показывается. Несколько раз случалось даже пропадать ему дён на пяток и подолее. Никто не знал, куда он ходит и за какою надобностью. Если спрашивали его об этом, он отвечал обыкновенно с явным неудовольствием, что есть у него свои дела, что идет получать какие-то должишки, или проведать идет такого-то, или же, наконец, что тот-то строго наказывал ему беспременно навестить жену и детей, и проч., и проч. Зная Акима, никто не сомневался, что все эти объяснения сущие выдумки. Возвращался он обыкновенно в дом рыбака измученный, усталый, с загрязненными лаптишками и разбитой поясницей, ложился тотчас же на печку, стонал, охал и так крепко жаловался на ломоту в спине, как будто в том месте, куда ходил получать должишки, ему должны были несколько палок и поквитались с ним, высчитав даже проценты. Такие проделки повторялись чаще и чаще; вместе с ними усиливался лом в пояснице, сопровождавшийся всегда долгим возлежанием на печке.
– Послушай-ка, сват, – сказал Глеб, потерявший наконец терпение, – что ж ты это, в самом деле, а? Помнится, ты не то сулил, когда в дом ко мне просился. Где ж твои зароки?.. Лежебоков и без тебя много; кабы всех их да к себе в дом пущать, скоро и самому придется идти по миру… Ты думаешь, дал господь человеку рот да брюхо, даст и хлеб. Нет, братец ты мой любезный, жирно то будет! На это я тебе скажу вот еще какое слово: когда хочешь жить у меня, работай – дома живу, как хочу, а в людях как велят; а коли нелюбо, убирайся отселева подобру-поздорову… вот что!
Аким ничего не ответил; он тотчас же сел за дело, но весь этот день был сумрачен и ни с кем слова не промолвил.
Вечером, после ужина, он встретился с Анной в том самом переулке, где некогда высекли Гришку.
Выждав минуту, когда хозяйка подойдет к нему (видно было по всему, что дядя Аким никак не хотел сделать первого приступа), он тоскливо качнул головой и сказал голосом, в котором проглядывало явное намерение разжалобить старуху:
– Прощай, матушка Анна Савельевна!
– Что ты, мой батюшка? Куда ты? Христос с тобою! – воскликнула удивленная старуха.
– Да что, матушка, пришло, знать, время, пора убираться отселева, – уныло отвечал Аким. – Сам ноне сказал: убирайся, говорит, прочь отселева! Не надыть, говорит, тебя, старого дурака: даром, говорит, хлеб ешь!.. Ну, матушка, бог с ним! Свет не без добрых людей… Пойду: авось-либо в другом месте гнушаться не станут, авось пригожусь, спасибо скажут.
– Полно, Акимушка, полно, касатик! Брось это! – заговорила старуха, которая хотя и знала, что родственник ее напрасно жаловался на мужа и действительно в последнее время ел даром хлеб, но со всем тем искренно жалела о нем и всячески старалась удержать его. – Брось это, говорю; тебе это, родной, так только в голову вкинулось: полно! В чужих людях хуже еще горя напринимаешься; там тебе даром и рубашонки-то никто не вымоет. По крайности, хошь я здесь: малость, малость, а все пригляжу… Вестимо, свой человек, не чужак какой.
– Спасибо тебе, матушка, на ласковом твоем слове, – перебил Аким. – Я о тебе не говорю: век буду помнить добро твое. А только, воля твоя, мне здесь жить не приходится; так уж, видно, такая судьба моя!.. Сам сказал: ступай, говорит… И сам вижу, лишний я у вас… То не так, это не так – ну, и не надыть! Что ж, матушка, взаправду, в худого коня корм тратить!.. На всех не угодишь, матушка Анна Савельевна! Брань, да попрек, да глумление всяческое, – только я здесь у вас и слышал; спасиба не сказали! А за что? Худых каких делов за мной не было; супротивного слова никто не слышал; не вор я, не пьяница я, не ахаверник какой: за что ж такая напраслина? Трудился я не хуже ихнего: что велят, сделаю; куды пошлют, иду; иной раз ночь не спишь, все думается, как бы вот в том либо в другом угодить… Бог видит мою работу. Я ли не старался, я ли отнекивался от работы? Ну, да не угодил, матушка, нет… Такая уж, видно, судьба моя!.. Пойду, погляжу, авось-либо в другом месте пригожусь. А здесь, матушка, сам вижу, я здесь лишний у вас. Ведь сам ноне сказал: ступай, говорит, тебя мне не надыть!