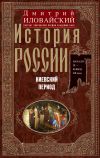Читать книгу "История России. Московско-царский период. XVI век"
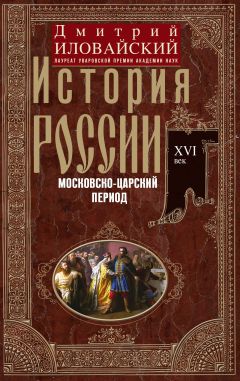
Автор книги: Дмитрий Иловайский
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
К этой эпохе Люблинского сейма относится замечательный судебный эпизод. Обыкновенно рядом с обсуждением общегосударственных дел на вальных сеймах король творил разбирательство и суд по важнейшим и уголовным процессам. 16 апреля в субботу Сигизмунд Август разбирал дело между жмудским старостой Ходковичем и виленским воеводичем Глебовичем. Этот Глебович, еще очень молодой человек, при взятии Полоцка московскими войсками попал в плен. Находясь в заключении, он вступил в договор с царем Иваном и получил свободу, присягнув на следующих условиях: служить (собственно «радеть») в своей земле московскому государю; склонять некоторых литовских сановников, в том числе жмудского старосту, к таковой же службе; постараться примирить короля с царем на основании уступки последнему Полоцкого уезда и всей Ливонии; по смерти короля убеждать литвинов выбрать своим государем Ивана или его сына, с обещанием не нарушать их вольностей, судов и границ и так далее. А за его освобождение должны быть освобождены два московских знатных пленника. Теперь Ходкович торжественно обвинял Глебовича в государственной измене, ссылаясь на приведенные пункты заключенного с московским царем договора и на переданные им письма от царя к нему (т. е. Ходковичу) и другим сенаторам. Глебович оправдывал свое поведение тем, что он все это сделал притворно, чтобы избавиться от тяжкого плена и предупредить короля о кознях неприятеля; что, по возвращении в отечество, он немедленно объявил обо всем его величеству; что король принял его милостиво, отпустил за него двух московских пленников, приказал передать сенаторам московские письма и написать ответ царю и дал Глебовичу оправдательный декрет. Однако Ходкович не хотел принимать этих оправданий и продолжал обвинять Глебовича, так как последний решился дать царю присягу. Если он присягнул искренно, то он изменил, а если притворно, то он бесчестный человек. Отсюда между Ходковичем и Глебовичем возникла перебранка. Последний готов был выйти на поединок, но Ходкович не хотел принять поединка, пока противник не будет очищен от бесчестья. Король подозвал сенаторов и, посовещавшись с ними, постановил отложить решение этого дела до следующего вторника. Тут произошел спор о том, кто должен во всеуслышание объявить это решение: маршал королевства Фирлей считал сие своей обязанностью, так как суд происходил в пределах королевства; а литовский подканцлер Волович присваивал ее себе на том основании, что дело происходило между литовцами. Постановлено, чтобы объявлял приговор коронный маршал, а литовский подканцлер стоял бы подле него. (Окончательный приговор по сему делу в сеймовом дневнике не упомянут.)
Волынцы и часть подлесян все еще не являлись на сейм для принесения присяги на верность польской короне; литовцы тоже медлили, хотя прошли уже назначенные им сроки и разные отсрочки. Польские сеймовые послы волновались, сгорая желанием воротиться домой, громко роптали на бесконечное ожидание и требовали энергических мер против медлителей в виде экзекуций, лишения должностей и староств. Действительно, ради острастки непокорным король лишил должностей подлесских воеводу и кастеляна и должности их передал другим (Кишке и Косинскому), которые, не медля, принесли присягу короне и заняли назначенные им места в польском сенате. В ожидании дальнейшего хода унии король занимался разными судебными процессами, торжественными приемами то ленного прусского герцога, то чрезвычайного турецкого посла и тому подобным; а сейм обсуждал разные политические и экономические вопросы. Более всего тратилось времени на прения о четвертой части столовых доходов, о том, как ее собирать и расходовать, где хранить, как поступать с теми столовыми имениями, которые находились в залоге, и тому подобном. Некоторые наиболее беспокойные послы, не довольствуясь изъятием из королевского пользования помянутой четвертой части, назначавшейся на войско, поднимали вопрос об отбирании у короля в пользу Речи Посполитой и остальных трех четвертей, так как он не исполнил своего обещания относительно унии и доселе не привел ее к концу.
Только в 20-х числах мая волынцы начали мало-помалу возвращаться на Люблинский сейм, извиняясь перед королем болезнями и другими причинами своего замедления. Очевидно, по мере его настойчивости и решительных мер слабела оппозиция делу унии со стороны литовско-русских вельмож: грозившая потеря должностей и староств устрашила многих. Волынцы начали приносить требуемую присягу, но не без некоторых предварительных споров и затруднений. Так, сначала они потребовали, чтобы поляки тоже со своей стороны принесли им взаимную присягу. Например, в этом смысле 24 мая говорил князь Богуш Корецкий, староста луцкий, брацлавский и винницкий. А за ним князь Константин Вишневецкий от имени волынцев говорил, что они «присоединяются к полякам как люди вольные и свободные» и просят сохранить за ними их старые вольности; просят, чтобы их княжеские роды, «которые по своему происхождению имеют особенное положение и честь», не были умалены в своей чести и чтобы никого не принуждали к другой вере, так как они (волынцы) суть греческого вероисповедания. В заключение Вишневецкий просил, чтобы им позволено было подождать с присягой до приезда других братий. На все эти прошения отвечали сначала от сената архиепископ Гнезненский, а потом сам король в самых ласковых, но общих выражениях, с обещаниями держать новоприсоединяемых при свободе и всех вольностях. На просьбы о взаимной присяге поляков или об отсрочке присяги волынцев дан был решительный отказ.
Когда же волынцы все-таки медлили, польский подканцлер ксендз Красинский воскликнул: «Извольте, господа, идти к присяге!»
«Мы приехали сюда добровольно, по принуждению ничего не делаем», – заметил Вишневецкий.
Польские сенаторы стали убеждать волынцев; те продолжали отказываться. Вмешался сам король и сказал, чтобы их оставили в покое, что тут никого не неволят, но что и он со своей стороны тоже поступит по закону (т. е. отнимет должности). Тогда из среды волынцев выступили два самых знатных человека: воевода волынский князь Чарторыйский и воевода киевский князь Василий Константинович Острожский. Сей последний хотя и уехал было с сейма в числе других литовско-русских вельмож, но далеко не был усердным противником унии. Напротив, вместе с некоторыми своими товарищами он и во время отсутствия продолжал сноситься с королем и уверять его в своей преданности. Так, на одном мартовском заседании краковский кастелян Мелецкий заявил королю, что князь Острожский уехал только по нездоровью, но что он приедет, когда его величеству угодно будет известить его. Он не только приехал, но и по всем признакам значительно повлиял в смысле покорности на других волынских вельмож, в том числе на своего родственника князя Чарторыйского. Теперь, во время пререканий о присяге, Острожский сказал: «Я на слово верю моему государю во всем и нисколько не сомневаюсь, что будет исполнено все им обещанное». Затем он и Чарторыйский припомнили королю службу свою и своих предков. Чарторыйский при сем прославлял свой род, указывая на его происхождение от князей Литовских. После того они принесли требуемую присягу; за ними присягнули князья Богуш Корецкий и Константин Вишневецкий и еще некоторые волынцы и подлесяне. По примеру их, через два дня, принесли присягу трокский воевода Збаравский и подканцлер литовский Волович, как крупные землевладельцы в Подлесье и на Волыни. Таким образом, недаром король щадил знатного литовского вельможу и хотя по настоянию поляков отобрал у него некоторые подлесские имения, но с остальными выждал до тех пор, пока упорство Воловича было сломлено.
Князь Острожский также присягнул пока только в качестве владетеля некоторых имений на Волыни, а не в качестве воеводы киевского. Но вслед за тем, и, вероятно, не без согласия, поднят был вопрос о самом Киевском воеводстве.
Очевидно, беспрепятственные присоединения западнорусских краев к Речи Посполитой сильно разохотили поляков. Поэтому на заседании 28 мая посольский маршал уже указывал королю на какие-то старые привилегии, по которым вся киевская земля принадлежит короне. Точно так же и на заседании 1 июня перемышльский судья Ореховский в своей речи от имени польских послов, между прочим, настаивал на давней якобы принадлежности Польше Киева, Брацлава и Винницы. Король обещал переговорить с сенаторами о Киевском воеводстве. Что же касается Брацлавского воеводства, то Сигизмунд Август прямо объявил его присоединенным к королевству как часть Подолии. На сем основании потребована была немедленная присяга от брацлавского воеводы Романа Сангушка, который только что прибыл в Люблин и представил королю несколько десятков русских пленных и четыре пушки, взятые в битве на Уле. На требование присяги Сангушко отвечал высокопарными словами о заслугах своих предков, о своей преданности государю и в заключение соглашался произнести присягу, как владетель некоторых имений на Волыни и как брацлавский воевода. Только во время этой присяги он, став на колена, просил короля, чтобы тот, «как помазанник Божий, положил на него руку и таким образом снял бы с него первую присягу, которую Роман принес ему как литовскому князю». Король исполнил его просьбу. За ним принесли присягу луцкий староста и кастелян Корецкий, кастелян брацлавский князь Капуста и другие. Знатные люди после присяги немедленно занимали указанные им места в польском сенате; так, Сангушку посадили ниже мариенбургского воеводы, Корецкого под кастеляном Львовским, Капусту под кастеляном равским.
Затем со стороны посольской избы начались усердные петиции королю в пользу присоединения Киева; причем указывали на слишком открытое положение Волыни с востока, то есть со стороны москвитян и татар, откуда она доселе защищена была Киевом, и ссылались на древние летописи, по которым будто бы «сей город трижды был взят и разграблен польскими королями». Однако когда этот вопрос отдан был на обсуждение сената, то нашлось несколько сенаторов, в том числе епископ Краковский Филипп Падневский, воеводы краковский Станислав Мышковский и сендомирский Петр Зборовский, которые возражали против присоединения Киева. Они указывали на большие издержки, которых потребует оборона этого края, и желали издержки эти предоставаить литовцам. После довольно горячих споров мнение сторонников присоединения превозмогло. В заседании 5 июня король через канцлера объявил сейму о присоединении Киева к Польскому королевству. Краковский воевода имел смелость открыто протестовать против сего решения. «Все присутствовавшие были так рассержены и взволнованы, что насилу удержались, чтобы не плевать на него», по замечанию сеймового дневника. Князь Острожский немедля принес присягу в качестве киевского воеводы.
Таким образом, почти вся Юго-Западная Русь и часть Северо-Западной были оторваны от Великого княжества Литовского и присоединены к Польскому королевству. Дело унии наполовину уже совершилось. Вторая половина дела сама собой вытекала из первой; ибо какую самостоятельную силу могло представлять теперь великое княжество, ограниченное собственно Литовским краем и белорусскими землями? По выражению жмудского старосты Ходковича, у Литвы «были обрезаны крылья». А потому дальнейший ход Люблинского сейма представляет только постепенное, неотразимое подчинение литовцев польским требованиям.
Литовские сенаторы и послы по большей части вновь воротились на сейм, ввиду опасности лишиться должностей и имений и ввиду того, что их отсутствие не только не прекратило Люблинского сейма, но, напротив, помогло ему беспрепятственно отнять у Литвы обширные и лучшие области. Уже на следующий день после присоединения Киева, то есть 6 июня, литовцы, по приказанию короля, собрались в замок на совещание с польскими сенаторами. Тут Ходкович от имени товарищей с горечью и гневом упрекал поляков в незаконном отнятии областей у Литовского княжества. Но поляки, уклоняясь от прений, мягко приглашали литвинов приступить к окончанию унии и занять места в общих заседаниях. Посольская изба вздумала было оскорбиться речью Ходковича и 7 июня обратилась к королю с жалобой. Король посоветовал оставить эту жалобу и принять во внимание, что «литовцы не могут не сердиться: у них ведь оборваны крылья». Затем вновь начались пререкания об условиях унии. Так как высшие должности (канцлеры, маршалы, подскарбии и пр.) оставались в Литве нетронутыми, то литвины требовали, чтобы за их княжеством оставлена была и особая печать, чтобы общие сеймы бывали попеременно и в Польше, и в Литве, чтобы вновь избранный король принес присягу как Польскому королевству, так и Великому княжеству Литовскому. «Если сейм всегда будет собираться только в королевстве, – говорили они, – то какую будет иметь власть рядом с маршалом коронным литовский маршал? Или какая будет должность канцлера Великого княжества Литовского, когда на сейме все дела будут выходить только с печатью королевства?» Кроме того, литвины желали, чтобы отказ короля от литовского наследства сделан был в пользу не одной Польской короны, но и распространен был также на великое княжество и чтобы Инфлянты (Ливония) оставлены были за Литвой.
Поляки не соглашались уступить даже и в этих не важных пунктах. Особенно шумела посольская изба; она не только не хотела слышать о каких-либо уступках, но постоянно возвращалась к королевской грамоте, по которой литвины, уехавшие с сейма, объявлены были ослушниками, и требовала, чтобы с ними поступлено было на основании этой грамоты, не теряя времени на дальнейшие убеждения. Впрочем, в самой посольской избе при обсуждении разных подробностей проекта унии не раз возникали несогласия, и она не могла прийти к единодушному решению по поводу того, как поступать с литовскими просьбами или письменными заявлениями. Вопрос о двух печатях в течение целого ряда заседаний послужил главным предметом спора со стороны литвинов и грозил даже расстроить все дело унии, стоившее таких трудов и усилий. Тяжело было положение короля между настойчивостью поляков, с одной стороны, и жалким, умоляющим тоном литовцев – с другой. Литовские сенаторы и послы продолжали собираться в отдельной зале. 24 июня король в течение нескольких часов переходил то к польским, то к литовским сенаторам, стараясь привести их к обоюдному соглашению, и, наконец, до того утомился, что ему сделалось дурно. Нужно заметить, что в это время Сигизмунд Август был удручен тяжким недугом: он страдал припадками каменной болезни.
Наконец, 27 июня, во вторник, многотрудное дело унии пришло к вожделенному для поляков концу. Литовцы прибыли в польскую сенаторскую палату, где находился король. Сюда же призваны были и польские послы. Вождь литовской рады, жмудский староста Ходкович, сказал длинную и убедительную речь; он говорил все о тех же вышеупомянутых пунктах и с горечью заявил, что Литва принуждена уступить в вопросе о печати, но просит поляков сделать ей уступку в остальных пунктах. Он упал на колени перед королем; за ним пали на колена все литовские сенаторы и послы.
«Именем Бога, – говорил со слезами Ходкович, – умоляем тебя, государь, помнить нашу службу, нашу верность тебе и нашу кровь, которую мы проливали для твоей славы. Благоволи так устроить нас, чтобы всем была честь, а не посмеяние и унижение, чтобы сохранены были наше доброе имя и твоя царская совесть. Именем Бога умоляем тебя помнить то, что ты нам утвердил своею собственной присягою».
При этом литовцы с плачем встали. Поляки также были тронуты, и многие из их сенаторов проливали слезы жалости. От имени польских сенаторов отвечал епископ Краковский; дружеским успокоительным тоном он говорил о взаимной братской любви двух народов и просил литовцев окончательно и немедленно принять унию. В том же тоне говорил сам король; а затем ксендз-канцлер (Красинский) по тетрадке прочел заранее приготовленный королевский ответ. Главное содержание всех этих ответов заключалось в общих уверениях, что из настоящей унии, с Божьей помощью, не может выйти ничего, кроме добра для обеих сторон, и что литовцы останутся при прежних вольностях и почестях. С дозволения короля последние удалились в свою залу для окончательного совещания. Это совещание длилось около трех часов. После того они воротились в сенат и устами того же Ходковича высказали свое согласие на все пункты унии, только просили смягчить некоторые выражения в их пользу. Все польские сенаторы встали, и краковский епископ от их имени выразил благодарность литвинам. Король также высказал свою радость.
На следующий день, 28 июня, накануне праздника св. апостолов Петра и Павла, по костелам пели Те Deum laudamus («Тебя, Бога, хвалим»), и проповедники призывали народ благодарить Господа Бога.
Торжественная присяга обеих сторон на унию совершилась 1 июля, в пятницу. Сперва присягали сенаторы королевства, начиная с архиепископа, потом литовские сенаторы, далее польские земские послы по воеводствам, а за ними литовские земские послы. При сем подлесяне, волыняне и киевляне присягали уже в числе поляков. Польские сенаторы благодарили Бога за то, что дал им дожить до такой минуты, и плакали. Канцлер, читавший форму присяги, был так растроган, что не мог продолжать чтение и передал великому маршалу. Однако и в эту торжественную минуту не обошлось без некоторого происшествия. Все присягавшие по очереди призываемы были к столу, около которого благоговейно стоял король, сняв шапку. Присяга, заключавшая обоюдное обещание свято исполнять свои обязанности к королю и все пункты унии, оканчивалась словами: «Да поможет мне в этом Бог единый в Троице и его святое Евангелие». Вдруг холмский подкоморий Николай Сеницкий с двумя другими польскими послами (Желинским и Бросковским из Мазовии), прежде чем встать на колени, сказал: «Я не буду присягать во имя Троицы и того Бога, которого не признаю».
Очевидно, это были члены арианской секты или антитринитарии. Король сурово приказал Сеницкому не прерывать совершающегося акта. Тот присягнул, но без упомянутых заключительных слов. А два его товарища совсем ушли из палаты и не присягали. (На следующий день их, однако, заставили присягнуть под угрозой исключения из сейма.) Кроме того, возник спор об Инфлянтах. Сенаторы литовские хотели, чтобы представители Инфлянтов присягали как члены Литовского княжества; а польские возражали, что Инфлянты признаны в общем литовском и польском владении, потому они должны присягать особо. Дело это было отложено до другого времени. По окончании присяги король сел на коня и в сопровождении членов сейма со множеством народа отправился в костел Св. Станислава, где сам принимал участие в пении Те Deum laudamus.
Затем, со 2 июля поляки и литвины заседали на сейме вместе как в сенаторской, так и в посольской палате. Предметами совещаний служили разные не вполне решенные дотоле пункты, относящиеся к унии, каковы: о защите государства, о монете, об Инфлянтах, о месте общего сейма, о местах, которые должны занимать в сенате литовские вельможи, духовные и светские, об избрании короля и прочем. Монета для Польши и Литвы принята общая, то есть одинаковая по весу, ценности и надписи. Местом для будущих сеймов назначена Варшава. Инфлянты утверждены в общем владении, а присягу их представители должны принести польскому королю. Места литвинов и в сенате, и в посольской избе распределены между польскими сановниками и послами, впрочем не без некоторых споров и неудовольствий. Но самые горячие прения возбудили и самую большую часть времени поглотили вопросы, относящиеся к обороне соединенного государства. Все эти вопросы, впрочем, скоро свелись к одному: к проекту хранения и расходования четвертой части доходов из королевских имений, ибо посольская изба отвергала всякие другие налоги и сборы на содержание войска, выражая решительное нежелание жертвовать на эту статью что-либо из собственного имущества. Большинство сенаторов отказывалось обсуждать посольский проект, предоставляя подскарбию заведование этим делом по-прежнему. Но в сенатском заседании 6 июля король, из угождения шляхте, пристал к меньшинству. Тогда сендомирский воевода потребовал счета голосам; на это возразил архиепископ-примас. Между ними возникла перебранка.
«Господин воевода! – сказал король. – И до тебя на этих креслах сидело немало таких, которые покушались оседлать меня, но тщетно. И ты не покушайся на то же».
Воевода: «Все это мне достается за сего ксендза; но я тебе, ксендз, за это отплачу».
Архиепископ: «Ты мне угрожаешь?»
Воевода: «Да, угрожаю».
Архиепископ: «Милостивый король, заявляю вашему величеству, что господин воевода мне угрожает. Я не боюсь его, но прошу ваше величество и вас, гг. сенаторы, помнить, что он мне угрожает».
Зборовский с гневом вышел из сената; за ним последовало несколько других сенаторов. Несмотря на то, проект хранения и расходования четвертой части поступил на обсуждение. Но возникшие отсюда прения и притязания, заявленные посольской избой, послужили для короля источником великих огорчений, как бы в награду за его излишнюю угодливость шляхте. Между прочим, послы напали на установление должностей особых королевских подскарбиев в Мазовии и Пруссии и требовали их уничтожения. Требовали также, чтобы вся четвертая часть королевских столовых доходов подвергалась более строгому взиманию в пользу Речи Посполитой, то есть чтобы она сполна и действительно поступала в государственную казну со всех таковых имений, в чьем бы временном владении или в закладе они ни находились (в королевстве, но не в Литве). Король выразил свое неудовольствие по поводу сих требований. Говорил, что его добровольный дар (четвертую часть) ему уже вменили в обязательство и отнимают у него законное его достояние. А в конце концов, уверял, что он ни в чем не может отказать представителям народа. Указав на свое горло, король в заседании 8 июля со слезами сказал: «Если бы вы просили у меня и это горло, то я готов отдать его вам». Послы изъявляли королю благодарность за его благодеяния Речи Посполитой, в особенности за унию, однако упорно настаивали не только вообще на отдаче четвертой части, но и на полной уплате ее за прежние годы. Грозили не обсуждать никаких дел, пока их требование не будет удовлетворено. Король, наконец, на все соглашался, но просил подождать уплаты, ибо теперь был не в состоянии уплатить. Послы изъявили согласие, но просили обеспечения. Сенаторы пробовали возражать, что неприлично требовать обеспечения от своего государя. Король предложил дать обеспечение четвертой части в остальных трех частях своих доходов. Под конец сейма польские послы стали было требовать, чтобы налог с королевских имений на войско был распространен и на Литву. Но литовские послы возразили, что у них на военные расходы с каждого двора платится серебщизна, которой нет в Польше. Рядом с этим вопросом обсуждались и другие, возбуждавшие тоже немало споров и неудовольствий. Так, послы русского воеводства тщетно домогались, чтобы уничтожена была пошлина, обременявшая галицкие соляные копи.
Многие еще дела оставались нерешенными; а меж тем все громче и громче раздавались жалобы послов на продолжительность сеймов сессии и их крайнее утомление; все настойчивее обращались они к королю с просьбой отложить остальные дела до следующего сейма. Наконец король и сенаторы вняли этим просьбам. 11 августа назначено было прощание послов с королем. Но едва маршал посольский, Чарнковский, заболевший лихорадкой, начал говорить прощальную речь, как ему сделалось дурно, и его вывели. Послы обратились к известному между ними оратору, перемышльскому судье Валентину Ореховскому, и усердно просили его сказать прощальное слово, чтобы не откладывать заключение сейма до следующего дня. Но Ореховский отказался говорить без приготовления. Пришлось вновь собраться на следующий день, 12 августа, в пятницу. Успевший оправиться Чарнковский сказал пространную речь, длившуюся около двух часов. Содержание ее главным образом заключалось в похвалах и благодарности королю за то, что он со славой окончил столь важное дело, то есть унию, которое не удалось окончить его предкам. Далее он убеждал короля сохранить в целости два соединенных государства и дать энергический отпор как московскому князю, так и другим неприятелям. В заключение призывал Божие благословение на короля и просил Бога надолго сохранить его в добром здоровье. Король отвечал в том же тоне; просил в будущем озаботиться хорошим избранием государя, так как он сам не оставляет после себя мужского потомства. Между прочим, высказал огорчение, что в его правление появилось много разных вер, и свое намерение восстановить единство веры, впрочем, не насилием, а «при помощи всемогущего Бога». В заключение просил сенаторов и рыцарство не сетовать на него за то, что он не будет платить четвертой части со старых сумм, какие ему следуют с имений в Мазовии, королевстве и Литовском княжестве, так как сейм со своей стороны не постановил никакого обеспечения для его семейства (собственно, для сестер). По окончании речи послы подходили к королю и целовали его руку.
Так окончился знаменитый Люблинский сейм, длившийся целых девять месяцев и довершивший дело польско-литовско-русской унии, дело, начатое еще в конце XIV века. Оно так долго и так постепенно направлялось в одну сторону, что его окончательный исход почти не мог подлежать какому-либо сомнению. Главным деятелем этой унии явилась, конечно, окатоличенная и ополяченная династия, которая, кроме довольно сильной, почти абсолютной, власти в Великом княжестве Литовском, имела в своих руках еще могущественное средство в виде многочисленных должностей и земельных имуществ, раздававшихся шляхте во временное пользование. Далее, успеху унии немало содействовали некоторая рознь между аристократией литовско-протестантской и русско-православной, а также стремление литовско-русской мелкой шляхты к приобретению тех же прав и вольностей, которыми пользовалась шляхта польская. Московское самодержавие, представлявшееся в то время в виде тирании Ивана Грозного, понятно, отталкивало литовско-русское дворянство от сближения с Восточной Русью и побуждало его еще теснее сплотиться с Польшей. При упадке католичества в самой Польше, вследствие распространившегося протестантизма, православная аристократия, конечно, не предвидела тогда большой опасности для своей церкви от слияния юго-западных русских областей с Польшей, и потому с этой стороны мы находим только слабо выраженные заявления. Сия аристократия как бы страдала какой-то слепотой и не понимала, что значит непосредственное слияние русских областей с Польшей и как жаждали поляки, чтобы им широко растворены были двери для захвата и колонизации благодатных земель Волыни, Подолии, Киевщины.
Но в то время, когда поляки, присоединяя к себе обширные области Юго-Западной России, возвышались на сравнительно высокую степень политического могущества, они обнаружили большую близорукость и недостаток государственного инстинкта по отношению к северным и западным своим соседям, то есть к немцам. На том же Люблинском сейме преемником прусского герцога, находившегося в ленной зависимости от Польши, король утвердил бранденбургского курфюрста Альбрехта Фридриха. Хотя последний в качестве прусского герцога и принес ленную присягу польскому королю в Люблине 19 июля, но хорошим государственным людям нетрудно было бы предвидеть, к чему поведет это соединение в руках одного дома двух немецких владений, разделенных между собой польско-прусской провинцией. Некоторые польские послы по этому поводу (в заседании 6 июля) заводили было речь о том, будет ли полезен Речи Посполитой такой шаг и не выйдет ли отсюда какого ущерба для нее? Но подобные голоса не возбудили никакого серьезного внимания.
В историческом развитии самого польского сеймования этот Люблинский сейм также имел важное значение. На нем в последний раз встречаются остатки городского представительства, именно два посла от Кракова; а с этого времени сеймы имеют исключительно шляхетский характер. Далее, выступает окончательное распадение сейма на две палаты, сенаторскую и посольскую. Первая состоит из епископов, воевод, маршалов, канцлеров, подскарбиев, из старших и младших кастелянов. Но младшие кастеляны в это время еще занимают не вполне определенное положение; мы встречаем их то в сенате, то в посольской избе. Сенаторские совещания были закрытыми, то есть сторонние свидетели не допускались; а посольские, наоборот, были публичны. Для важных вопросов обе палаты соединялись в общее заседание. При подаче мнений еще не видим счета голосов, а просто если меньшинство казалось незначительным, то на него не обращали внимания; если же оно было значительно, то обе стороны представляли свои мнения на решение короля, который не всегда держится большинства. Хотя сенат еще старается сохранить свой старый авторитет и присваивает себе почин во всяком деле, однако посольская изба или шляхетская демократия выступает на этом сейме уже с явными притязаниями на преобладающее значение в государстве27.
Сигизмунд Август как бы все свои способности и весь остаток воли истощил на дело унии. После Люблинского сейма он прожил еще около трех лет, тратя на чувственные забавы последние физические силы. Подагра и спинная сухотка окончательно привязали его к мягкому креслу. Тяготясь строгими советами медиков, он искал спасения у шарлатанов и знахарей, средства которых, конечно, приносили ему один вред. Меж тем окружавшие короля недостойные любимцы и фаворитки пользовались его слабостью, обирали его и торговали его милостями. Наибольшей силой при дворе в это время пользовались два брата Мнишки Юрий и Николай, дворяне королевские, некая Варвара Гижанка, дочь одного варшавского райцы (ратмана), и некий жид Едидзи. Король скончался в любимом своем местечке Кныши (недалеко от Белостока) 7 июля 1572 года, 52 лет от роду.
С Сигизмундом Августом угасла династия Ягеллонов, которой сравнительно небольшая польская народность обязана своим возвышением и небывалым внешним блеском, распространив свое государственное здание на всю Западную Русь. Но та же самая династия, наградив Речь Посполитую временным внешним блеском, оставила после себя глубокие, смертельные язвы в организме соединенного государства, в виде расшатанной королевской власти, избалованного шляхетства, борьбы разных исповеданий и прочно внедрившегося еврейского элемента.