Читать книгу "Переводчица на приисках"
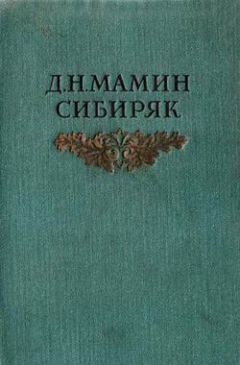
Автор книги: Дмитрий Мамин-Сибиряк
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
Переводчица на приисках
I
– Да-с, Ираида Филатьевна… – говорил низенышй сгорбленный старик с опухшим красным лицом. – Все испытал, все перенес, как праведный Иов…[1]1
…все перенес, как праведный Иов. – По библейскому сказанию, Иов был счастливым человеком: он был богат, почитаем, имел семь сыновей и трех дочерей, составлявших счастливое семейство. Иов вел жизнь праведника. Этому счастью позавидовал сатана и стал говорить богу, что Иов праведен только благодаря своему земному счастью, с потерей которого он потеряет свое добронравие и превратится в богохульника. Чтобы изобличить эту ложь, бог позволил сатане лишить невинного Иова всех благ: он обеднел, потерял детей и заболел проказой, но Иов все претерпел, не жаловался и не роптал. За это бог исцелил его и обогатил, у него снова родилось семь сыновей и три дочери, и он счастливо прожил до глубокой старости.
[Закрыть] Был богат, пользовался почетом, а теперь сир и убог-с.
Старик жестом показал на свою порыжелую заплатанную визитку, на короткие, обросшие шшзу бахромой штаны с выдавшимися протертыми коленками и на старые лапти, которые жалко болтались на его голых ногах. Ираида Филатьевна, коротенькая и толстая женщина лет сорока, с маленькими голубыми глазками и широким чувственным ртом, только пыхнула в ответ синим дымом сигары, которую курила, и немного хриплым голосом небрежно проговорила:
– Ну, а дальше?..
Старик посмотрел на свою собеседницу мутными, слезившимися глазами записного пьяницы, покрутил головой и улыбнулся рассеянной, полупьяной улыбкой. Он только теперь обратил внимание на мужской костюм Ираиды Филатьевны, которая была одета в черные бархатные шаровары, в красную канаусовую[2]2
Канаус – шелковая ткань невысокого сорта.
[Закрыть] рубашку и щегольские лакированные сапоги; нога у Ираиды Филатьевны была самая маленькая, что называется аристократическая нога, с высоким подъемом и крошечной ступней.
– Ну-с?.,
– Ах, Ираида Филатьевна… одну крошечную рюмочку бы… А?..
– Да у вас, батенька, вчерашнее похмелье из головы не вышибло, а вы рюмочку…
Вместо ответа старик моментально схватил своими красными дрожавшими руками маленькую белую руку Ираиды Филатьевны и покрыл ее поцелуями; Ираида Филатьевна молча поднялась со ступеньки крыльца, на котором они сидели, и, слегка переваливаясь на своих толстых коротких ножках, ленивой походкой ушла в комиату.
Разговор происходил на крыльце коковинской приисковой конторы. Старик несколько времени сидел неподвижно на своей ступеньке, потом поднял голову и, прищурившись, долго смотрел кругом. Налево от конторы поднималась лесистая горка, направо раскинулся желтым пятном Коковинский прииск, точно оправленный в широкую зеленую раму из хвойного леса. Кругом беспорядочно громоздились Уральские горы, обрезывая горизонт волнистой неправильной линией. Все кругом – и горы, и лес, и прииск, и самая контора – было залито ослепительным светом июльского солнца. Около вашг-ердов на прииске не суетились старатели, в лесу замолкли птичьи голоса, и даже неутомимый дятел перестал долбить старую ель с обломленной вершиной, которая стояла в двух шагах от конторы.
– Ух, как парит… – вслух проговорил старик, снимая с головы рваную скомканную баранью шапку.
Ираида Филатьевна вынесла ему стаканчик водки; старик жадно припал к нему блестевшими синими губами и, выпив водку залпом, на несколько времени впал в то бессознательноблаженное состояние, какое испытывают только горькие пьяницы.
– Кто же вас ко мне прислал? – спрашивала Ираида Филатьевна, опять усаживаясь на ступеньку рядом со стариком; она задыхалась от жара, а на крыльце было как будто прохладнее.
– Сам пришел-с, сам, – заговорил старик разбитым! хриплым голосом. – Я ведь не всегда такой был, Ираида Филатьевна. Когда ваш папенька, генерал Касаткин, служили на Урале, они бывали у меня в доме… Как же-с!.. Все бывали, потому что дом у меня был полная чаша. Все тогда знали Якова Порфирыча Шипнцына… Да-с!.. В силе был, в большой силе-с, капиталами страшенными ворочал… Да и вы у меня бывали, сударыня, этакой маленькой девочкой: коротенькое платьице, белые кальсончики, локончики… Хе-хе!.. Конечно, где вам упомнить, ежели тогда вам, может, семой годок шел… Одним словом, отроковица.
– Ведь вы в Лобовском заводе живете?
– Да… то есть нет: жил когда-то, а теперь где день, где ночь.
– Я помию, дом у вас стоит на горе?
– Точно так-с… Этакой большой домина, с мезонином, колоннами, галдареей и всякое прочее. А рядом с моим-то домом стоит дом Хомутова, Прошки Хомутова… Такой же, как у меня. Может, помните?
– Нет… Я помню, как сквозь сон, что была с папа в Лобовском заводе, в доме с колоннами, и ела малину в большом саду, вместе с какими-то девочками…
– Именно, именно, сударыня… И малина была крупная, хорошая малина, а девочки-то – мюи дочери. Да-с… Вот дочери-то меня и загубили, сударыня. Ах, не то ведь я хотел сказать, о дочерях после. Завел я речь о том, почему пришел к вам… А видите, какая причина вышла: как-то в городе, в Мохове нашем, зашел я грешным делом в кабачок, известно, не с радости, а с горя… Хорошо. Только тут попались мне старатели с Коковинского прииска, ну, разговорились. Вот они мне и рассказали про вас: такая, говорят, у нас славная барышня на прииске, одним словом! добреющая душа. К кому хворь, говорят, прикинется, али какое горе – все к ней несем… Вот я тогда и припомнил вас… Думаю, авось барышня и признают Якова Шипицьгна. А мне, видите ли, нужно пробраться на Вогульский прииск, к Хомутову, оно, значит, к вам, на Коковинский-то, мне и вышло по пути… Как же-с! А вы вот и признали меня…
– Однако что вам от меня нужно?
– Я-с?.. Мне лично от вас ничего не нужно, Ираида Филатьевна… Как изволите видеть: весь тут – стар и дряхл, а похоронить-то и меня место найдут. Вот за стаканчик я вам благодарен… Э-эх! Ну, да это все пустяки, дело-то не в том… Да-с. Не о себе хлопочу. Только уж позвольте сначала вам все обсказать.
– Рассказывайте…
Шипицын на минуту задумался, припоминая длинный ряд годов, где мелькали знакомые лица, дорогие сердцу сцены и разные житейские случаи; он встряхнул головой, точно желая освободиться от тяжелых воспоминаний, и заговорил своим дряблым, разбитым голосом:
– Поохора-то Герасимовича вы знаете?
– Нет.
– Ну, Хомутова?.. Прошку Хомутова?
– Да слыхала о нем, даже раз, кажется, видела его издали.
– Так-с…
Шипицын опять задумался. На пыльной дороге, в двух шагах от конторы, весело выбежала синичка и, помахивая длинным черным хвостиком, с женским любопытством посмотрела своими черными крошечными глазками на разговаривавших.
Одно мгновение она, кажется, готова была улететь и даже немного присела, чтобы вспорхнуть разом, но страх так же быстро миновал, как и пришел, и маленькая шалунья беззаботно погналась за кружившимися в воздухе и ошалевшими от жару мошками. Она ловко схватывала их, делая самые грациозные па, и несколько раз оглянулась на крыльцо, точно ожидая погони.
– У нас еще отцы-то жили душа в душу, – заговорил Шипицын после своего раздумья, – а потом мы с Прошюой подросли, почитай, однолетки были, в один год нас и женили… Мы по беспоповщине, так свадьба у нас по родительскому благословению. Живо» рукой окрутят, и вся тут. Хорошо… У Хомутова в доме и моленная налажена была. Ноньче эти дела просто пошли, а допреж этого, ух, какие строгости были: разорят за моленную. Только старики-то Хомутовы крепки были, ну, и не сумлевалнсь: чуть что заслышат, сейчас давай замазывать всем рты. Ну, обыкновенная политика… Хорошо. Вот мы и живем рядышком: у Хомутовых дом полная чаша, и у нас тоже. Даже огороды не были разгорожены, ребятишки так одной грудкой и ходят… А детишек у нас все копится да копится: что ни год, то и с прибылью. Только у Прошки ребята родились все вперемежку: ноньче девка, на другой год парень– так, вроде как часы были заведены; а у меня не так: у меня подряд шли все девки… Ей-богу!.. Уж чего-чего только мы не делали с женой, чтобы парня хоть одного добыть: на боже мой! Как сама-то тяжелая ходит, так я уж по глазам вижу, что беспременно она девку принесет опять… И что бы вы думали: десять девок! Ну, куда я с ними денусь, особливо по нашему купеческому положению! Сын подрос, он уж и помощник, с десяти лет за прилавком: и себе хлеб зарабатывает и отцу замена. Хорошо. Вот только жена моя в одиннадцатый раз и забеременела. А меня и страх, и горе, и злость вперед разбирает. Как, думаю, жена принесет одиннадцатую девку, сейчас ее, как кошку, в мгшок да в воду… Ей-богу, так и думаю про себя. Ну-с, и ждем мы с женой, как страшного суда, кто родится…
– И родилась одиннадцатая девка?
– Так точно-с: одиннадцатая!.. Уж такое меня горе взяло, такое горе взяло! Пошел к своему старику, который у нас за попа справлял… Марком его звали. Ну, Марк меня и спрашивает: «Кого, Яков Порфирыч, бог дал?» А я ему: «Будь она, – говорю, – от меня проклята, – одиннадцатая девка родилась!» Ах, горе, горе!..
– Что же, вы утопили ее?
– Нет… Какое утопил!.. Старших-то девок я-таки недолюбливал, а одиннадцатая-то к самому сердцу пришлась. Ей-богу…сударыня… Стала она подрастать, и такая из себя бойкая да смышленая девчурка вышла, ну, загляденье: глазенки как черная. смородина, волосы русые да кудрявые, сама румяная… Ах, хороша уродилась Настенька, все соседи любовались, только уродилась она не в добрый час… Да. Как раз с самого дня ее рождения начали мы захудать, то есть я и Хомутов. Одному тут не везет, другому в другом месте… Не успеешь от одной незадачи поправиться, а там уж другая на носу. Так оно и пошло, точно под гору покатилось. Ну, по крайности, не обидно выходило: пир пировали вместе и горе горевать вместе. Куда что девалось: сначала тоже крепились, а потом уж и крепиться мочи не стало. А у Хомутова дела еще хуже моих. Я-то хлебом торговал, а он красным товаром.[3]3
Красный товар (устар.) – ткани.
[Закрыть] Вот и подойди Ирбитская ярмарка. Неотступно Хомутоту деньги надобны, а денег нет. Он ко мне, как к старому другу-приятелю, а у меня тоже пусто в кармане: все деньги, какие были, в товар положил. Объяснил я ему все дело и говорю, что помочь мне ему нечем… А Прошка-то Хомутов-то и говорит: «Яков Порфирыч, поручись за меня!..» Подумал-подумал я, ну, как не помочь человеку, ежели он просто заживо тонет, да еще какому человеку: душа в душу жили чуть не сто лет. «Хорошо», – говорю я Прошке. Ну, он, обнаковенно, зачал божиться: тот бог, этот бог… Поручился я за него тысяч на десять, и он поехал на Ирбитскую, набрал товару, а потом через полгода и обанкрутился: все богатство как водой смыло – ничего не осталось. А тут и меня за мою поруку подтянули, и тоже все с молотка пошло… Ох-хо-хо!.. Забедовали как есть… Лавки опечатаны, товар с укциону ушел, дома что было накоплено – тоже поманеньку растранжирили, – сегодня лошадку продадим, завтра экипажи, после – серебряную посуду, из платья что ни на есть. Вконец захудали… А я не ропщу: думаю то – вместе беду несем, авось поправимся. Конечно, оно обидно, что последние крохи у меня за Хомутовым пропали, ну, а поправится мужик – отдаст.
– Тогда эти вольные золотые промысла пошли, – продолжал Шипицын после небольшой паузы. – Ну, Хомутов-то и раньше немножко золотом займювался, а тут уж обеими руками за прииска схватался… Все равно: двух смертей не будет, а одной не миновать. Сыновья у него подросли, ну, все отцу подмога от них. А я так и посел с своими одиннадцатью девками: женихов-то и не видывали. Да и какие женихи: кто побогаче – брезгуют из разоренного дому невесту брать, кто победнее – думают, что такая невеста к бедности все-таки необычна, тосковать станет. Ну, их у меня, невест-то, зараз штук шесть и очутилось на руках… Чистое горе!.. Девичье дело – и одеться надо и обуться, а достатков-то не хватает и на хлеб. Вот Хомутов приисками занялся, а мне и того нельзя: сижу с своими девками, как собака на цепи, а девки на возрасте – долго ли до греха, К бедности-то завсегда грех первым делом льнет… Так мы и маячились лет с пять, а тут, погляжу, мои старшие-то дочери совсем зачичеревели в девках, а за ними уж меньшие, как горох по тычинкам, растут. Одиннадцатая-то, Настенька, тоже уж за двенадцать годочков перевалило и так-то наливается, что твое яблочко. И все это ей нипочем, вроде как ртуть! Мы ее стрелой прозвали за ее разудалый характер. Всех, бывало, утешит… А в тринадцать-то лет она у нас совсем заневестилась: хоть сейчас замуж. Ейбогу!.. Оказия, а не девка… А мне уж и кормить моих девок нечем, давай их сбывать по добрым людям: старшие, те в начетчицы ушли, другие из-за хлеба околачивались по дальним родственникам, одна учительшей была… Не с голодухи же помирать моим девкам!.. А уж в те поры начал я вином зашибать… Остальные остатки тащил из дому да пропивал. Да как и не пить: придешь домой – вроде как ад кромешный. Жена высохла и вроде из ума рехнулась, дочери грызутся, бедность, нищета… Ох-хо-хо! Одна стрела наша и в ус не дует: придешь пьяный домой, она тебя и приберет, и уговорит, и спать уложит, а на утро даже опохмелиться даст. Под пьяную-то руку я драться стал крепко: всех, бывало, как мышей, разгоню из дому… Жену, старуху-то, даже тиранить стал. Ей-богу, осатанел совсем. Ну, а тут как раз Хомутов и открой этот Вогульский прииск: в год все долги свои заплатил и четыреста тысяч в карман чистеньких. Обрадел я, бросил свое пьянство, вымылся, помолился и к Хомутову, за своим, значит, долгом… Что бы вь думали, сударыня, ведь этот самый Хомутов заперся в моем долге?!. Ей-богу… «Не бирал» – и шабаш. Это он моми-то десятью тысячами покорыстовался при своих, можно сказать, миллионтах… А дело велось по дружбе, без всяких записок, ну, и сплакали мои десять тысяч.
– Должно быть, этот Хомутов величайший мерзавец?!.
– Как вам сказать… Мудреное это дело, сударыня, человека судить: и не мерзавец Хомутов, и на нищую братию тысячами жертвует, и многим помогает, а мне не заплатил… Ума не приложу!.. Даже ежели бы он и должен не был мне, ну, что ему стоило дать мне взаймы хоть там пять каких-нибудь тысяч: ведь всю бы семью спас и деньги свои обратно получил. Нет, куда тебе! На меня же накинулся и даже в шею выгнал из своего собственного дома… Вот тут уж я и закурил окончательно, а жена, старуха-то моя, маялась, маялась, да и догадалась: померла… Да-с, вот оно куда пошло, Ираида Филатьевна… А потом, как я остался один-одинешенек с моими девками, тут такая музыка началась – не приведи господи!..
Девки все на возрасте, кровь в них ходит, ну, известно, одолели… Так и пошли по рукам ни за грош, а стрела-то моя одна у меня и осталась, как зеница в глазу. И то сказать, девчурке всего пошел шестнадцатый годок. Вострая девка, чего сказать, а водой не замутит… Ну, а тут как-то и ее грех попутал…
– Пятнадцати-то лет?
– Ей и теперь пятнадцать… Да. Обидно мне это, Ираида Филатьевна, потому как сманил Настеньку все тот же Хомутов, Прошка Хомутов. Стрела-то теперь с ним на Вогульском и живет… Ну, посудите: ему за пятьдесят, а ей всего шестнадцатый годочек… Ведь еще дите, ежели разобрать, хоть из себя она вполне может ответить за настоящую взрослую девицу.
– Ах, негодяй! – вскричала Ираида Филатьевна, вскакивая с своего места.
– Я вот к нему и пробираюсь за моей стрелой, да вот к вам по пути завернул: не пособите ли чем моему горю?
– Именно?
– Как же-с… Первое дело, одному мне Хомутов не отдаст Настеньку, а ежели бы вы на него напали, вдвоем-то мы у него из горла вырвем девку. Ей-богу!.. Да мы его… Видите, не могу я с ним разговору вести, а как увижу – сейчас меня точно обухом по голове: все потемнеет, и ничего не помню. А вот вы бы насчет разговору преотлично-с… Второе-с: куда я денусь с Настенькой, ежели и ослобонит ее? Ни кола, ни двора… А жаль девку: мак, а не девка, хоть я и проклял ее при рождении.
– Хорошо, я подумаю, – задумчиво ответила Ираида Филатьевна, зажигая потухшую сигару.
II
– А вот и наши идут, – прибавила Ираида Филатьевна, указывая Шипицыну движением головы на подходивших к конторе со стороны прииска трех мужчин. – Оставайтесь с нами обедать, Яков… Яков…
– Порфирыч, сударыня, – помог Шипицын, поднимаясь с своего места. – Нет, Ираида Филатьевна, оченно вам благодарен и без того… Помилуйте-с, я свое место даже весьма понимаю. Куда уж мне в лаптишках с господами иностранцами обедать…
– Да ведь иностранцы такие же люди, как и мы с вами. Оставайтесь!..
– Нет, уж увольте, сударыня… потому как я по своему убожеству даже людей порядочных нынче избегаю, а ежели к вам насмелился обратиться, так единственно по вашей превеликой доброте. В родителя пошли сердцем-то, в Филата Никандрыча… Вот ежели бы относительно Настеньки вы оборудовали это дело, в правую ножку поклонюсь… Ведь еще совсем отроковица она у меня!
– Хорошо, я подумаю, а вы завтра утром наведайтесь. Теперь вы куда?
– А на прииске места много… У кого-нибудь из старателей перебьюсь до завтра.
Шипицын конфузливо переминался с ноги на ногу и не уходил; он стыдился попросить еще стаканчик водки, но Ираида Филатьевна предупредила его просьбу и вынесла второй стаканчик; старик с жадностью выпил водку, торопливо вытер губы горстью и, как-то весь сгорбившись, униженно шмыгнул куда-то за угол конторы, вероятно избегая встречи с господами иностранцами.
Впереди всех шел старик француз с козлиной бородкой и седыми усами; его высохшее длинное тело было заключено в щегольскую синюю визижу, серые брюки и лакированные охотничьи сапоги. Из-под нависших седых бровей весело и проницательно глядели светло-карие глаза, окруженные целой сетью мелких морщин. Мягкая пуховая шляпа с широкими полями защищала его от жгучих солнечных лучей. Вообще ш-г Пажон принадлежал к тому типу молодящихся старичков, которые до семидесяти лет считают себя юношами. Рядом с ним ковылял герр Шотт, настоящий швабский немец, с длиннейшими руками, длинным туловищем, короткими-ножками и каким-то дряблым картофельным лицом. Шествие замыкал мистер Арчер, молодой человек лет двадцати, высокий, стройный, с румяным лицом, голубыми строгими глазами и твердо сложенными губами; в зубах он держал маленькую пенковую трубочку. Заложив сильные красные руки за спину, молодой человек шел с тем особенным спокойным равнодушием ко всему на свете, как умеют ходить только одни англичане, на голове у него был надет helmet of India[4]4
Индийский шлем (англ.).
[Закрыть]
– Здравствуйте, mademoiselle… – заговорил по-французски m-r Пажон. – Мы, кажется, заставили вас ждать? Тысячу раз извините…
– У вас тут была какой-то мущин? – спрашивал немец, снимая с головы соломенную шляпу, причем его голова оказалась совсем лысой.
– Экое у вас бабье любопытство, герр Шотт, – отрезала Ираида Филатьевна. – Не «была мущин», а был мужчина…
– la, ja…[5]5
Да, да… (немецк.)
[Закрыть] —забормотал старик, – быль, мущина…
– Ну, был, а теперь его нет… Вам какая забота?
– О, ви скажет всегда… такое скажет… – бормотал старик, отмахиваясь своей длинной, как рачья клешня, рукой.
М-г Пажон и мистер Арчер вдвоем знали только два русских слова: первый щи называл «чи», а второй говорил «хорошо» и «нэт хорошо». Герр Шотт постоянно щеголял перед ними своим знанием русского языка.
После обеда, поданного на открытом воздухе под навесом крыльца, вся компания разошлась по своим комнатам. Коковинская приисковая контора была выстроена на две половины: в одной жили герр Шотт и мистер Арчер, а в другой m-r Пажон и Ираида Филатьевна. Последняя на прииске, кроме своей главной роли переводчицы, имела еще большее значение как хозяйка и подруга m-r Пажона. Международным языком на прииске был французский, и благодаря ему Ираида Филатьевна заняла свое настоящее положение. В сложности, все четверо представляли собой массу таких непримиримых противоречий, что едва ли одна кровля когда-нибудь прикрывала более запутанную человеческую комбинацию.
Ираида Филатьевна передала свой разговор с Шипицыным, когда осталась в комнате вдвоем с m-r Пажоном. Француз слушал ее порывистый рассказ сосредоточенно и серьезно, насасывая длинную трубочку с шелковой кисточкой на тонком чубуке; он несколько раз хмурил свои седые брови и, наконец, проговорил:
– Что же вы думаете теперь делать, mademoiselle Ира?
Он не говорил ей «ты»; Ираида Филатьевна употребляла «вы» и «ты», глядя по расположению духа.
– Как что? – удивилась она.
– Как хотите, а женщине вмешиваться в такие дела, помоему, не совсем удобно…
– Что ты хочешь этим сказать?
– Да ведь этот Хомутов moujik,[6]6
Мужик(фр)
[Закрыть] и может сделать какуюнибудь неприятность… наговорит дерзостей.
– Что же, по-твоему, оставить эту пятнадцатилетнюю девочку в руках этого скота?
– Может быть, она сама этого хочет…
– Никогда… Слышишь: никогда!.. В пятнадцать лет девочка не может иметь таких гнусных желаний. Это было с ее стороны ошибкой, может быть, заблуждением, наконец, просто несчастием… Ее во что бы то ни стало необходимо вырвать из рук Хомутова. И я это сделаю завтра же…
М-г Пажон несколько мгновений полувопросительно смотрел на покрасневшую Ираиду Филатьевну и потом задумчиво проговорил:
– У вас геройская душа, mademoiselle Ира…
– Вздор!.. Никакого тут и геройства нет, а самое простое человеческое чувство, которое возмущается несправедливостью. Это у вас всякие пустяки за геройство сходят… Вы думаете, что женщина создана специально только для вашего удовольствия?.. Нет, она такой же человек, как и мужчина. Поймите это раз навсегда.
– Во всяком случае, если Хомутов позволит с вами какую-нибудь дерзость, я к вашим услугам…
– Это насчет дуэли?.. Ха-ха… Хомутова можно побить, но драться на дуэли он никогда не будет.
– Хорошо, предположим, что вы освободили эту девушку, а потом, что вы с ней будете делать?
– Как что? Привезу ее сюда, и она будет жить со мной в одной комнате, то есть вот в этой самой, в которой мы сейчас разговариваем.
– А я куда?
– Вы перейдете к Шотту… Что ж тут такого особенного? Устроимся как-нибудь…
М-г Пажон готов был хоть сейчас же драться на дуэли с Хомутовым, но спать в одной комнате с герр Шоттом – это заставило его нахмуриться.
– Если вы вздумаете сердиться, то я совсем уйду от вас, – пригрозила Ираида Филатьевна, загораясь румянцем до самой шеи. – Что за глупости!.. Будьте довольны тем, что имеете… за неимением лучшего. А то я сейчас же… Понимаете?
– Ах, я совсем и не думал сердиться, – поправился m-r Пажон, целуя руку m-lle Иры. – Мне показалось только неудобным то, что, как хотите, под одной крышей, сейчас за стеной, не считая меня, будут жить еще двое мужчин. Знаете, молоденькая женщина, с одной стороны, сама будет подвергаться опасности, а с другой…
– Ха-ха-ха!.. – залилась Ираида Филатьевна. – Вот это мило… Ха-ха!.. Что же, они дикие звери, что ли! Что касается мистера Арчера, то могу поручиться за него, что он даже не взглянет на девицу лишнего раза, потому что он джентльмен с ног до головы. Кроме того, он влюблен в какую-то кузину, которой пишет длиннейшие письма в Англию каждую неделю и на которой он женится… Я поручусь за Арчера. Может быть, вы опасаетесь за герр Шотта? Но, право, этот швабский Аполлон совсем не опасен, кроме… своей флейты и бумажных ковриков. Ведь он и мне дарил эти коврики, однако, как видите, это совсем не так опасно.
Ираида Филатьевна принадлежала к тем горячим натурам, для которых каждое мимолетное желание– закон. Она целую жизнь была игрушкой и рабом этих желаний, переживая тысячи неудач, ошибок и разочарований, какие неизбежно сыплются на голову таких людей. Вместе с тем, точно для довершения всех бед, природа дала ей добрейшее сердце, которое вечно изнывало под напором неудовлетворенной любви, подталкивая ее на самые дикие выходки. Раз известная мысль попадала в голову Ираиды Филатьевны, раз она согревалась теплотой ее любвеобильного сердца, – эта мысль немедленно приводилась в осуществление. И так шла целая жизнь, какими-то пароксизмами самой лихорадочной деятельности, горячими скачками от одного предмета привязанности к другому; эта лихорадка выкупалась тяжелыми минутами уныния, давящей тоски и полным равнодушием ко всему на свете.
Не дальше как утром Ираида Филатьевна переживала одну из самых тяжелых минут своего мудреного существования; но тут подвернулся старик Шштицын со своей «стрелой» – и всю хандру как рукой сняло. Впрочем, она давно уже не испытывала прилива сил и теперь точно хотела наверстать даром потраченное время. Конечно, и раньше она никому не отказывала в помощи и постоянно возилась с приисковыми бабами и ребятишками, которые одолевали ее своими болезнями, нуждами и разными бедами приискового житья-бытья. Но такая деятельность не удовлетворяла кипучей натуры Ираиды Филатьевны, не поглощала всех сил, не заставляла переживать мучительныхчасов ожидания и щемящей тоски.
Теперь другое дело.
Когда Шипицын еще рассказывал о «стреле», в голове Ираиды Филатьевны успел сложиться самый блестящий план не только освобождения этой девушки, но и окончательного устройства ее на. прииске. Она дала Шипицыну уклончивый ответ только под влиянием той выдержки, какая еще сохранилась в ней каким-то чудом.
«Mademoiselle Anastasie… Настенька… Настя…»—шептала про себя Ираида Филатьевна, с нетерпением дожидаясь ночи.
Она уже любила эту пятнадцатилетнюю девочку, жертву бедности, людского эгоизма и развращенности. Это чувство охватило ее с особенной силой и заставило ее сорокалетнее сердце бить усиленную тревогу, точно эта Настенька была ее собственной дочерью, которая когда-то была потеряна, а теперь вдруг нашлась… Да, она, эта Настенька, всего в тридцати верстах от Коковинского прииска, и Ираида Филатьевна осыпала детище своей фантазии самыми ласковыми, нежными именами, какие может – придумать только любящая женская душа. За ужином Ираида Филатьевна все время думала о том, что-то теперь делает ее Настенька на Вогульском прииске? Может быть, там идет бешеная оргия, и этот ребенок улыбается своим палачам. Дальше ей представлялось, что девушка переживает самую горькую нужду. Так может думать только мать о своих детях, придумывая и переживая тысячи несуществующих затруднений и опасностей. Словом, Ираиду Филатьевну охватила всесильная страсть, страсть совершенно особенного рода: раньше она любила только мужчин, а теперь всей душой прилепилась к совершенно неизвестной ей девушке.
Вечером, когда все улеглись спать, Ираида Филатьевна осторожно поднялась с своей походной железной кроватки и, распахнув окно, уселась на подоконнике, с голыми <плечами и руками. Голова горела, ей было душно. Вежливый храп ш-г Пажона возмущал ее теперь до глубины души, и она с закрытыми глазами мечтала о блаженном завтра, когда в этой комнате место накрахмаленного истертого француза займет Настенька и разом наполнит комнату свежестью своей шестнадцатой весны. Ее воображение уже вперед рисовало картину того, как они устроятся в этой комнате вдвоем: свою кровать она отдаст Настеньке, а сама переберется на клеенчатый диван; затем на окнах нужно будет повесить занавески, а на полу разостлать ковер. Недурно было бы оклеить стены обоями, достать туалет…
– Нет, это уж роскошь… вздор! – решила Ираида Фи-, латьевна, останавливая полет собственной фантазии. – Необходимо устроить трудовую обстановку, пополнить библиотеку новыми книгами, выписать несколько журналов…
А в окно на мечтавшую Ираиду Филатьевну глядела мириадами блестящих глаз пахучая летняя уральская ночь; прииск и река Коковинка были затянуты белым туманом; горы при неверном освещении молодого месяца казались выше, пирамидальные верхушки елей и пихт вырезывались на голубом фоне северного неба каждой своей веточкой; где-то проскрипел в осоке коростель, и ухнул в лесу филин. Одним словом, это была одна из тех чудно-поэтических, тихих и полных грез, северных ночей, когда человек точно тонет в окружающей его сладкой дреме.
Да, ночь была чудо как хороша и, как настоящая красавица, щедро рассыпала кругом себя дары и блестки своей красоты. Самый воздух, напоенный ароматом лесных цветов и травы, кажется, не смел шевельнуться, чтобы не нарушить чудной гармонии, охватившей тихо и торжественно спавшую землю. Ночные тени сгустились у опушки леса, залегли темными пятнами по логам и впадинам, а там вверху, в бездонной голубой выси, разливалось трепетное голубое сияние лихорадочно горевших серебряных звезд, точно алмазная пыль; широкие полосы лунного света выхватывали из ночного мягкого сумрака стрелки елей и пихт и ложились на покрытую росой траву матовыми фосфорическими пятнами.
– Как это все хорошо!.. – проговорила вслух Ираида Филатьевна, с жадностью дыша полным свежести летней ночи воздухом.
Но она не замечала творившихся пред ее глазами красот природы: все чувства и мысли были сосредоточены, как в фокусе, на одной идее. Да, теперь все было хорошо. Ираида Филатьевна с удовольствием припоминала свой последний «случай», когда она поступила переводчицей на Коковинский прииск. Много она пережила на своем веку, но похоронить себя в глухом лесу, в обществе каких-то сомнительных иностранцев – это было с ее стороны очень смелым шагом, на который она решилась с большим трудом. Впрочем, она была достаточно гарантирована тем, что ш-г Пажон был очень порядочный человек, как она убедилась с первого знакомства с ним, хотя он и был легкомыслен и говорил, как истый француз. Сначала она долго относилась скептически к этому фантазеру – инженеру, который помешался на идее оживить русскую золотопромышленность усовершенствованными способами механической промывки золотоносных песков. Потом… потом повторилась одна из тех историй, которые вечно останутся новыми: в одно прекрасное утро Ираида Филатьевна сделалась подругой ш-г Пажона. Это случилось как-то само собой, и стороны не обольщали себя иллюзиями.
– Если вы хотите, мы завтра повенчаемся, – предлагал m-r Пажон в порыве великодушия.
– О нет… Мы и без этого успеем еще разойтись, когда надоедим друг другу, – ответила Ираида Филатьевна.









































