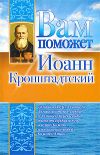Читать книгу "Св. Иоанн Креста"
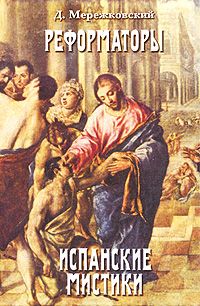
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Религиозные тексты, Религия
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
4
«Багрянородными», «Порфирогенатами», «Рожденными в царственном пурпуре», назывались первенцы-наследники византийских императоров. Таким багрянородным, в царственном пурпуре святости рожденным, был и св. Иоанн Креста. «Будущей великой святости являл он все признаки». «Illustre futurae sanctitatis specimen praemonstrabat». В святости он жил от самого раннего детства. «Adhuc in puerili et tenerrima aetate constitutus», – этому приговору в так называемой «Апостолической Тяжбе», Procursus Apostolicus, здесь перед увенчанием нового святого Римской Церкви проверяются в жизни его необходимые канонические признаки святости, – этому приговору судей, может быть, не следует верить вполне, потому что это лишь общее место таких Апостолических Тяжб. «Более небесная, чем земная душа». «Серафим, сошедший с неба, на земле». «Свят был еще во чреве матери», – тоже лишь общие места в житиях (Dem., 4). Но, кажется, нельзя не поверить свидетельству св. Терезы Иисуса, пятнадцатилетней сотрудницы, духовной дочери св. Иоанна Креста: «Всю жизнь он был святым» (Вrunо, 316). «Брат Иоанн невинен, как двухлетний младенец», – будут говорить о нем, уже тридцатилетнем, и другие, лучше всего его знающие люди (Вrunо, 136).
Если в религиозном опыте и догмате христианства о первородном грехе заключена непреложная истина, то все люди рождаются грешными, и никто из них от рождения не свят. Грешным родился и св. Иоанн Креста, но в наиболее возможном приближении к святости. «Святость у него была такая, какая только может быть у человека в жизни земной». «Tanta (santidad) cuanta una pura criatura podia tener en esta vida», – скажет св. Тереза (Вrunо, 476). «Ангелы – мои и Матерь Божия – моя, los ángeles son mios y la Madre de Dios», – говорил, будто бы, маленький Жуан, по свидетельству житий. Но если он и не говорил такими словами – в них слишком внятно слышится голос взрослых людей, подражающих детскому, – то, может быть, в этих словах сделана попытка выразить то, что он чувствовал и чего не мог бы выразить никакими словами, – такое касание к мирам иным, какое только человеку возможно.
«Он был всю жизнь святым» – это значит: внутреннего переворота, «обращения» от мира к Богу, от греха к святости, какой был у ап. Павла, у св. Августина, у св. Франциска Ассизского и почти у всех великих святых, у Иоанна Креста не было вовсе: вся жизнь его – один непрерывно восходящий путь к святости.
5
«Я – крестьянский сын», – хвалится Лютер, потомок тюрингенских рудокопов и пахарей. «Я – сын бедного ткача», – хвалится с иным чувством и св. Иоанн Креста, потомок благородных рыцарей Иэпесов (Вrunо, 248). «В бедности он родился, pobremente nació» – в этих двух словах лучше всего выразил старший брат его, Франциск, главное в детстве Иоанна – то, что было ему в начале жизни нужнее всего (Baruzi, 65). Кажется, если бы надо было ему самому выбрать себе детство, он выбрал бы именно то, какое выпало ему на долю.
Путь св. Франциска Ассизского – от богатства к бедности – не нужен св. Иоанну Креста: он уже сразу там, куда Франциск с таким бесконечным усилием шел. Даром получил Иоанн то, за что заплатил так дорого Франциск, – «обнищание», «обнажение» от всего, desnudez. Прекрасная Дама, Бедность, качала колыбель Иоанна и баюкала его страшной для всех, а для него от всякого страха освобождающей песенкой:
Не легкого желай, а трудного…
Не сладкого, а горького…
Не большего, а меньшего,
Не высшего, а низшего…
Желай не желать ничего.
Этим начал он жизнь; этим и кончит: вся она путь от Ничего к Всему.
6
Если бы добрые люди не помогали молодой вдове, с тремя малолетними детьми – старшим сыном, Франциском, средним, Луисом, и младшим, Жуаном, – то все они погибли бы. Но и те, кто помогали, сами были так бедны, что не могли их спасти, и туже, все туже затягивалась на шее Каталины мертвая петля нужды. Самые черные дни наступили для нее во время тяжелой болезни маленького Луиса, когда она вынуждена была снова оставить работу так же, как во время болезни мужа. «Слава Богу, не будет больше страдать!» – подумала она, когда Луис умер, и двум остальным едва не пожелала того же.
Сидя без свечи в наступающих сумерках, варила она из последних припасов на последней вязанке хвороста молочную похлебку для детей, когда вспомнила вдруг, как маленький Лу, – так называла Луиса, – перед самою смертью попросил у нее молока, но не было и капли, и она должна была напоить его водой. «Клювы свои раскрывают дети ворона, и Ты насыщаешь их, Господи», – вспомнила псалом и подумала: «Ворона детей насыщает Господь, а мои умирают от голода». Вспомнила также Евангелие: «Не заботьтесь для жизни вашей, что вам есть и что пить… Взгляните на птиц небесных: не сеют они, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» «Нет, – подумала, – не лучше, если птиц небесных питает Отец, а люди умирают от голода. Что же это значит?..» И как будто вдруг кто-то шепнул ей на ухо: «Значит, что Сын лжет об Отце!» Это была такая же страшная мысль, как и та – о смерти мужа. «Я его убила!» – одна из тех мыслей, от которых люди сходят с ума или убивают себя, потому что не могут их вынести. Чтобы ничего не видеть, ни о чем не думать, закрыла глаза. Долго ли так сидела, не помнила, а когда, вдруг почувствовав чье-то присутствие, открыла глаза, то увидела маленького Жуана, стоящего перед ней и смотревшего на нее так, как будто он знал, о чем она думает. И что-то было в лице его такое неизвестное, далекое и чужое, что ей сделалось страшно; точно он и не он, – на него похожий, но другой, – его двойник.
«Что ты, Жуан?» – спросила чуть слышно, и, когда он ничего не ответил, продолжая смотреть на нее все тем же знающим взором, ей сделалось еще страшнее. Но вдруг лицо его изменилось: исчез двойник и снова был настоящий Жуан, родной, роднее для нее всего, что есть в мире. Кинувшись к ней на шею, он крепко обнял ее, поцеловал и шепнул ей на ухо: «Все хорошо будет, не бойся, – Он сейчас придет…» «Кто придет?» – спросила она. Малый опять ничего не ответил и, оглянувшись на дверь, прислушался. «Кто придет?» – повторила она. «Знаешь сама, – зачем спрашиваешь?» – ответил он, наконец, и опять прислушался. «Вот Он идет! слышишь?» – проговорил он с такой уверенностью, что и она прислушалась, но ничего не услышала. И опять ей сделалось страшно, но уже другим страхом. «Что с ним такое?» – подумала. «Не заболел бы и он, как Лу…» Руку приложила ко лбу его, пощупала, нет ли жара. Но жара не было. И опять вернулся прежний страх неизвестного.
Вдруг постучались в дверь. Встать хотела она, чтобы открыть, но не могла – ноги подкосились от страха. Мальчик подбежал к двери, открыл ее, и вошел знакомый старичок – пастух с очень добрым, но немного полоумным, навсегда как будто удивленным и недоумевающим лицом.
«Добрый вечер, донья Каталина», – поздоровался он и раскланялся с тою рыцарскою любезностью, которая свойственна была самым простым людям в Старой Кастиллии. «Доньей» назвал он ее потому, что так называли ее все, из уважения не к мужу, а к ней самой, и то, что она была почти нищая, этому нисколько не мешало, – напротив: нищих иногда уважали за благородство души больше, чем богатых, все по тому рыцарскому духу Старой Кастиллии.
Медленно, с тихою важностью, старичок подошел к столу, поставил на него большую корзину и начал вынимать из нее хлеб, сыр, яйца, пирог с голубями, окорок, медовый сот, кувшин с молоком, кринку со сливками и две бутылки вина – такое пиршество, какое никогда не видно было в этом бедном доме.
«От кого это, Ридриго?» – спросила Каталина, не веря глазам своим от удивления.
«Кушайте на здоровье, донья Каталина, и да хранит Господь вас и детей ваших, а от кого, не ведено сказывать», – ответил старичок, и сколько она ни расспрашивала, только лукаво усмехался, головой покачивал, подмигивал и все повторял: «Не велено сказывать!» С тем и ушел.
«Что это, – ответ на те страшные мысли о сытых птицах и голодных людях, – или, может быть, все очень просто?» – подумала она и вспомнила богатую, благочестивую и добрую женщину, у которой жила до замужества и которая потом уехала неизвестно куда; может быть, вернулась и, услышав о нужде ее, прислала ей эти припасы. Но если так, то почему же «не велено сказывать»? И как узнал об этом Жуан? Он никогда не лжет, и, если говорит, что никто ему не сказал, значит, так и было. Как же узнал? Или, в самом деле, ответ?
Стоя перед ней, мальчик смотрел на нее таким же, как давеча, глубоким, в душу ее проникающим взором, как будто знал, о чем она думает, но теперь уже не казался далеким и чужим, как давеча, а близким был и родным, как никогда. И вдруг захотелось ей сказать ему все. Но тотчас же, опомнившись, сама на себя удивилась: «С ума я сошла, можно ли об этом говорить с ребенком!» И только что это подумала, как почувствовала, что и ни с кем об этом нельзя говорить, потому что словами ничего не скажешь, и поняла, что это еще не ответ, а только вещий знак того, что ответ будет.
Мальчик, продолжая смотреть на нее молча, улыбнулся ей так, как будто и эти мысли ее угадал. Потом, подойдя к столу, начал с детским любопытством рассматривать припасы. «Сколько добра! – воскликнул он радостно. „Ну теперь уже голодать не будем… А это что такое?“ – удивился, увидев огромный, золото-чешуйчатый, невиданный плод – только что в Европу из Нового Света привезенный ананас. „Вот так яблоко, больше моей головы!“
И засмеялся, запрыгал, захлопал в ладошки от восхищения, совсем как маленький ребенок. Трудно было поверить, что мог смотреть и говорить так, как только что смотрел и говорил.
«Все уже знает, только еще не может сказать, но когда-нибудь скажет и все хорошо будет!» – подумала мать, глядя на сына с такою же радостью, с какою Бог в конце творения увидел все, что сотворил, и сказал: «Все хорошо весьма» (Бт., 1, 31).
7
«Очень хорошенький и умненький мальчик, muy bonito у muy agudo, но все-таки самый обыкновенный ребенок» – таково было впечатление тех, кто видел маленького Жуана в первый раз (Вrunо, 73–76). Багрянородного наследника святости, «Ангела, сошедшего с небес», никто не угадывал в нем. И даже те, кто ближе подходили к нему и вглядывались в смуглое лицо его с тонкими чертами, в которых видна была благородная «светлая кровь» Иэпесов, с черными, глубокими и ясными глазами, с тихой, не то чтобы грустной, но, может быть, для ребенка слишком задумчивой улыбкой, даже и те чувствовали в нем не что-либо святое», «ангельское», а только немного странное, на других детей непохожее, но бесконечно милое: так проходящий ночью по лесу чувствует вдруг в темноте благоухание невидимого цветка.
Как скуден и горек хлеб ткачей, знала Каталина по опыту своему и сына своего, Франческо, – он был на десять лет старше Жуана, – который сделался превосходным ткачом, но к двадцати годам, женившись, едва мог прокормиться с женой на скудный заработок: так была сбита плата за труд множеством ткачей в городке Фонтиверосе. Знала Каталина и то, как поглощает это ремесло всего человека: вот почему не хотела она обрекать на него любимца своего, Жуана, но искала для него другого ремесла, которое давало бы ему лучший заработок и хоть бы малый досуг для школьного учения, чтобы не погибли даром заложенные в нем и только ею одной уже угаданные, великие дары духа. В поисках такого ремесла она отдала его на выучку разным мастерам, и он пробовал сделаться плотником, портным, резчиком по дереву и живописцем или просто маляром. Но как бы ни был трудолюбив и усерден, не мог выучиться ни одному из этих ремесел (Baruzi, 65. Вrunо, 6, 376), может быть, потому, что вообще в жизни не мог или не хотел остановиться ни на чем, точно не ходил по земле, как все люди ходят, а скользил по ней, как по льду скользят конькобежцы или водяные пауки с тончайшими лапками, оставляющими на водяной поверхности почти невидимый след, скользят по воде. С детства уже как будто был верен будущей заповеди своей:
Только что ты на чем-нибудь остановишься,
Как перестанешь погружаться во Все.
И будущее великое открытие свое – вечное в мире взаимодействие двух премирных начал, – Ничего и Всего, Nada у Todo, как будто уже в детстве предчувствовал: внешняя жизнь становилась для него уже и в начале жизни почти Ничем, а внутренняя – Всем.
8
Как-то раз, ночью, заглянув к нему в горенку, – купленная на ярмарке бумажная иконка Божьей Матери, с неугасимою перед нею лампадкой, делала горенку похожей на монашескую келью, – мать увидела, что он спит не на постели, а на вязанке колючего тернового хвороста (Dem., 4). «Это еще что такое! – воскликнула она, разбудив его, как будто с гневом. – Что ты делаешь, сумасшедший. Ступай сейчас в постель!»
Мальчик хотел что-то сказать, но промолчал, только, вставая с хвороста, посмотрел на нее так, как внезапно разбуженный смотрит на мягкую постель, с которой подняли его насильно, и покорно исполнил приказание матери.
А в другой раз, зайдя к нему в спальню далеко за полночь, она увидела его стоящим на коленях, на том же хворосте, и погруженным в молитву так, что он не слышал, как она вошла. Хотела его опять побранить, но на лице его было такое блаженство, что души у нее на это не хватило, и потихоньку вышла из горенки (Вrunо, 7, 376). А утром на следующий день, – это был один из их любимых праздников, Рождество Богородицы, – перед тем как идти в церковь, спросила его: «О чем ты больше всего молишься, Жуан?» «Не знаю… не помню», – ответил он и, немного подумав, прибавил: «Я не молюсь ни о чем…» И еще прибавил, видимо желая и не умея выразить с точностью того, что чувствовал: «Я молюсь ни о чем. Лучше всего ни о чем не молиться: тогда все уже есть и все хорошо…» «Что это значит: молиться ни о чем?» – удивилась она.
Он ничего не ответил, только посмотрел на нее тем же глубоким, в душу ее проникающим взором, как тогда, когда она думала о сытых птицах и голодных людях, и в лице его промелькнуло то же, как тогда, неизвестное, такое далекое и чужое, что ей сделалось страшно; точно он и не он, – на него похожий и другой, – его двойник. Но промелькнуло – исчезло, и опять был настоящий Жуан, близкий и родной, роднее для нее всего, что было в мире.
В эту минуту послышался благовест.
«В церковь пора! Я сейчас, только шляпу возьму», – заторопился он и выбежал из комнаты, как будто боясь, чтобы она опять не заговорила о том, о чем он не хотел говорить.
Давешний страх не исчез, но вспомнился другой, величайший, когда-либо в жизни ею испытанный страх.
Если бы прочла она в житии св. Иоанна Креста: «Старческая мудрость была у него с детства… так что и другие дети не смели ни говорить, ни делать при нем что-либо дурного», – если бы она это прочла, то, вероятно, усмехнулась бы, потому что слишком хорошо знала, что старческого не было в нем ничего, а если была та детская мудрость, о которой сказано: «Из уст младенцев… Ты устроил хвалу» (Пс., 8, 3), то было и безумие детское, тот буйный избыток жизни, от которого рождаются иногда опасные детские шалости (Вrunо, 10, 376. Demim.,4, 26). Если бы этого не было, то не случилось бы то, от чего испытала она тот великий страх.
9
Это случилось года четыре назад, когда Жуану минуло лет шесть. В город Медина-дель-Кампо, куда Каталина ненадолго за работой приехала, Жуан играл однажды с детьми у старого заброшенного колодца на пустыре близ тамошней больницы. Игра состояла в том, чтобы пробежать по узкой и скользкой от сырости, каменной стенке колодца; кто пробегал по ней чаще и храбрее всех, выигрывал одно из полдюжины яблок, похищенных в соседнем монастырском саду, зеленых и кислых, почти несъедобных, но не менее соблазнительных для игроков, чем погубивший род человеческий плод с Древа Познания. К выигрышу был ближе всех Жуан: ему оставалось пробежать еще один только раз, и он скользил по старой, узкой стенке легко, как тень, с такой безумной отвагой, что у смотрящих на него захватывало дух. Вдруг главный соперник его, пробежавший только один раз меньше его, закричал, должно быть, из зависти к Жуану: «Сторож идет!»
Сторожа этого дети боялись как огня, потому что он драл их за уши и бил палкой за похищенные яблоки и другие шалости.
Услышав крик, Жуан оглянулся и, споткнувшись о скользкий камень, потерял равновесие, тихо качнулся и упал в колодец. Все произошло так внезапно, что дети не сразу поняли, что случилось, а когда по далекому на дне колодца всплеску воды поняли, то так испугались, как бы им не оказаться в ответе, что разбежались по лугам, попрятались и, только прождав больше времени, чем нужно было, чтобы Жуану десять раз потонуть, опомнились и начали звать на помощь.
Каталина, жившая у знакомой ткачихи в маленьком домике недалеко от колодца, услышав крики и увидев из окна бегущих людей, вышла на крыльцо и спросила, что случилось. «Мальчик в колодец упал!» – ответил ей один из бежавших. «Какой мальчик?» – опять спросила она, но тот, кто ей ответил, был уже далеко.
«Ох, Каталина, бедная, пропала твоя головушка!» – завыла издали, увидев ее, бежавшая от колодца хозяйка ее. «Мальчик твой Жуан…»
Больше Каталина ничего не слышала и не видела. Так же тихо покачнулась, как давеча Жуан на стенке колодца, и упала бы, если бы кто-то не поддержал ее и не усадил на ступеньку крыльца. Всю ее пронзил, как ледяная молния, неведомый людям, потому что невообразимый и незапоминаемый ужас, уничтожающий душу, как та, предсказанная в Апокалипсисе, «вторая смерть, от которой нет воскресения». Страшным усилием воли одолела она наплывший на нее мрак беспамятства, открыла глаза и увидела бежавших мимо людей с шестами, баграми, лестницами, веревками и фонарями, чьи тускло красные на солнце огни казались похоронными. В общем крике и шуме, сколько ни прислушивалась, ничего не могла услышать как следует. «Нет, коротка, до дна не хватит», – сказал вдруг кто-то так близко от нее и внятно, что она услышала. «А эта?» – спросил другой. «Эта хватит», – ответил первый. «Петлю только надо затянуть потуже, чтобы не развязалась, когда потащим наверх».
Она вдруг поняла, что говорят о веревках, которыми будут подымать из колодца Жуана, живого или мертвого.
«Только бы петлю подмышки надеть догадался», – опять сказал кто-то.
«Коли не дурак, догадается, небось», – ответил другой.
«Жив!» – подумала она, и ужас от нее отступил, но ненадолго.
«Голос-то все еще подает?» – спросил кто-то.
«Давеча подавал, а сейчас не слышно», – ответил другой.
«Мертв!» – подумала она, и ужас к ней опять приступил. То жив, то мертв; между надеждой и ужасом то взлетала, то падала, как на исполинских качелях качалась. Кажется, мучилась бы меньше, если бы наверное знала, что мертв.
Что было потом, помнила, как страшный сон. Кто-то помог ей встать и подойти к толпе, вдруг затихшей и расступившейся перед нею так, как расступается толпа перед тем, кто страшен для нее или свят.
Подойдя к колодцу, увидела двух дюжих молодцов, подымавших что-то на двух перекинутых через стенку колодца веревках. Медленно двигались веревки на двух чуть-чуть поскрипывавших блоках, и вытянутые концы их свивались в кольца. Вид этих колец, точно живых, шевелившихся, как змеи, был ей так страшен и отвратителен, что она старалась на них не смотреть, но все-таки жадно смотрела.
«Тише, тише, ровней, как бы головой о стену не ударился», – сказал один из подымавших, и движение веревки еще замедлилось.
Вдруг зачернело над стенкой колодца что-то маленькое, круглое. Голову Жуана Каталина узнала сразу. Мокрые волосы прилипли к голове, тихонько качавшейся в лад с движением веревки. Лица Каталина не видела.
«Жив или мертв?» – в последний раз качнулись качели между надеждой и ужасом, и вдруг остановились навсегда. Жуан увидел мать и улыбнулся ей, и она обрадовалась так, что все испытанные ею муки перед этой радостью были ничто.
10
Мальчика перенесли в домик, где жила Каталина, и вместе с хозяйкой она осмотрела тщательно все тело его, не ранен ли он; но не было на нем ни синяка, ни царапины.
«Ну, Каталина, благодари Пресвятую Деву Марию. Никто, как Она, спасла дитя твое!» – воскликнула хозяйка и перекрестилась.
Жуан, оставшись наедине с матерью, рассказал ей о том, что было с ним в колодце, больше всего удивилась она тому спокойствию, с каким он об этом рассказывал. Упав в колодец и долетев до воды, три раза опускался он в глубину и три раза подымался на поверхность, пока наконец не нащупал прибитой к стенке колодца узкой и скользкой доски. Кое-как он влез на нее и сел, стараясь не двигаться, потому что от каждого движения гнилая доска гнулась под ним и если бы сломалась, то он утонул бы наверное. Так и просидел на ней, пока не спустили веревку. Петлю нащупав, продел ее под мышки, крепко обеими руками ухватился за веревку и почувствовал, что подымается.
«Страшно было на дощечке сидеть?» – спросила Каталина и тотчас подумала, что лучше бы не спрашивать, не напоминать страшного. Но он ответил все так же спокойно: «Нет, ничего; только за тебя страшно. Ох, мама, какой же я гадкий мальчишка, негодный, что я с тобою сделал! И зачем ты меня не высекла как следует?..» Губы его задрожали; он готов был заплакать. Но она обняла его и поцеловала так нежно, что он успокоился и, немного помолчав, с радостным любопытством спросил: «Мама, а почему днем звезда?»
«Какая звезда?» – удивилась она.
«Светлая, большая. Когда я на доске сидел, то глянул наверх, а там сине, сине, как ночью, и мигает звезда, точно на меня смотрит. И мне хорошо стало, спокойно, вот как с тобой сейчас…»
Вспомнила Каталина, что если днем из глубины колодца на небо смотреть, то оно кажется темным, как ночью, и на нем горят звезды. «Это была Ее, Пресвятой Девы Марии, звезда; никто, как Она, дитя мое спасла!» – подумала Каталина. Верила она, что сын ее чудом Божьим спасен; но если бы знала, как чудо это будет искажено людьми в грубом и плотском, – самое святое и целомудренно-скрытое в нем бесстыдно искажающим вымыслом, то, может быть, возмутилась бы. В вымысле этом сама Пресвятая Дева Мария держит на руках Своих дитя над водою, пока к нему не спустят веревку. Но если орудием чудотворной силы Божьей были не сияющие руки Богоматери, а черная гнилая доска, то чудо от этого не уменьшалось, а увеличивалось. И, глядя на дневную звезду, может быть, чувствовал Жуан то, что действительно было: «Ангелы – мои, и Матерь Божия – моя!» (Dem., 5–10. Bruno, 4, 378).