Текст книги "Маленькая Тереза"
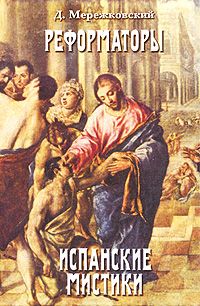
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Религиозные тексты, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
15
Было ей восемь лет с половиной, когда отец отдал ее приходящей ученицей в школу женской обители Св. Бенедикта в Лизье, находившейся в древнем аббатстве XI века, похожем на крепость или тюрьму, холодном и мрачном даже в самые жаркие и светлые, летние дни. В школе, среди чужих людей, почувствовала она себя, как птенец, выпавший из теплого и мягкого, родного гнезда на жесткую и холодную землю. Но это соприкосновение с внешним миром было ей необходимо. До сих пор чужие люди мелькали мимо нее, как тени и призраки; только родные существовали для нее действительно; а здесь, в школе, поняла она, что и чужие существуют и могут делать ей добро и зло. Радоваться ли ей или огорчаться оттого, что мир обогатился таким множеством новых людей, она еще не знала, но уже чувствовала, что надо ей будет с этим считаться и что, смотря по тому, будет ли и сама она делать людям добро или зло, погибнет она или спасется. Если от горя о смерти матери выросла внутренне, лично, то от этого школьного опыта выросла и внешне, общественно.
Так хорошо училась всем наукам (кроме математики; в школе иной, высшей, будет учиться сама и учить других математике высшей), так хорошо училась, что скоро сделалась первой ученицей, что возбуждало зависть в сверстницах ее, а от зависти, как это всегда бывает, рождалась и ненависть. Была и другая причина этой ненависти, более глубокая, чем школьная зависть. Будущему избраннику Божьему, святому или герою, люди никогда не прощают того, чем он будет. Верным чутьем угадывая в нем существо иной, высшей природы, люди ненавидят его: так на птичьем дворе домашние утята ненавидят попавшего к ним дикого утенка и рады были бы заклевать его до смерти; или на псарне щенки ненавидят волчонка и рады были бы загрызть его до смерти. Чувствуя и в Терезе нечто подобное, школьницы делали ей зло, какое только могли: дразнили ее, смеялись над ней и наблюдали, не сделает ли она чего-нибудь, на что можно было донести матери игуменье. Это видела Тереза и тяжело страдала. Только одно могло бы утешить ее – что учительницы за доброе поведение и быстрые успехи в науках полюбили ее, как родную. Но и они чувствовали в ней иногда что-то странное, чужое, как бы существо иного мира, больше всего тогда, когда она задавала им такие вопросы, как эти:
«Почему Бог некрещеных, никакого зла не сделавших младенцев осуждает на вечные муки?»
«Может ли Бог принудить всех людей спастись и если может, то почему же этого не делает?»
Не только школьные учительницы, но и все учителя Церкви не могли бы ответить на эти два вопроса и если бы услышали их из уст маленькой Терезы, то удивились бы им так же, как в Иерусалимском храме учителя Израиля удивлялись тому, что им отвечал и о чем их спрашивал Отрок Иисус.
16
Вместе с бременем школьного горя пало на слабые плечи ее бремя нового горя, тягчайшего, от которого она едва не погибла.
В первые дни по смерти матери любимая сестра Терезы Полина, взяв ее к себе однажды на колени, утешала без слов, только тихонько баюкая, совсем как мать, потому что больше всех остальных дочерей не только лицом, но и всеми движениями была похожа на мать. Это почувствовав и крепко прижавшись к груди ее, как прижималась только к груди матери, Тереза шепнула ей на ухо:
«Ты будешь мамой моей, хочешь?»
Полина ничего не ответила ей, крепче только прижала ее к себе. И, ощутив слезы ее на лице своем, Тереза тоже заплакала в первый раз по смерти матери утоляющими горе слезами и в первый раз почувствовала, что все еще любит умершую мать, как живую, и что все еще любит ее и та, как живая. Эту минуту вспоминала она потом всю жизнь каждый раз, когда повторяла слова Победившего смерть: «Верующий в Меня не увидит смерти вовек».
Только что начала она помнить себя, как решила идти в монастырь вместе с Полиной, чтобы никогда не разлучаться с ней. Это желание еще усилилось, когда Полина сделалась ее второй матерью. Однажды Тереза спросила ее, хочет ли она идти вместе с ней в монастырь. Та ответила, что хочет, и обещала подождать, пока она вырастет. На семь лет Полина была старше ее – разница возрастов достаточная для того, чтобы старшая считала младшую ребенком. Так и Полина считала ребенком Терезу, но ошибалась: возрастом духовным была она ей не только ровесница, но и старше ее. Очень неосторожно обещала ей Полина то, чего не хотела исполнить. Свято поверила Тереза в ее обещание, а когда узнала, что сестра обманула ее и ждать ее не будет, то пришла в такое отчаяние, что едва не стоило ей жизни. «Я была тогда еще так бесконечно слаба, что считаю великою милостью Божьей, что вынесла это непосильное для меня испытание и не умерла», – вспоминает она. Мучилась больше всего потому, что ранее шестнадцати лет не могла, по уставу Кармеля, постричься, а так как ей было только девять, то должна была разлучиться с Полиной на семь лет, что казалось ей вечностью. Мысль, что и вторая мать умрет для нее так же, как первая, была для нее убийственной. Смертью матери нанесенная душе ее и заживать уже начинавшая рана снова открылась, и кровь из нее хлынула так, что она умерла бы, если бы только чудом не спаслась.
Трудно ей было простить Полину, но еще труднее Того, Кто их разлучил. Если умом еще не понимала она, то уже чувствовала сердцем, что две равновеликие и противоречивые любви – земная, к Полине, и небесная, ко Христу, – раздирают ей сердце; что надо сделать между ними выбор и принести в жертву одну любовь другой. Но чем больше хотела выбрать, тем меньше могла. «Девочка эта страшно упряма; если скажет „нет!“, то с ней уже ничего не поделаешь; можно запереть ее на целый день в погреб, – все равно не скажет: „Да!“ – говорила о трехлетней Терезе мать. Так и теперь: если бы сказала: „Я люблю Полину больше Христа!“ – то можно бы запереть ее не на целый день в погреб, а на целую вечность в ад; все равно не сказала бы: „Я люблю Христа больше Полины!“ Впрочем, ад для нее уже наступил. Лучше было бы ей умереть или сойти с ума, чем мучиться в этом аду теми вечными муками здесь еще, на земле, которые св. Иоанн Креста называет „Темною Ночью Духа“. В первый раз сошла она в этот ад после разлуки с Полиной; будет сходить в него еще много раз, все глубже и глубже, все с меньшей надеждой выйти из него когда-нибудь.
Мучилась два года в этом аду и, наконец, заболела, но скрывала ото всех, чтобы не начали ее расспрашивать о причинах болезни, что муки ее только бы усилило.
17
Страшный день наступил: 2 октября 1882 года Полина произнесла первый монашеский обет, и двери Кармельской обители закрылись за ней навсегда; родная Полина сделалась для Терезы чужою Агнессой Иисуса.
Если кто не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер… тот не может быть Моим учеником (Лк., 14, 26), —
резали эти слова, как ножи, сердце Терезы, когда прощалась она с Полиной сквозь железную решетку Кармельской обители и плакала над ней, живой, как над мертвой.
Скоро наступил для нее еще более страшный день пострижения Полины: «В гроб легла она, когда произносила обет, а когда постригут ее, то заколотят гроб», – думала Тереза. В этот день лежала она, больная, но встала через силу, отправилась в обитель и присутствовала на пострижении Полины, а после него пошла на свидание с нею. Так же как тогда, в первые дни по смерти матери, Полина взяла ее к себе на колени; так же крепко прижав к груди, утешала ее без слов, только тихонько баюкая, совсем как мать; так же плакала Тереза, но теперь уже иными, безнадежными и не утоляющими горя слезами. Между ней и Полиной были те страшные, как прутья решетки, слова: «Если кто не возненавидит…» Облачно-белые, легкие одежды Невесты Христовой жгли Терезу, как железо, раскаленное добела. Как ни ужасалась того, что чувствовала, и как с этим ни боролась, лютою ревностью ревновала она Невесту к Жениху.
После этого второго свидания с Полиной болезнь Терезы усилилась так, что врач хотя и успокаивал родных, но про себя думал, что больная не выживет. Хуже всего было то, что болезнь ее была врачу непонятна, и он не знал, как ее лечить, потому что не видел, что не в теле причина ее болезни, а в душе. Страшные припадки этой болезни напоминали те, какие бывают у одержимых.
«Страшной болезни моей я не могу описать, – вспоминает Тереза. – Я говорила то, чего не думала, и делала то, чего не хотела; я почти всегда была, как в бреду, а между тем я уверена, что была в полной памяти. Целыми часами длились у меня частые обмороки, такие глубокие, что я не могла пошевелиться, но и в них я очень ясно слышала все, что вокруг меня говорили даже тихим голосом, и до сих пор я это хорошо помню. О, какой ужас внушал мне диавол! Я боялась всего: мне казалось, что постель моя окружена безднами, и гвозди в стене казались мне такими страшными обугленными пальцами, что я кричала от ужаса». Когда в комнату больной вошел однажды отец ее, держа шляпу в руке, ей почудилось вдруг какое-то неземное страшилище в ней, и она закричала от испуга так, что отец выбежал из комнаты, рыдая.
Дней через пять после второго свидания с Полиной Тереза в той же комнате лежала на постели; сестра ее, Леония, читала у окна; тут же была и другая сестра, Селина, а третья, Мария, вышла в сад.
«Мария! Мария!» – позвала больная тихим голосом.
Леония не обратила на это внимания, потому что привыкла к тому, что Тереза, в беспамятстве, часто звала Марию. Но вдруг она закричала так громко «Мария! Мария!», что та услышала из сада, прибежала, наклонилась над ней и сказала:
«Я здесь, Тереза, я здесь!»
Но, глядя прямо в лицо ее, больная не узнавала ее и продолжала звать:
«Мария! Мария!»
Может быть, звала Марию не земную, а небесную, чье изваяние стояло у изголовья постели. Что-то было в лице и голосе ее такое страшное, что сестры подумали, что она умирает, и сначала Мария, а потом Леония с Селиной, кинувшись к подножью изваяния, начали со слезами молиться:
«Помоги, спаси, помилуй, Милосердная!»
Дрогнуло что-то в лице Терезы, как в лице четырехдневного Лазаря, когда услышал он плач над собой Иисуса, Творца над тварью, а потом повелевающий голос, тот самый, которым вызвано было из не-сущего сущее, из хаоса мир: «Лазарь, изыди!» Дрогнуло что-то в лице ее, и медленно-медленно, с бесконечным усилием, остановила она взор на молящихся и, как будто вдруг что-то поняла, зашептала молитву все громче и громче; требовала, повелевала, потому что всякая настоящая молитва есть повеление, чтобы смерть сделалась жизнью и чтобы то, чего не было, было, чтобы совершилось чудо.
И чудо совершилось: ожило вдруг изваяние; задешево купленный в лавке благочестивых игрушек, жалкий, мертвый, кощунственный идол сделался Матерью жизни, Царицей цариц; так же медленно, как двигалась Тереза, сошла Она с подножья, приблизилась к больной и наклонилась над ней, с улыбкою такой нездешней благости и прелести, что сердце Терезы растаяло, как лед под вешним солнцем, и хлынули из глаз ее те блаженные слезы, которыми всякая земная печаль утоляется. «Буду жива!» – подумала она и не ошиблась: к вечеру ей сделалось легче, а к утру была она уже совсем здорова.
Чудом казалось это исцеление не только родным, но и врачу, – так оно было внезапно.
18
Чудо подобно благоуханию от одежды пролетевшего Ангела: надо человеку дышать осторожнее, чтобы это едва уловимое благоухание не рассеялось в воздухе.
Самое в мире стыдливое есть чудо: пристального взгляда довольно, чтобы оно исчезло так, что уже неизвестно, было оно, или не было. Это чувствовала Тереза. «Дева Мария улыбнулась мне, какая радость! Но я никому об этом не скажу – иначе все исчезнет», – думала она и никому ничего не говорила. Тайну скрывать от Марии было ей труднее всего, потому что, как она узнала от Селины и Леонии, первая начала молиться о ней и вымолила чудо Мария и потому что чувствовала Тереза, что жестоко обидит ее, если не скажет ей всего; да и видно было по тому, как Мария расспрашивала ее, что уже догадывалась почти обо всем.
«Подошла к тебе, наклонилась, и что же потом? – спросила она и посмотрела на Терезу с надеждой и страхом, что она утаит, не скажет всего.
«Подошла ко мне, наклонилась», – начала Тереза и не кончила.
«Ну, и что же?» – повторила Мария с большей еще надеждой и большим страхом.
«И улыбнулась», – кончила Тереза и почувствовала с ужасом, что выдала тайну, именно ту, которую надо было сохранить больше всего, и что случилось то, чего она боялась: сказала все, и все исчезло, только что была богаче богачей, и вот, нищая.
То же чувствовала она, с еще большей силою, на следующий день, в Кармельской обители, где уже сестры знали от Марии все и, набросившись на Терезу, как мухи на мед, начали ее расспрашивать о чуде с тем жадным и грубым любопытством, которое свойственно всем людям, а благочестивым особенно: был ли на руках Девы Марии Младенец Иисус и на голове Ее венец из звезд, и под ногами лунный серп; и какого цвета были одежды Ее, и хорошо ли пахло от них? и прочее, и прочее. Каждый новый вопрос был все грубее, кощунственней. Пресвятая Дева Мария, Матерь жизни, снова сделалась мертвым идолом. Очень хотелось Терезе убежать, но так ослабела от страха перед тем, что происходило в других и в ней самой, что не могла бежать: ноги отяжелели и не двигались, как в страшном сне. Нехотя отвечала она на самые нелепые вопросы, что не помнит. И одни из сестер сердились на нее, думая, что самое любопытное она скрывает от них, а другие начали сомневаться, было ли чудо. С ужасом чувствовала Тереза, что и она сомневается в нем; чем больше говорила о нем, тем меньше верила в него и тем больше казалось ей, что лжет и обманывает всех, потому что никакого чуда не было, а если и было, то она своими руками убила его.
Веру, может быть, потеряла не только в это чудо, но и во все чудеса и в Того, Кто их делает. Если так, эта потеря веры – та самая, что и в религиозном опыте св. Иоанна Креста постигает человека, погруженного в «Темную Ночь Духа». Хуже, чем у явных безбожников, это неверие святых, потому что те сами не знают, что делают, отрицая веру, а эти знают и все-таки делают.
«Господи, Ты один знаешь, как я страдала!» – вспоминает Тереза. Мало говорит она об этих первых муках от потери веры, но по тому, что говорит о позднейших, можно судить и об этих. «Сухость и сон, вот теперь единственные чувства мои к Иисусу». «Горькая сухость души была для меня хлебом насущным». Сердце у нее так сухо, как будто высушено было на адском огне (Ghéon, 122 – 123). «О, если бы вы знали, какие страшные мысли мучат меня! Это мысли отъявленных безбожников» (Laborda, 113). «Все, что я говорю о моих сомнениях, слишком слабо по сравнению с тем, что я чувствую; но я не хочу больше говорить об этом; я боюсь, что уже и так я слишком много сказала: я боюсь кощунства (Mardrus, 142). «Похули Бога и умри» – как говорит жена Иова, – вот чего боится Тереза: таков возможный конец ее «преисподнего опыта».
Кажется, в детстве были у нее три потери веры: первая – после смерти матери; вторая – после пострижения Полины, и третья – эта, после чуда исцеления. Будут и другие потом; каждая следующая хуже предыдущей, и хуже всех последняя, в смертный час.
Летчики знают, как опасны провалы в «воздушные ямы», такие внезапные, что если авион не выправить вовремя, то он падает в яму и разбивается о землю. Есть и в религиозном опыте Терезы, так же как у всех святых, такие «воздушные ямы» – потери веры. Каждый раз в последнюю минуту перед самым падением выправляет она не чужие, мертвые, как у летательной машины, а свои, живые, как у Ангела, крылья и, проносясь так близко к земле, что почти касается ее крылом, взлетает снова к небу, как ласточка. Чем больше ужас падения, тем упоительнее радость взлета. Но перед каждым падением помнит она, что может быть когда-нибудь и такое, что уже не взлетит, а упадет на землю и разобьется до смерти.
Что спасло ее в этом детском падении после чуда исцеления? То же, что будет спасать и во всех остальных, – смирение. «Дева Мария послала мне эту муку (потерю веры) для моего же блага: иначе гордость могла бы закрасться в мое сердце, между тем как в моем унижении я не могла смотреть на себя без отвращения и ужаса».
Главной движущей силой во всем ее религиозном опыте и будет смирение, понятое по-новому, не так, как понималось оно во всей бывшей до нее христианской святости, не как отрицание, а как утверждение человеческой личности в Боге. Здесь же начинается и сделанное ею великое, но все еще не понятое как следует, потому что не примененное к церковно-общественному действию, – открытие – «Маленький Путь Детства», который и есть не что иное, как это новое, личность не отрицающее, а утверждающее смирение.
19
В 1885 году, когда минуло ей четырнадцать лет, наступил для нее полдень, разделяющий короткую, двадцатичетырехлетнюю жизнь ее на две половины: в первой – направляла она волю свою только внутрь, на себя, а во второй – будет направлять ее и вовне, на души; в первой чудом только спаслась сама, а во второй будет спасать и других.
С маленького все начинается и здесь, как везде в жизни ее, – с маленького, впрочем, только физически, а духовно – огромного, как мир.
«Как-то раз, в конце обедни, когда вложенная между страницами молитвенника моего, изображавшая распятого Господа картинка выставилась так, что я могла видеть только одну из рук Его, пронзенную гвоздем и окровавленную, всю меня охватило вдруг новое, несказанное чувство: видом драгоценной, стекавшей на землю и никому не нужной Крови Его, сердце мое было растерзано так, что я решила вечно стоять у креста и собирать эту божественную росу, чтобы души людские ею орошать и спасать».
Маленькая французская мещаночка хочет (и будет) стоять на этом месте, самом святом и страшном в мире, у подножия Креста, рядом с Царицей Небесной, потому что верит и любит так, что ничего не боится ни на земле, ни на небе.
Первого спасает великого злодея Пранцини, осужденного за ужасные убийства на смертную казнь и такого нераскаянного, что он обрекает себя на вечную гибель. «Я хотела спасти его и, зная, что сама не могу этого сделать, предлагала, как выкуп за него, бесконечные заслуги Христа… и молилась так: „Господи, я верю, что Ты его простишь, и, если бы даже он до конца остался нераскаянным, я бы все-таки верила в это… Но так как в будущей борьбе моей за человеческие души это мой первый грешник, то я молю у Тебя только знака для моего утешения!“ И эта молитва моя была услышана.
Отец никогда не позволял нам, детям, читать газеты… но я, не боясь непослушания, все-таки читала в них все, что относилось к Пранцини. На следующий день после казни его я открыла газету «Крест» и что же увидела? Слезы выдали меня, так что я принуждена была убежать из комнаты. Я прочла, что Пранцини, отказавшись от исповеди, взошел на эшафот, и палачи уже влекли его на плаху, когда он вдруг обернулся и, схватив распятие, которое предлагал ему священник, трижды поцеловал святые раны Господни. Так получила я знак, о котором молилась, и это было для меня великою радостью. Жажда спасать человеческие души не проникла ли в сердце мое так же точно, как раскаяние – в сердце этого великого злодея, когда те же раны и ту же из них текущую кровь увидела и я, как он. Души людские я хотела напоить Святою Кровью, чтобы очистить их от греха, и вот уста первого же духовного сына моего прильнули к Божественным Ранам. О, какой это был несказанный ответ на мою молитву, и как с тех пор желание мое спасать человеческие души росло с каждым днем! «Дай мне пить», – слышала я тихий голос Иисуса у колодца Иакова; и вот какой обмен любви происходил между нами: я лила за души человеческие Кровь Его и возвращала их Ему, уже освеженные этою росою Голгофы, чтобы жажду его утолить; но чем больше я утоляла ее, тем собственная маленькая душа моя неутолимее жаждала, и сладчайшей для меня наградой была эта жажда».
Если понять как следует это милое детское чудо Маленькой Терезы, то нельзя не полюбить ее, как родную. Кто из нас, в самом деле, не был, хотя бы на миг, в самых тайных и безумных желаниях своих, великим злобным Пранцини; кто не отталкивал поданного ему распятия и не нуждался в такой молитве, какой молилась за этого злодея Маленькая Тереза?
20
Вымолить у Бога всех – всех спасти, не только добрых, но и злых, да будет «Восстановление всего», Apokatastatis pantôn, по слову Оригена и по слову Павла, «Да будет Бог все во всем» – вот главная движущая воля в религиозном опыте Маленькой Терезы.
Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино (Ио., 17, 21); эту молитву Сына к Отцу исполнит Мать Христа земная, ведущая к Матери Его Небесной – Духу. Всех скорбящих Матерь хочет спасти, всех добрых и злых одинаково. Главное орудие этого спасения – Кармель, «Братство совершенно Мариино», ordo totus Marianus, как называли его уже при основании Кармеля и будут называть всегда. Вот почему теперь, когда и в сердце Маленькой Терезы загорелось желание спасти всех (если даже такой злодей, как Пранцини, мог быть спасен, то могут быть спасены и все), – вот почему теперь бывшее у Терезы с самого раннего детства желание идти в Кармель, к Пресвятой Деве Марии, спасающей всех, усилилось так, как еще никогда. Но, чтобы исполнить это желание, нужно было согласие отца.
Духов день выбрала она, чтобы с ним говорить об этом. Выбор этого дня, может быть, не случаен, потому что Покровительница Кармеля, Пресвятая Дева Мария, Божия Матерь земная есть знамение Матери Его Небесной – Духа.
Был вечер ясного летнего дня. В главной аллее Бьюссонетского сада, той самой, где некогда явился ей призрак отца, старого, больного, сгорбленного, как под непосильной тяжестью, с невидимым лицом, которое закрыто было во что-то длинное и темное, страшное, – в этой самой аллее он сидел на скамье, один, и, глядя, как тихий свет вечерний гас на верхушках деревьев, сам похож был на этот тихий свет, потому что главное во всем существе его, так же как в существе Терезы, была тишина. Издали увидев его, вспомнила она почему-то об этом призраке так живо, как будто снова увидела его; подошла к отцу и стала рядом. Странно было видеть эти два лица вместе, так были они схожи, несмотря на различие возрастов: сорокалетний отец казался иногда моложе четырнадцатилетней дочери.
Он ничего не сказал, только тихо улыбнулся и, опять подняв глаза, начал смотреть то на верхушки деревьев, озаренные тихим светом вечерним, то на небо, как будто молился.
Долго молчали оба: любили так молчать вместе, потому что лучше понимали друг друга в молчании, чем в словах. Но теперь она молчала и потому, что боялась того, что должна была ему сказать, и очень жалела его. Любящая рука смертельно ранит любимого. Вспомнила, что жизни едва ей не стоила вечная разлука с Полиной, ушедшей в Кармель. «Выжила я, а что если он?..» – начала она думать и не кончила от страха и жалости. Заплакала, сама того не замечая.
Быстро повернулся он к ней, тихо привлек ее к себе и прижал голову ее к сердцу своему.
«Что ты, родная, о чем? – спросил он и прибавил с тою бесконечно тихою ласкою, с какой всегда произносил эти слова: – Маленькая королева моя…»
И она ему сказала все. Выслушал он ее спокойно, как будто знал, что она это скажет и, когда кончила, проговорил все так же спокойно:
«Очень ты молода и не так здорова, а как тяжел устав Кармеля, ты знаешь. Сможешь ли вынести? Хорошо ли ты все обдумала?»
Молча кивнула она головой. Он чуть-чуть побледнел, отвернулся и тихо заплакал, но тотчас улыбнулся ей сквозь слезы и сказал:
«А если так, с Богом ступай, и все хорошо будет!»
Очень удивилась она, что он так легко согласился, но не обрадовалась, а больше еще испугалась, чем если бы он отказал.
Маленькую, как от укола булавки, красную точку оставляет на теле человека жало змеи, но точка эта, может быть, смерть. Не было ли то, что промелькнуло в лице его, когда он сказал: «С Богом ступай!» – такою же смертельною точкою? «Выжила я, а что если он умрет?» – кончила она давешнюю мысль, и вдруг увидела его больного, старого, сгорбленного, как под непосильной тяжестью, с лицом, закутанным во что-то темное, страшное, и только теперь поняла или только начала понимать, что предвещал этот призрак.
Как это часто между ними бывало, он угадал без слов, что она думала, и пристально взглянул на нее.
«Что бы то ни было, помни: ты ни в чем передо мной не виновата. Не думай же обо мне, – думай только о себе; так и мне лучше будет», – проговорил он и опять улыбнулся ей, но так безнадежно, что вся душа ее изныла вдруг от невыносимой жалости. «Если не сейчас, то никогда не уйду от него», – подумала. «От отца уйти – отца убить; это ли значит: „Кто не возненавидит отца?..“ Но если и это, – не остановится, – перешагнет…» Остановилась, так же опять, как давеча, не кончила мысли от страха и жалости. Упала на колени и зарыдала так, что слезы ее были, как из нанесенной только что раны льющаяся кровь.
Он наклонился к ней, снова прижал ее голову к сердцу своему (по тому, как оно билось, поняла она, что он так же за нее боится и жалеет ее, как она – его) и начал что-то говорить. Слов его она уже не понимала, но чувствовала силу их, как утопающий – силу того, кто спасает его.
Чем он успокоил и утешил ее, вспомнит она только четырьмя словами: «Он говорил, как святой». Будущая великая святая была в эту минуту грешной и слабой, а отец ее – святым и сильным. Сильный подымает слабого, грешит – святой: так поднял Терезу отец ее. Сделал он это, может быть, теми же, давеча уже сказанными словами: «С Богом ступай в Кармель!» – но теперь повторенными с тою нездешнею силою, которая побеждает все земные страдания, и с такою царственною властью, что в эту минуту он был, в самом деле, похож на «короля», как называла его Тереза и как однажды сказала ему: «Если бы люди знали тебя, то сделали бы тебя королем!» Люди не знали его, но знал Тот, Кто один венчает не мнимых, а настоящих королей – святых. Маленький лизьеский часовщик, Луи Мартэн, был, может быть, таким же святым, как дочь его, Тереза. Скажет она и сделает многое; столько же и он сделает молча, хотя бы уже тем, что родил ее дважды – сначала в мир, а потом – в Кармель. Мир, может быть, только и держится и спасается тем, что были, есть и будут в нем всегда такие неизвестные великие святые, как отец Терезы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































