Текст книги "Чертовка"
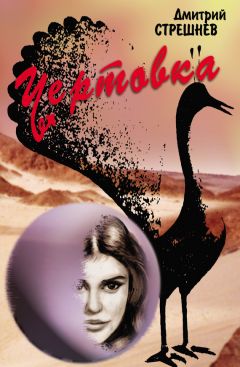
Автор книги: Дмитрий Стрешнев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Дмитрий Стрешнев
Чертовка
Езиды – вероучение этой замкнутой секты восходит к староиранским религиозными верованиям. Согласно езидской традиции, Бог, сотворив видимый мир, предоставил его в распоряжение ангела, изгнанного с небес. Они изображают его в виде павлина и называют Мелек Таус – Владыка Павлин.
Энциклопедический словарь
Телефон звонит всегда неожиданно, даже когда ждешь, что вот-вот зазвонит.
Это точно так же, как с письмами, которые ждешь-ждешь, ждешь-ждешь, потом на один день забудешь ждать, и тут – хлоп!
Или как с повесткой в военкомат: вот сейчас, думаешь, вот сейчас, вот сейчас опять потянут, потому что осень уже лысая и наверняка чья-то дивизия привалила в красноводские пески – ливийцы или йеменцы – повышать боевую и тактическую, все думаешь-думаешь-думаешь, чуть забудешь думать и сразу – бац! – шесть месяцев из жизни долой. «Береводчик блохо, бребадаватель не банимай, лязим[1]1
Нужно (араб.)
[Закрыть] берерыв…»
– …Алло! Айуа (то есть то же самое «алло», но с египетским оттенком).
– Мистер За… (по слогам, с натугой) мур… мурси… Москву заказывали?
– Да-да! Я мистер Замурцев. Заказывали!
Время, пространство сбиваются в какой-то войлок, и этот войлок набивается в голову, в телефонную трубку, вяжет во рту. Столько много всего, но смято, сжевано, спутано, а начнешь потрошить, разделять, – получится одна пыль. Мистика!..
Московские грустные гудки.
Голос:
– Алло…
У нее всегда такой голос, как будто чего-то ожидает и что-то обещает. И всегда чуть нетерпеливый. В общем, примерно, как малая терция.
– Привет. Узнала?
Почти так же банально, как «здравствуй, это я». Давно надо бы придумать что-то оригинальное… такое… с покушением на словари будущего.
– Узнала. Привет.
– Говорить можешь?
Когда Ю.В. недалеко, она отвечает: «Относительно».
– Могу.
– Как ты?
– Нормально.
– Получила письма? Было два.
– Да… Кажется.
Как это – «кажется»? Как это – «кажется»?!
– А твои письма где? Два месяца ничего нет.
– Извини. Так. Я, наверное, большая нахалка.
– Да уж, большая.
Что ей еще сказать? Не нахалка она, конечно, а просто пустая эгоистка. Как будто рука отломится – письмо написать. Если бы еще работала, как все, по-советски. Так ведь Ю.В. за нее вкалывает.
– А почему голос такой? Что-нибудь случилось? Заболела?
– Да, в общем… (си, затем ля бемоль) в общем, болею немного.
Что ей еще сказать? Хоть на бумажке тезисы пиши… В голове целые картины, а слова не вяжутся – это все равно, что рассказывать узор. Такая вот она, дружочек, значит, твоя жизнь!
– Ты там держись. Слышишь?
– Да…
Как-то в трубке непривычно пусто… «Отключилось… что за техника дурацкая!..» – начал кто-то врать лицемерно внутри.
Но Москва была еще здесь: Ясенево, сине-белые стены, лифт с грохотом, дверь в пупках, душноватая прихожая, не смотреть на чужие тапочки… «Здравствуй, ты как?.. Какой ты смешной… С тобой хорошо… Звони».
Все?
Под ухом стал растекаться и звенеть космос. И вроде бы все уже ясно, но почему-то надо было проталкивать сквозь этот космос еще какие-то слова неестественным голосом – про погоду, и даже что-то про войну в Заливе, и про иракские ракеты, пролетающие где-то почти над головой на Тель-Авив. И только через минуту он опомнился и сказал тускло, как говорят дальнему родственнику, позвонившему сообщить, что во вторник улетает на Марс:
– Ну, счастливо.
И эхо с того конца:
– Счастливо.
Куда уж счастливей!
Тишина на том конце. Теперь уже настоящий вакуум.
Он опустил трубку, чтобы не слышать голос телефонистки, отдающий никелем операционной: «Дамаск! Закончили?», а в голове продолжал раскручиваться безмолвный диалог – более настоящий, чем тот, пять минут назад доверенный электричеству. Как будто беседа шла уже по какой-то непостижимой связи, летящей сквозь дамасский январский дождичек, капающий за окном на акации. А может, она отражалась от невидимо бродящей где-то луны или от какого-нибудь Мицара или Альфа Кассиопеи и уже оттуда падала в московский облачный кисель над Ясеневым.
«Почему ты не пишешь? Уже три месяца…»
«А ты сам не догадываешься?»
«Значит, конец истории?»
«Боюсь, что да».
«Быстро же…»
«Знаешь, надоело посылать письма на чужое имя. Он хоть есть в природе, этот Покасюк?»
Вздох.
Альфа Кассиопеи отключила связь за дальнейшей ненадобностью. В том месте, где была болевая точка, настроенная на Москву, осталась только какая-то неслышная мелодия, что-то виолончельное. Потом другая мелодия прилипла к зубам, как ириска. Ну, конечно, – севильяна «No te vayas» – «Не уходи». Он усмехнулся, но продолжал насвистывать:
Потом он услышал, как стукнула дверь, и позвал:
– Мисюсь, это ты? – хотя и без того прекрасно знал, что пришла жена с пробежки по лавкам.
Мисюсь, она же Верусь, она же Вероника, появилась в дверях с белым пластиковым пакетом магазина «Reddies» в руках. Он увидел спокойные глаза под черным лаком гладко зачесанных волос, подумал, что надо что-то сказать.
– Ну как, удачно?
– Нормально, – сдержанно ответила жена.
Какая она все-таки умница, у нее таких глупостей не будет: завести роман и уехать в Сирию.
Белый пакет удалился в сторону кухни, и уже оттуда донеслось:
– Андрей, иди сюда, помоги мне.
Он встал и пошел перекладывать банки и свертки из сумки в холодильник.
– Я тебе шарф купила, ходи обязательно в шарфе, у нас сегодня на балконе лужа чуть не замерзла.
Он подошел и прижался к ней, как к волшебному источнику, из которого черпал жизненную силу.
– Мисюсь, ты меня любишь?
– Ой, отстань, не вовремя момент выбрал, у меня даже обеда нет.
Вот предлог, чтобы оскорбиться, найти оправдание… для чего угодно оправдание, невесело усмехнулся он.
– Я тебя люблю, Мисюсь.
Прислушался к самому себе.
«Действительно, люблю».
– Ты слышишь про шарф? Возраст уже не тот у тебя, понятно?
– Да, возраст уже не тот, – сказал он с многозначительной грустью.
И тут же почему-то дернулось сердце, когда зазвонил телефон. Но сам он остался на месте. Телефон его больше не интересовал.
– Тебя, – сказала Вероника. – Этот твой… Петруня Суслопаров.
– А почему он тебе так не нравится? – вызывающим шепотом спросил он, зажимая рукой микрофон.
– Разве я сказала, что он мне не нравится?
Андрей еще раз униженно смирился с тем, что жена умнее его, и взял трубку.
– Алло! Как сам?
Внезапно этот развязный голос показался единственным цветным мазком в безнадежно сером мире.
– Правду сказать или соврать?
– Все. Понял. Но отчаиваться не надо. Знаешь, как сейчас в газетах пишут? «Специалист с большим опытом задушевного общения предлагает наркологическую помощь на дому».
– Нет. На дому не надо, – вяло сказал Андрей.
– Ясно. Но чувствую по голосу, что в таком состоянии, как у тебя, жить нельзя. Это чревато опасными последствиями. Поэтому даю вариант: баня.
– Какая? Опять Мохиддин?
– Как скажете, ваше величество. Можно на Бзурие. Там, говорят, тоже симпатично, но до сих пор без нас.
Андрей Замурцев с удивлением обнаружил, что выпустил из носа выхлоп придушенного смеха. Жизнь снова стала наполняться звуками и какой-то безумной надеждой на смысл. Наверное, все-таки хорошо – иногда – что на свете бывают безобидные алкоголики вроде Петруни. И хорошо, что бывают бани.
– Уговорил. Пусть сегодня там будет симпатично с нами.
* * *
Нежно-голубая просторная даль стояла над Дамаском, а по ней извивались серые разводы облаков, как пролитая на чистый кафель жидкая грязь. Черт возьми, пронзительные природные этюды в этой стране иногда падали на сердце, как музыка. Вот и сегодня тоже казалось, будто что-то трагическое гремит в надменной лазури, оскорбленной серыми мазками. Хотя, скорее всего, к лазури это не имело никакого отношения, а просто в душе разрасталась симфония жалости к самому себе. Но все равно ее немую музыку было приятно слушать под куполом этого огромного зала под породистое рычание «Вольво», заглушавшее фальшивящие ноты.
Он специально поехал через старую Меззе. Все эти заскорузлые районы казались ему тайным кодом чужой, не совсем понятной жизни. Здесь каждый дом в общей слепившейся массе каким-то образом все равно оставался самим собой и будто еле сдерживался, чтобы не сболтнуть нечто сокровенно-захватывающее. Шипя колесами по лужам, «Вольво» неслось в ту сторону, где из-за многоэтажных коробок высовывался косой склон горы Касьюн. Солнце пропало в грязной марле, и гора стала мрачна, – словно неведомая сила глядела неодобрительно. Но Андрей не обратил внимания на предостережение.
Вот и старая Меззе. Мечетка тут такая трогательная – минарет в острой шапке, совсем как у каких-нибудь мигунов-жевунов из «Волшебника Изумрудного города»…
Потом вниз, через мост Тишрин, сквозь фешенебельный бульвар Мальки, отчего-то (и особенно вечером) похожий на огромный стол, накрытый к банкету; потом вдоль узкой протоки с ивами («Яузская набережная» в просторечии дамасских совграждан) и – вниз, вниз, вдоль решетки сквера, пока не обнажится длинный сплошной забор, а в глубине за ним – безрадостный параллелепипед (вот уж точно передает словечко архитектурное впечатление!) административного корпуса Совпосольства («элеватор» в том же просторечии).
Петруня уже стоял на ветру у ворот.
– Сейчас – в туннель и стрелой вперед, – велел он полузамерзшим голосом, залезая.
Андрей боялся, что в теплом салоне «Вольво» суслопаровский язык оттает и начнет шевелиться больше, чем хотелось бы. Но Петруня, нахохлясь, молчал, и Андрей вдруг с удивлением догадался, что приятели по бане бывают иногда чуткими и понятливыми.
Всю дорогу Петруня проявлял чуткость, только один раз обронил:
– Заруливай к мечети Омейядов, а там пешочком.
Оливковая «Вольво» нырнула под приподнятый шлагбаум и длинной рыбой скользнула в пиковый туз старинных ворот.
Когда обогнули цитадель и замешкались в суете старого города, где эхом близкого базара толклись крошечные грузовички, сновали тележки с товаром, – и вдруг прямо перед радиатором безрассудно пролетал велосипедист, – Петруня спросил:
– Андрюш, а Дамаск в Библии помянут?
– Конечно.
– Сколько раз?
– Не знаю, может, десять.
– Ого! Надо будет все почитать. От Ноева потока до наших дней.
– Потопа.
– Да, верно, темнота… Я, кстати, вчера такое открытие сделал… что халдеи, оказывается, был такой древний народ.
– Ну? И что?
– А раньше я всю жизнь думал, что это исключительно официанты в ресторане!
Замурцев посмотрел на пассажира, смутно догадываясь кое о чем.
– Ты что, вздумал меня подразвлечь?
Но лицо у Петруни («кукишем» – по классификации мудрой Мисюсь) редко отражало что-либо, кроме покорности судьбе, и уличить его в таком низменном чувстве, как сострадание, не удалось.
– Какое тут развлечение! Гольная правда. Ты смотри лучше не на меня, а куда надо. Чуть старьевщика не переехал.
Машин на площадке почти не было. Обычно здесь сплошные бело-голубые номера туристов и «дипы», но сейчас погода не та. Колонны Юпитера, облепленные лавками, посерели без солнца. И правильно, что никого нет: не туристский совершенно денек.
Петруня, вылезя из «Вольво», торжествующе сказал, указывая пальцем в сторону каменных римских столбов, пытающихся сохранить надменность посреди базарного прибоя:
– У тех-то, древних, храм был пошире!
Непонятно, почему его так трогало, что «у тех» был пошире. Оставив машину, они пошли в проход, где ветер и мелкий дождь терлись об огромные шершавые камни стены. Эти камни были отесаны еще в честь языческого бога Хадада, славили потом римского Юпитера, окрещены византийцами, а теперь скрывали громадную, как вокзал, мечеть Омейядов. Конечно, не хватает здесь каких-нибудь грифонов или химер, как на парижской Нотр-Дам. «Чертовски бы смотрелось», – подумал Андрей.
– Знаешь, Андрюш, – сказал Петруня, задумчиво глядя на каменное тело, уходящее ввысь, – я читал, что Аллах был вроде как космический пришелец, потому в память о нем минареты так вот и строют в виде ракет.
– Да брось ты верить всякой лабуде!
– Но красиво наврано, а? Почему не верить, если красиво? А не то в жизни только и останется, что закон Ома.
– Кончай трепаться, – сказал Андрей. Он, может быть, и догадывался, хотя и не признавался себе, что добрые чувства к Петруне вызываются в том числе умением того оставить интеллектуальное лидерство партнеру, но говорить при этом разнообразно и много.
– А что такого, Андрюш? Прежде я, как и весь советский народ, увлекался коммунизмом, а теперь – икебаной и НЛО!
Уже начались почти наркотические запахи Бзурии – пряного рынка, где лавки совсем из «Тысячи и одной ночи», самые загадочные для примитивного европейца, проводящего пресную жизнь возле соли и перца, максимум еще – корицы с гвоздикой. Так и умрет невежественный хаваджа[3]3
Господин (в обращении к европейцу) (араб.)
[Закрыть], не попробовав ни кисловатый бурый суммак, ни золотистый бхарат. Не узнает, почему морковно-желтый шафран идет всего за 500 лир, а персидский, почти такой же, но благородного густого цвета, – уже за десять тысяч. Бедняга! В его жизни не продернет свою нитку терпкий хантит; не обожжет зинджиль; не воскурится красный камень хаджар люк, чей дым отгоняет шайтана; не обезволит загруженные суетой мозги густой мажорный аккорд пережженного кофе с кардамоном. Стоит чуть скосить глаз, – сигнал тут же ухвачен, и голос приглашает на всех нужных языках:
«Месье, бонжур!»
«Мистер, хеллоу!»
«Товарищ, как дела?»…
И конфетные лавки сверкают, как подъезды маленьких театров; и сама баня – вот она, тоже как конфета: разноцветные дольки апельсина вместо окон, а за ними – резные листья явного родственника фикуса и стеклянные листья люстры. И как же все было бы прекрасно, разноцветно и легко, если бы мир давно уже не расщепился на два. Один был здесь, как был всегда, – с Мисюсь, Петруней, баней, с аквариумом чужих и нечужих глаз, стаями ртов, фабрикой рукопожатий, запахами то мяты, то виски, то рыбы, зубной пасты, пригоревшего масла, одежды, бензинового дыма. А другой – где она, где что-то с ней, – просвечивал неуловимой матовой плотью сквозь небо, крыши, минареты, опахала пальм, грозди товаров, кувыркающиеся слова, шевелюры, плевки, скребущий воздух смех. Этот второй, как осторожная медуза, все отплывал, закрываясь водой расстояния, и вдруг болезненно знакомым бликом выдавал себя совсем рядом.
«Петруня, верни меня», – подумал Андрей.
И Петруня вернул:
– Андрюш, что это за крокодилов продают сушеных, там, на углу, я видел?
– Саканкур, водяные ящерицы.
– Для чего? Тещу травить?
– Для мужской силы – растолочь и с медом съесть.
– Мимо сада… Я с женщинами застенчивый, как водопроводный кран.
Таким образом, прежде, чем войти в баню, Андрей имел возможность еще раз поразиться точности Петруниных наблюдений, в данном случае над самим собой.
Ах, бани, бани! Голый человек лишен главного порока всех сапиенсов – суетливости. Он вынимает из карманов атрибуты так называемой цивилизации: удостоверение, ключи, деньги, и вежливый дедушка прячет их в мешочек и запирает в ящик; он снимает шелуху одежды, и служитель в черном жилете и в рубашке цвета молодой листвы набрасывает на нее тусклый чехол, – ведь в банях должен царить мираж всеобщего равенства. В клубах пара здесь резвится лукавый мальчик по имени Свобода, щиплется, хихикает, тащит упирающуюся, страдающую артритом душу вольно побегать вместе, мелькая розовой попкой. В банях решали свои дела патриции. В банях убивали султанов.
Она тоже одно время пристрастилась ходить в баню, вспомнил вдруг Андрей. Не в арабскую, конечно. В московскую пошлую сауну, построенную для себя какой-то мелкой торговой мафией. Лежа у него на плече, она иногда вдруг предавалась воспоминаниям об этом замечательном месте, и в воспоминаниях оказывались вино, и шашлыки, и даже какой-то Володя, пытавшийся сорвать с нее простыню… Она рассказывала и время от времени вскидывала на него глаза, что должно было означать: правда, занятно? А он суперменисто улыбался, судорожно пытаясь понять, так ли она божественно проста или же так безвозвратно испорчена? Но это пятно на стене… пятно фотографии, которую он помнил наизусть: самоуверенные усы Ю.В., взгляд, хозяйски оценивающий пространство, а рядом в фате – она, которая в данный момент лежала на его руке без фаты, как и совершенно без всего остального. И тогда картина их отношений начинала запутываться и тонуть в какой-то мелкотравчатой философии, и разумней всего было уже просто лететь дальше вместе с вращением Земли, ни о чем не думая, стараясь лишь мучиться поменьше…
– Я тут вчера внес в жизнь немного разнообразия, – сказал над ухом Петруня, уже голый, обернутый в полосатую простыню. – Поэтому хорошо бы послать какого-нибудь парня за пивом.
– Ты что! Какое пиво? Это все равно, что в церкви глазки строить! Баня – оплот ислама, можно сказать. А баня на базаре – оплот вдвойне! – и неожиданно, само собой, у Андрея добавилось: – Это тебе не московская пошлая сауна какая-нибудь.
– Да я так… просто мысль залетела, – отступил Петруня.
В первом зале, круглом и сводчатом, скопились старики и дети, визг стоял непереносимый. Мда, патриции и султаны… В следующей парной, где жарче, полосатых простыней было, слава богу, меньше. Щелкая по полу деревянными шлепанцами, Андрей и Петруня прошли к… черт знает, как ее назвать – вроде как раковине, и железными мисками вычерпали оставшуюся после кого-то мутную воду.
– И чего они не сделают у каждой такой лохани нормальный слив? – сказал Петруня. – Я понимаю – средние века, технологические сложности и все такое прочее. Но сейчас-то!
– Потому что тогда это будет уже не арабская баня.
Петруня понял, что проиграл этот раунд, глаза у него заездили, и он сгладил поражение, пробормотав:
– Придумали себе тоже, понимаешь… сегедов труд.
Из тесной ниши волнами рвался пар, оседая на заплаканных изразцах. Петруня пошел туда – постоять, отмякнуть, вернулся и сообщил:
– В нашей родной парилке все равно лучше.
Тем не менее он, как настоящий араб, стыдливо отвернув край простыни, долго плескал себе плошкой на сакраментальные места.
– Конечно – баня, конечно – арабская, понимаю, – говорил он при этом, – но где сабли, фески, ятаганы? Где покуривание гашиша в чалме?.. – и потом, намыливая голову шампунем. – Почему здесь разрешают эту экологически вредную химию с французским названием? Вместо нее должен быть массаж, негр скакать по мне, как обезьяна… Восток измельчал, он гибнет, как погибли мы…
– Почему это мы погибли? – искренне удивился Андрей, стоя в пене, с закрытыми глазами, отчего разговор шел как бы по телефону.
– Я не в прямом смысле, мой друг. Мы погибли, как характер, как идея. Это же ясно, как божий дар.
– Ты меня пугаешь, Петруня.
– Не преувеличивай. Тебя это не печет, ты уже ближе к поколению эпохи призов за телекрасоту… Хотя… натура человеческая непредсказуема. Сегодня тебя спросят: чего ты хочешь больше всего на свете? Ты скажешь: попасть во-он с той крошкой после кораблекрушения на необитаемый остров. А через пару дней окажется, что твоя самая большая мечта – сыскать на этом самом острове щипцы, чтобы постричь ногти на ногах.
– Слушай, – восхитился Андрей, – тебе же надо в философы. Такие ловкие демагоги всегда в ходу.
К его удивлению, Суслопаров сказал совершенно серьезно:
– Я об этом думал. Да, видишь ли, оказалось, что все уже придумано тысячи две лет тому назад. Им тогда было просторней мыслить. Тысячи две лет назад я, пожалуй, был бы среди них.
– В общем: «Скучно жить на этом свете, господа?»
– Видишь, даже это уже придумали.
Суслопаровский язык, размякнув от банной влаги, все лепечет и лепечет, проникаясь жалостью к самому себе:
– Кому в наше время, по большому счету, нужны философы и пророки? Если даже завтра объявится один такой, с патентом от природы видеть на сто лет вперед, и начнет убеждать тебя, например, что через год ты будешь чистить ботинки какому-нибудь императору Северного Полюса – ты ему поверишь? Кто ему поверит?.. Пойдем, старик, отдохнем от горьких грез европейца на вытертых коврах умирающего Востока…
Наступает самый приятный акт ритуала, и три служителя уже ждут, чтобы, суетясь, заменить мокрую простыню на бедрах на новую, сухую, причем так, что клиент даже на мгновение не почувствует себя голым; мокрую смачно шлепают в руки мальчику, срывая у него с согнутого локтя еще одну – сухую, в которую заворачивают плечи.
– Превратили нас в пиратов каких-то, – бурчит Петруня, когда голову ему закручивают голубым полотенцем.
– Больше смахивает на новорожденных, – вяло возражает Андрей.
А дальше – в зал, на те самые вытертые ковры, о которых говорил Петруня и которыми закидан помост, – на него поднимаешься, ощущая усталость и величие, и тут же снова появляются зеленые рубашки под черными жилетами, помогают сесть на топчан и ловко ставят рядом столик – крошечный, как все удовольствия в этой жизни. Однако прежде тело придавливают покрывалом, убивающим желание не только двигаться, но и думать, потому что тяжелая парча впитала столько сладостной рахат-лукумной тяжести бессильных восточных грез, столько неправдоподобного неверия в законы людского бытия… Нет, Петруня, Петруня, все-таки Восток жив. Ты мудр, Петруня, но мудрость твоя европейская, или почти европейская, твердо помнящая об округлости Земли и о вращении электронов. Твоя мудрость разбита на главы и слишком хорошо знает, что молекула сахара, как и молекула желчи, состоит из тех же самых атомов углерода и водорода. Конечно, Петруня, ты прав в том, что уже трудно увидеть настоящую чалму и что железные лейки душей в предбаннике хаммама[4]4
Хаммам – арабская баня
[Закрыть] – отвратительный признак нашего техничного века. Но все-таки ты рано разделался с Востоком, с его многослойной, капризной душой, где живут, не мешая друг другу, сладкая страсть к беспредельной роскоши и мучительная тоска по нищей нирване; где в чешуе легенд о свободе змеится наслаждение рабством; где трусливая покорность нафарширована фатальным безразличием к судьбе. А ведь душа – это главное, Петруня, а не ятаганы и не гаремы, и она неистребима, как и твоя, которую я не берусь описывать, потому что она слишком похожа на мою собственную…
Закрученные усы черных жилетов склоняются и почти шепчут с нежным обещанием рая:
– Чаю?
Чаю, чаю, и поскорее, потому что сверху, из-под купола, снова просачивается холодный космос одиночества, и только чай, и журчащий фонтан, и нарочно запутанная золотая вязь на черном коленкоре защитят этот картонный домик раскрашенного игрушечного Востока и всех, кто в нем, от большого, ехидного мира, чересчур требовательного, как учитель чистописания.
Лубочный Антар с круглыми глазами упрямо скачет на черном коне по нежно-салатовой пустыне. Петруня интересуется:
– Это кто, Андрюш?
– Это Антар, арабский Илья Муромец, жил в Йемене.
– Это ж далеко, Йемен, да?
– Порядочно.
– А почему тамошний их герой – в сирийской бане?
– Так везде же был один халифат.
– А… вроде как у нас. Ясно. А потом, что?
– Распался.
– Ясно. Как «Битлз».
А вот и принцесса Абла, печальноокая возлюбленная Антара, на красном коне на другой стене, – вечно им скакать и не доскакать друг до друга…
Когда поблизости опять объявился черный жилет, Андрей спросил:
– Это у вас, что – настоящий Ат-Тинауи или копия?
– Настоящий, месье. Абу Субхи. Подлинный.
Вот так. Жил человек в нищете, всю жизнь рисовал, и пылились его картиночки на чердаке, а как помер – оказался непревзойденным классиком. Везде человечество разводит пиросманщину. Знал бы ты, Петруня, сколько эти картиночки сейчас стоят.
Но Петрунин мозг уже деятельно шествовал дальше.
– Что-то, Андрюш, после этой бани резко упало давление пива в организме.
Это была его неразменная острота.
– Не пивное у меня настроение, Петруня.
– Это так всегда спервоначала кажется. Брось червя сомнения!
Поздно, поздно, Петруня! Чай выпит, струны восьмиугольного фонтана, уставленного цветочными горшками, дрожат перед глазами, наигрывая андалузские аккорды, и это уже как будто совсем другой фонтан, без горшков, а за ним всплывает большое окно в стеклянную клетку a la Montparnasse, да и весь остальной угол улицы под названием «Нофара» с чужим, мопассановским, фонарем – в меру уродливое дитя искусственного парижского осеменения, хотя Салех Ахмад Рибат совсем не по-парижски выскакивает наружу из своей кофейни в одной полосатой рубашке под дождь – навстречу самым достойным гостям. И Абу Махмуд, а может, даже Абу Али Шахин, если еще не умер – последние сказители Дамаска, сидя на возвышении над всеми, тянут бесконечную балладу о бесконечных подвигах того же Антара и другого великого народного героя – Абу Зей-да аль-Хиляли, то есть про то, как вырубают под корень царства, протыкают львов и увозят красавиц – их мало кто слушает, но голос скользит по лицам солнечным бликом, по мужским лицам, исключительно по мужским, других тут нет, разумеется…
– Я знаю, о чем ты думаешь, – говорит Петруня, сидя в своем коконе, как мумия фараона, и в голосе его играет лукавость кларнета. – Не надейся, что для меня твои мысли – тайны мадридского дворца. Ты хочешь потащить меня дальше по смачным камням Истории, по злачным местам дряхлеющего Востока. Зна-а-аю!..
– Ты у нас в языках король, – мурлычет Петруня через секунду, заплывая с другой стороны. – Это для меня, плебея, вся эта филология – как с белых яблок дым… А ты на скольких языках говоришь, Андрюш, а?
Потом, вздохнув, злобится:
– Привередливый ты, как Пиноккио. А я, между прочим, вчера внес…
– Знаю, все знаю! – не выдерживает Андрей и перечисляет, опережая:
– Внес в жизнь немного разнообразия, обманул бутылочку, положил в себя полбанки…
– Аккуратно положил, – вздыхая, поправляет Петруня последний вариант, и с этим вздохом рушится картонный мир, где было так уютно и просто, и Антар больше не скачет, застыв раскрашенной картинкой с неловко приделанными руками, и топырящаяся люстра и пластмассовые горшки съеживаются, вдруг поняв свое убожество, и угол у фонтана отколот, и чьи-то ноги шаркают мимо, отсвечивая красными пятнами мозолей сквозь дырки в сандалиях.
– Ты беспросветный человек, Петруня.
– Я… беспросветный… – смакует Петруня слово. – Как ты припечатал меня, Андрюш, а? Вот что значит вольная пташка, не в нашем посольском компаунде живешь, не за забором. А я сижу и думаю: «Упаси бог, надумает завтра Саддам по нам ракету кинуть. Или вдруг какая-нибудь одна дурная до евреев не долетит, свалится нам на голову». И знаешь, почему я больше тебя об этом думаю? Потому что нашего брата, технаря, тогда никуда вообще из посольства выпускать не будут. По соображениям безопасности. Только и будешь знать, что вкалывать, как проклятый бобик.
– Ладно. Пойдем, куда хочешь, черт с тобой!
– Спасибо за глоток свободы. Если уж связался с таким, как я, то терпи двумя руками. И вообще… – Петрунины синие глаза оказались болезненно близко, и смотреть в них было неприятно, как в таинственно переливающийся купорос, – вообще… мне почему-то кажется, что тебе сегодня это тоже не повредит.
Когда вышли из бани, на Дамаск сыпался мелкий копеечный дождь. В такой дождь комфортнее всего гражданкам в чадре, наверняка съязвил бы по этому поводу Петруня, если бы не был так отягощен мечтами о пиве. Чтобы обмануть стихию, пришлось дать обход буквой Г через крытые пуговичные ряды и рынок новобрачных. В отместку дождь пошел крупными пулями, а с неба стала быстро спускаться тьма. Оливковая «Вольво» тронулась обратно. Андрей засунул в щель магнитофона кассету, и под Жана-Мишеля Жарра город плыл за стеклами, как в кино.
– В какой бар рванем, Петруня?
– В барах цены барские, Андрюш, лучше у ливанца прямо в лавке.
– Ты что! Плебейство какое. Сейчас как раз наши хабиры[5]5
Здесь: советские военные специалисты (араб.)
[Закрыть] с работы повалят. Хочешь, чтобы тебя местные граждане замучили вопросами типа: «Как дьела, садык?..»[6]6
Друг (араб.)
[Закрыть]
– Ну, тогда только не в» Белую лошадь», я там как-то полтыщи ни за фигом оставил.
– Понятное дело. «Лошадь» – не бар, это уже кабак. А мы поедем в «Пингвин».
– Где этот «Пингвин» живет?
– Возле площади Арнус.
– Не знаю… – сварливо сказал Петруня, – не знаю, что за Арнус, что за «Пингвин»… A-а! Пропадай все! Устроим Пирров пир!
Сквозь капли дождя на стекле огни и тела машин переливались, как медузы. Андрей почувствовал, что тот – второй – мир опять подкрался опасно близко. Одно неосторожное движение внутри, какое-нибудь дуновение ветра в голове, – и этот легкий руль мощной машины, и теплая волна из печки, и удобные ботинки из Ливана за 35 долларов, и негустые огни Абу Румани вдруг поплывут болезненным бредом, мысли станут расползаться, как гнилое сукно, которое сдуру расправили, чтобы рассмотреть, что там за узор?..
– Ты смотри, какой «мерс»! – заорал Петруня с таким воодушевлением, что Андрей вздрогнул. – Вон тот, серебристый… как хек. Это же тридцать четвертый год, шесть цилиндров, сорок сил, гонит до ста в час… А вон, гляди, «хадсон» сорок шестого года… нет, сорок седьмого. Не город, а автомобильный музей, ус. ться можно.
– Ты бы шел в автобизнес, что ли.
– Ты что, дурак? Идиот? Не знаешь, что почем у нас в стране? Куда попал – там и сиди, не рыпайся. То в философы меня засунуть хочешь, то еще куда… Как будто сам родился для того, чтобы в торгпредстве непонятно чем торговать…
Андрей ничего не ответил, потому что Петруня попал на сей раз метко, да и подъехали уже, и он напрягал глаза, чтобы в расплывающемся сыром ландшафте, среди блестевших под фарами автомобильных задов найти нишу для «Вольво».
Два скромных фонаря «Пингвина» делали угол улицы уютным; над входом дерево беспокойно шевелило голыми пальцами, сбрасывая капли. Полукруглая открытая терраса была, разумеется, пуста, только махал на ветру красными плавниками мокрый навес. Сам пингвин на темной вывеске под фонарями совсем растаял в тени, зато еще сразу три жестяные птицы во фраках, отражая неон, сияли над дверью, которая вела куда-то вроде трюма. Андрей и Петруня провалились по крутым ступеням в красно-коричневое узкое нутро этого трюма, оказавшись нос к носу с не слишком опрятным парнем, вид которого наверняка успокоил Петрунины опасения насчет кошелька, и который тут же стал бойко называть их «месье». Конечно, дураку понятно, что никаких месье в его заведении быть не может, и за версту он разбирает, что заявились русские садыки (особенная походка, что ли, черт возьми!), но знает: садыкам нравится, когда их называют «месье».
– Пиво есть?
Вот типично отечественный вопрос. Конечно, пиво есть, и что к пиву – тоже, и никелевые ободки стульев прямо скучают по влажным от дождя спинам.
– Интересно, у нас в Союзе Советских пиво вот так запросто когда-нибудь будет или нет? – пробует Петруня шекспировски поставить вопрос и усаживается за клетчатое полотно скатерти.
– Ты лучше подумай, что со страной будет.









































