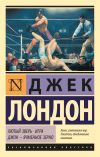Текст книги "Джон Ячменное Зерно. Рассказы разных лет (сборник)"

Автор книги: Джек Лондон
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава XV
В 1892 году, ранней весной, я решил отправиться в дальнее плавание. Решение это в сущности не было связано с днем демонстрации Ханкокской пожарной команды. Я все еще продолжал жить и посещать трактиры и буквально жил в кабаке. Пить виски было, по-моему, опасно, но дурного в этом ничего не было. Виски – вещь страшная, как и множество других вещей в мире. От виски люди умирали, но, с другой стороны, и у рыбака иногда опрокидывается лодка, и он тонет, или бродяга, едущий зайцем, попадает под поезд, который его режет на куски. Чтобы устоять против ветра и волн, против поездов и кабаков, нужно обладать известной сообразительностью. Что касалось меня, я решил никогда больше не выпивать зараз кварту виски.
Побудило меня сделаться матросом другое обстоятельство: я в это время впервые мысленно представил себе дорогу к смерти, по которой Джон Ячменное Зерно ведет своих приверженцев. Картину эту, впрочем, я рисовал себе еще довольно смутно; при этом она мне представлялась с двух сторон, которые у меня в то время часто переплетались между собой.
Наблюдая среду, в которой я вращался, я стал замечать, что тот образ жизни, который ведем мы, любители пьянства, более губителен, чем жизнь, которую ведет большинство людей. Джон Ячменное Зерно, уничтожая в человеке нравственное чувство, толкает его на преступление. Мне постоянно случалось видеть, как люди в пьяном виде делали такие вещи, которые не пришли бы им в голову, будь они трезвы. И это было еще не худшее. За преступлением следовало наказание. Преступление губило людей. Многие приятели мои, с которыми я встречался в кабаках и с которыми вместе выпивал, были в трезвом виде добродушными и безобидными малыми; напившись же, они оказывались способными на самые низкие, безумные выходки. И тогда полицейские уводили их, и они сидели за решеткой, и я ходил с ними прощаться перед тем, как их увозили на ту сторону залива, где на них надевали одежду каторжников, и сколько раз мне при этом приходилось выслушивать одно и то же оправдание: «Не будь я пьян тогда, ни за что бы этого не сделал!» Иногда случалось, что под влиянием Джона Ячменное Зерно совершались самые ужасные поступки, от которых содрогалось даже мое зачерствелое сердце.
Была и другая сторона у этой дороги смерти: то был путь привычных пьяниц. Такой человек мог в любой момент отправиться на тот свет без видимой причины. Когда пьяницы заболевали, даже пустячной болезнью, от которой поправился бы всякий нормальный человек, они попросту угасали, как свечка. Иногда их находили мертвыми в постели, порой их тела вытаскивали из воды; или же просто происходил несчастный случай, как, например, с Биллом Келли. Он в пьяном виде разгружал судно, и ему оторвало палец; а могло случиться, что ему оторвало бы и голову вместо пальца.
Итак, я начал задумываться над своим положением и пришел к заключению, что мой образ жизни никуда не годится. Слишком уж он быстро приводил к могиле, а моя юность и присущая мне жажда жизни не могли примириться с мыслью о смерти. Но был только один способ уйти от этой жизни: отправиться в плавание. В заливе Сан-Франциско зимовала целая промысловая флотилия, собиравшаяся на охоту за морскими котиками; в трактирах я встречал шкиперов, их помощников, охотников и гребцов. Я познакомился с охотником Питом Холтом и принял его предложение быть у него на шхуне гребцом. Мы тут же вспрыснули наше соглашение полудюжиной стаканчиков.
Сразу же проснулись мои прежние беспокойные стремления, которые было улеглись под влиянием Джона Ячменное Зерно. Я почувствовал, что мне до смерти надоели кабацкая жизнь и Оклендская пристань; я не мог даже понять, почему все это когда-то казалось мне таким привлекательным. В голове у меня все время носилась картина «дороги смерти», и я начинал уже бояться, что со мной что-нибудь случится до отплытия, которое было назначено на январь. Я стал вести себя более осторожно, меньше пил и чаще бывал дома. Когда выпивка превращалась в дикую оргию, я удирал. Если Нельсон напивался до безумия, я всегда ухитрялся улизнуть от него.
12 января 1893 года мне исполнилось семнадцать лет, а 20 января я подписал договор о поступлении на судно «Софи Сезерленд». Это была трехмачтовая промысловая шхуна, отправлявшаяся к берегам Японии. Разумеется, договор пришлось вспрыснуть. Джо Виги разменял мне мою авансовую кредитку; сначала угощал Пит Холт, потом я, потом Джо Биги и остальные охотники. Что поделаешь? Таковы были нравы старых моряков. А кто такой был я – семнадцатилетний мальчишка, чтобы уклониться от обычаев этих зрелых, славных, отважных мужчин?
Глава XVI
На «Софи Сезерленд» пить было нечего, плавание продолжалось пятьдесят один день, и я все время блаженствовал. Мы воспользовались северо-восточным муссоном и при помощи его стали быстро продвигаться на юг, к Бонинским островам – отдельно стоящей и принадлежащей Японии группе, служившей местом сбора канадской и американской промысловых флотилий. Здесь суда запасались водой и производили необходимый ремонт, перед тем как пуститься в трехмесячное плавание вдоль японских берегов до Берингова моря, где происходила охота на стаи котиков.
Эти пятьдесят дней удачного плавания, проведенные мною в абсолютном воздержании от спиртных напитков, вполне восстановили мое здоровье. Я чувствовал себя отлично. Из моего организма был изгнан весь алкогольный яд; с самого начала плавания у меня ни разу не было желания выпить; я даже не вспоминал о выпивке. Разумеется, матросы часто говорили между собой о выпивке, рассказывали наиболее интересные или смешные случаи, происходившие во время попоек. Об этих инцидентах они вспоминали с бóльшим удовольствием и бóльшим увлечением, чем про всякие другие случаи из своей полной приключений жизни.
Старшим из матросов был некто Луис, толстяк лет пятидесяти. Это был спустивший все свое состояние шкипер. Его погубил Джон Ячменное Зерно, и он теперь заканчивал свою карьеру так же, как и начал ее, – простым матросом. Этот случай произвел на меня глубокое впечатление. Очевидно, Джон Ячменное Зерно умеет не только убивать людей. Луиса, например, он не убил. Он сделал хуже. Он лишил его власти, места, всех жизненных благ, втоптал в грязь его самолюбие и на всю жизнь осудил его на тяжелое существование простого матроса; а так как Луис был крепкий и здоровый человек, то ему, очевидно, предстояло очень долго влачить такое существование.
Наше плавание по Тихому океану завершилось. Мы увидели вулканические, заросшие лесом вершины Бонинских островов и вошли, лавируя между рифами, в хорошо защищенную гавань; вскоре загромыхал наш якорь, и мы стали на место, где уже находилось судов двадцать таких же бродяг – кочевников моря. С берега доносился аромат неведомых тропических растений. Туземцы на своих странной конструкции челноках и японцы на еще более странного вида сампанах плыли по заливу, гребя одним веслом, направляясь к нашему судну. В первый раз я попал в чужую страну. Наконец, я добрался до края света; теперь я воочию увижу все то, о чем читал в книгах. Я рвался сойти на берег.
Я сговорился с двумя матросами, и мы решили держаться все время втроем (мы так хорошо привели это в исполнение, что нас до конца плавания звали «Три собутыльника»). Одного – шведа – звали Виктором. Другой – норвежец Аксель. Виктор показал нам тропинку, которая исчезала сначала в диком ущелье, затем опять показывалась и шла по крутому склону из сплошной лавы, а оттуда вилась в гору среди пальм и цветов, то пропадая, то вновь появляясь. Он предложил нам подняться по этой дорожке, на что мы охотно согласились: оттуда открывался чудесный вид, там могут быть оригинальные туземные деревушки и, наконец, нас может ожидать какое-нибудь – но какое, никто из нас не знал – приключение. Акселю же очень хотелось отправиться на рыбную ловлю. Мы и на это согласились. Мы решили достать сампан, захватить двух рыбаков-японцев, которые знают рыбные места, и устроить грандиозную ловлю. Что же касается меня, то все проекты мне одинаково нравились.
Составив план, мы съехали на берег на лодке, минуя рифы из живых кораллов; добравшись до земли, мы вытащили нашу лодку на белый берег, покрытый коралловым песком. Мы прошли через песчаную полосу, вошли под сень кокосовых пальм и добрались до маленького городка. Там мы нашли несколько сотен буйствовавших матросов со всех концов земли; все они безмерно пили, безмерно пели и безмерно плясали. Все это происходило на главной улице городка, к великому возмущению совершенно беспомощной горсточки японских полицейских.
Виктор и Аксель решили, что нужно пропустить по стаканчику, прежде чем отправиться на такую длинную прогулку. Мог ли я отказаться выпить с этими двумя задушевными парнями? Необходимо было вспрыснуть нашу дружбу. Этого требовал обычай. Мы все смеялись над нашим капитаном-трезвенником и презирали его за то, что он ничего не пил. Мне лично пить вовсе не хотелось, но зато мне надо было доказать, какой я хороший товарищ и славный малый. Даже воспоминание о Луисе не остановило меня, когда я глотал едкую, обжигающую жидкость. Правда, Джон Ячменное Зерно нанес Луису жестокий удар, но я-то ведь был молод, кровь, мол, здоровая и яркая, быстро текла по жилам, организм у меня железный и… ну, молодость всегда презрительно смеется при виде разрушительных действий старости.
Странный, крепкий напиток дали нам. Он сильно отдавал алкоголем. Нельзя было угадать, где и каким образом он приготовлен; скорее всего это была какая-то туземная настойка: он был горячий, как огонь, прозрачный, как вода, и действовал быстро, как смерть. Он был разлит по бутылкам из-под голландского вина, на которых сохранилась этикетка с весьма подходящим названием «Якорь». И в самом деле, от действия этого напитка мы стали на якорь. Мы так и не выбрались из города. И на сампане не поехали, и рыбы никакой не ловили. И хотя мы простояли на острове десять дней, но так ни разу и не прошлись по тропинке, шедшей вдоль утесов из лавы и утопавшей в цветах.
В городке мы встретили старых знакомых с других шхун – людей, с которыми мы бывали вместе в кабаках в Сан-Франциско перед отплытием. Каждая такая встреча начиналась выпивкой: поговоришь о том о сем, опять выпьешь; потом начинаешь песни и всякие шутки, пока, наконец, не зашумит в голове. Тогда все начинало казаться мне каким-то значительным и чудесным – все эти орущие во всю глотку старые морские волки (одним из которых был и я сам), собравшиеся для кутежа на коралловом утесе среди океана. Мне вспоминались отрывки из баллад о рыцарях, пирующих в старинном зале. Вот они расселись: эти за почетным концом – выше соли, а те – ниже соли; вот викинг только что вернулся с моря и сел за пир в ожидании битвы. И я чувствовал, что еще не умерла вся эта старина и что мы принадлежим к той же самой древней породе.
Еще не настал вечер, как Виктор от пьянства совершенно потерял рассудок. Он хотел драться со всеми и со всем. Мне случалось видеть в сумасшедших домах буйных помешанных; разницы между ними и Виктором не было никакой – разве только та, что он был еще несноснее. Нам с Акселем все время приходилось вмешиваться, мирить подравшихся, так что и нам попало в общей свалке; наконец, мы ухитрились, пустив в ход всю нашу осторожность и хитрость пьяных людей, уговорить нашего приятеля сесть в лодку, после чего мы отвезли его на судно.
Но не успел Виктор ступить на палубу, как начал скандалить. Силен он был, как несколько человек, вместе взятых, и он поднял на судне дым коромыслом. Ясно помню, как он загнал одного матроса в ящик с цепями; к счастью, тот не особенно пострадал – Виктор не в состоянии был как следует хватить его. Матрос всячески увертывался и увиливал от него, и Виктор в кровь расшиб себе кулаки об огромные звенья морской цепи. Когда же нам, наконец, удалось вытащить его из ящика, помешательство его успело уже принять другую форму: он вообразил себя великим пловцом и вдруг перескочил за борт и начал демонстрировать свое умение плавать, барахтаясь, как полудохлая морская свинья, и усиленно глотая соленую влагу.
Мы выудили его из воды, снесли вниз, раздели и уложили на койку, после чего и сами почувствовали себя совсем разбитыми. Но все-таки нам с Акселем хотелось еще побывать на берегу; мы и отправились, оставив на судне громко храпевшего Виктора. Любопытно то, что товарищи Виктора, сами не дураки выпить, осуждали его. Они неодобрительно качали головой и бормотали: «Такому человеку пить нельзя!» А между тем Виктор был самым ловким матросом и самым добродушным человеком из всего экипажа. Это был во всех отношениях идеал моряка; товарищи ценили его по заслугам, уважали и любили. Но Джон Ячменное Зерно умел превращать его в одержимого. Вот здесь-то и делали различие между ним и собой прочие пьяницы. Они знали, что от пьянства – матросы всегда пьют чрезмерно – они тоже сходят с ума, но они впадали лишь в тихое помешательство. Буйное помешательство – вот это уже не годилось: оно портило веселье другим и часто кончалось трагедией. С точки зрения этих людей, в тихом помешательстве не было ничего предосудительного. Если мы станем на общечеловеческую точку зрения, разве не всякое помешательство является предосудительным? А кто умеет внушить безумие лучше Джона Ячменное Зерно?
Однако вернемся к нашему рассказу. Очутившись на берегу, мы с Акселем забрались в уютный японский трактирчик, уселись там и начали подсчитывать и сравнивать, у кого из нас больше синяков; за стаканчиком мы обсуждали недавние происшествия. Нам понравилось спокойно пить в тишине, и мы пропустили еще по одному. Тут в трактирчик заглянул один из наших товарищей, потом еще несколько, и мы продолжали с ними нашу скромную попойку. Наконец, мы пригласили японский оркестр, но не успели прозвенеть первые ноты самисены и тайко, как вдруг с улицы донесся дикий вой, ясно слышный сквозь бумажные стены. Мы узнали этот звук. Виктор, все еще продолжая вопить и совершенно пренебрегая дверями, влетел к нам, прорвав хрупкие стены дома. Глаза у него были налиты кровью, он дико размахивал мускулистыми руками. На него напало прежнее безумие; ему хотелось все уничтожать на своем пути; он жаждал крови, чьей-нибудь крови. Музыканты обратились в бегство; мы тоже. Спасаясь, мы вбегали в какие-то двери, порой лезли напролом сквозь бумажные стены; мы готовы были на все, только бы нам удрать.
К тому времени, когда дом оказался наполовину разрушенным, Виктор успел немного успокоиться; мы с Акселем согласились уплатить хозяину за все убытки, а сами отправились на поиски более спокойного местечка. На главной улице шел дым коромыслом. Сотни матросов в буйном веселье гуляли взад и вперед. Ввиду того, что начальник полиции со своим немногочисленным отрядом оказался совершенно бессильным, губернатор приказал всем капитанам судов собрать свои команды на корабли до захода солнца.
Что? Так вот как хотят с нами обращаться! Не успела эта новость дойти до шхун, как на них не осталось ни одной души. Все сошли на берег. Даже те, кто вовсе не собирался раньше, начали прыгать в лодки. Злосчастный приказ губернатора спровоцировал всеобщий скандал. После захода солнца прошло несколько часов, но матросы заявляли одно: «Пусть только попробуют вернуть нас на суда!». Они ходили по городу и приглашали все власти попытаться это сделать. Самая большая толпа собралась перед домом губернатора; пели во все горло матросские песни; из рук в руки передавали бутылки; некоторые шумно плясали. Полицейские, в том числе и резервный отряд, стояли кучками, совершенно беспомощные, и ждали от губернатора приказания, которого он весьма благоразумно не отдавал.
Мне эта вакханалия представлялась чем-то величественным. Казалось, будто вернулись времена испанских пиратов. Здесь был широкий, свободный разгул – это было достойно великих авантюристов. И я тоже участвовал в этом разгуле, и я был одним из этих морских разбойников, буйствовавших среди бумажных домиков японского городка.
Губернатор так и не отдал приказа очистить улицы. Между тем мы с Акселем продолжали бродить из трактира в трактир и везде выпивали. Вскоре во время какой-то пьяной проделки мы с ним разлучились, и я потерял его из виду; у меня у самого уже зашумело в голове. Я побрел дальше, на каждом шагу заводя новые знакомства; я пил стакан за стаканом и пьянел все больше и больше. Помню, я сидел где-то вместе с японскими рыбаками, с рулевыми гавайцами из нашей же флотилии и молодым матросом-датчанином, только что вернувшимся из Аргентины, где он был ковбоем. Этот датчанин очень интересовался местными обычаями и обрядами. И вот мы начали пить сакэ, с полным и точным соблюдением всего японского этикета. Это был бесцветный, мягкий, тепленький напиток; подавали его в крошечных фарфоровых чашечках.
Помню еще мою встречу с юнгами – парнями лет восемнадцати – двадцати из английских семей средней руки. Они сбежали с судов, куда их отдали для обучения морскому делу, и вот теперь они очутились на промысловых шхунах в качестве матросов. Это были цветущие, ясноглазые юнцы с гладкой кожей; они были молоды, как и я, и тоже учились жизни среди взрослых мужчин. Да они и вправду уже были взрослыми. Они не хотели пить слабый сакэ, им нужны были четырехугольные бутылки, наполненные едкой, огненной жидкостью, которая зажигала у них кровь и возбуждала пожар в мозгу. Помню одну трогательную песню, которую они пели, с таким припевом:
Хочу тебе кольцо я дать,
Сынок мой дорогой,
Чтоб вспомнил про свою ты мать
В час бури роковой.
И они плакали, когда пели эту песню, – эти бесшабашные юные негодяи, нанесшие такой удар гордости своих матерей. Я тоже пел вместе с ними, и плакал вместе с ними, и наслаждался этой трогательной и драматической сценой, и пытался дать какое-то пьяное хаотическое объяснение жизни и романтическим приключениям. И еще одна картинка, которая ярко и отчетливо выделяется в тумане времени: мы – эти юнцы и я – идем по улице, обнявшись и покачиваясь, а над нами сияют звезды. Мы поем какую-то лихую матросскую песню, поем все, за исключением одного: он сидит на земле и горько плачет, а мы отбиваем такт, размахивая бутылками из-под джина. С обоих концов улицы доносятся голоса матросов, поющих, как и мы, хором, и вся жизнь кажется значительной, прекрасной, каким-то фантастическим и великолепным безумием.
Затем опять следует тьма, после нее я, открыв глаза, вижу при бледном свете начинающегося дня японку, которая заботливо и тревожно склоняется надо мной. Это жена местного лоцмана, и я лежу у двери ее дома. Мне холодно, я весь дрожу, я болен после вчерашней попойки. Чувствую, что я слишком легко одет. Ах, эти негодные юнги! У них, видно, вошло в привычку удирать. Теперь они удрали со всем моим имуществом. Часы мои исчезли. Несколько долларов, которые у меня были, тоже пропали. Нет и моего пальто. Пояса тоже. И… да, верно, башмаки тоже утащили.
Я описал для примера один из десяти дней, проведенных нами на Бонинских островах. Виктор оправился от своего временного сумасшествия, разыскал меня и Акселя, и мы после этого пили с большей осторожностью. Но мы так и не поднялись по тропинке из лавы, заросшей цветами. Город да бутылки из-под джина – вот все, что мы видели.
Тот, кто сам обжегся, не может не предупреждать других об опасности. Поступи я так, как следовало, я мог увидать на Бонинских островах много интересного, получить от многого настоящее удовольствие. Но я отлично понимаю, что дело вовсе не в том, как следует или как не следует поступать. Важно то, как поступаешь на самом деле. Такова извечная, неопровержимая истина. Я делал то, что делал. Я делал то, что делали все матросы на Бонинских островах. Я делал то, что делали в то самое время миллионы людей в различных точках земного шара. Я поступал так потому, что все меня толкало на этот путь, потому что я был человеком, вернее, мальчишкой, продуктом своей среды; потому что я не был ни болезненно-малокровным субъектом, ни полубогом. Я был просто человеком и шел по тому же пути, по которому шли все, шли люди, пред которыми я преклонялся, прошу не забывать – здоровые полнокровные мужчины, крепкие, могучие, шумливые, свободные духом, не рассчитывавшие по-мещански каждый свой шаг, а с истинно царским великолепием расточавшие и жизнь, и свои силы, и деньги.
И этот путь был открыт передо мною. Точно во дворе, где играют дети, оставили незакрытым колодец. Какой прок убеждать маленьких смельчаков, шагающих своими крошечными неуверенными ножками по пути к познанию жизни, что нельзя играть близ незакрытого колодца. Все равно они непременно будут играть около него. Все родители это знают. И мы тоже знаем, что известный процент этих детей – самые живые и смелые из них – упадут в колодец. Нужно только одно, и каждый из нас это знает, а именно – прикрыть колодец. То же самое и с Джоном Ячменное Зерно. Все уговоры и нравоучения в мире не будут в состоянии удержать от Ячменного Зерна зрелых мужчин и подражающих им юношей до тех пор, пока Ячменное Зерно доступно всегда и повсюду и пока оно неразрывно связано с понятием о мужественности, смелости и широком размахе.
Единственный рациональный выход из этого положения для нас, представителей двадцатого столетия, – это забить колодец и доказать, что двадцатый век есть действительно двадцатый век, оставив девятнадцатому и всем предыдущим векам все то, что принадлежит им: сожжение ведьм, нетерпимость, фетишизм и самый гнусный из всех этих остатков варварства – Джон Ячменное Зерно.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!