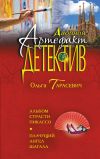Текст книги "Марк Шагал. История странствующего художника"
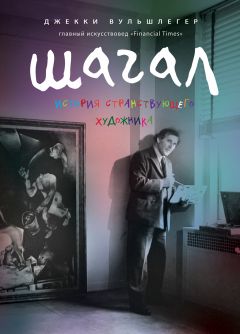
Автор книги: Джекки Вульшлегер
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Эти портреты были открытым заявлением. Но роман Шагала с Беллой, скрывающийся за ними, был менее определенным, более мучительным, тянулся дольше, чем об этом говорят самонадеянные работы и мемуары. В то время, когда Шагал писал картину «Моя невеста в черных перчатках», он сделал два наброска своей новой подруги карандашом и пером, что наводит на мысль о неопределенности, однако и о нежном интересе, и о том, что он старается понять ее. В одном рисунке, где есть не только контур, он улавливает ее трепетность, стремительность и хрупкость, когда она и приближается к растению, и отклоняется от него, почти как птица в полете. Ее голос, говорил он, был «как голос птицы из какого-то другого мира». Более противоречива «Карикатура Берты» (второе название, «Белла», было добавлено позднее). Он подшучивает над ней, как над романтичным «синим чулком». С горячей экспрессией, в такой же уверенной позе, руки на бедрах, как в наброске и на картине, Белла стоит перед ювелирным магазином родителей с розой за поясом, с вилкой и ложкой в волосах, с книгой Александра Блока «Стихи о Прекрасной даме». Этот тон ироничного восхищения возвращает к раннему письму, где Шагал говорит о ней: «Богатство прошедших и современных опытов мимо ее не проходит, и сама питает некоторую любовь к литературе (отнюдь не злоупотребляя… бумагой), философии и другим отделам искусства». Это наводит на мысль о том, что он заинтригован, но все еще не принял на себя никаких обязательств.
Белла, со своей стороны, очертя голову кинулась в страстные, серьезные поиски, чтобы понять и поддержать его работу. У нее прежде не было возлюбленного, и в своей горячей преданности она рассматривает его искусство как свое собственное дело, как нечто почти святое. «Мне очень хочется сказать тебе все, что мне сказали твои картины», – напишет Белла после помолвки своим элегантно закругленным, летящим, твердым почерком, выражающим ее решимость и увлеченность.
«Я очень строга буду и требовательна, потому что от тебя мне, как от себя, хочется другого. Главное, чувствуется в тебе искреннее желание пострадать и самое чистое отношение к искусству. Поэтому как-то особенно надо скорей дойти до него… В твоем «Покойнике» нет ли влияния, преклонения пред Чюрленисом? Нет? Потом, объясни мне одно. Я решила, что надо об этом поговорить серьезно. Я перестаю окончательно и непримиримо принимать таких, как Ларионов, Машков, Кузнецов, Гончарова… Что они себе думают? Кого можно убедить нарочным невниманием к технике? Как они меня убедят, что я вижу искусство, жизнь какую-то, пусть даже внешнюю, искусство, которое должно давать мне забыть, что это искусство, дело рук, когда я ясно вижу каких-то картонных иль вылепленных из хлеба людей? Ведь всякая жизнь требует полноты звука, для этого нужно, чтобы кровь текла по всем жилам, значит, должны они (жилы) быть. Не о реализме я говорю. Мне не нужно анатомии. Мне нужно искусство, которое умеет скрывать [свое] физическое существование, но которое зиждется на нем, иначе я не поверю. Или дай мне свою фантазию звучную и звездную, необыкновенную и удивительную, как у единственного Чюрлениса… Понимаешь, у меня такое впечатление от тебя. Я не претендую на понимание, я сама и штриха не могу набросать, но чувствую все-таки довольно ярко и остро».
Как девочка из ортодоксальной семьи, Белла больше рисковала в этой дружбе, чем Шагал.
Вскоре после их первой встречи она должна была к началу учебного года вернуться в Москву, а Шагал – в Санкт-Петербург. Но в первые месяцы нового года она навестила его там, вероятно не поставив об этом в известность родителей. Сохранились набросок 1910 года, сделанный в столице, на котором голова Беллы наклонена к столу, и рисунок «Комната на Гороховой». На нем изображена пара, в одежде лежащая на узкой кровати, на смятой простыне, – вероятно, двойной портрет первых дней их романа. Эти рисунки, явно не для публичного показа, наводят на мысль о колебании на краю, неуверенности и торопливых встречах. В это время Шагал пишет о любви, «которая складывается из души неудовлетворенного юноши», о попытках переложить на холст «горечь бесплодных свиданий». Ромм вспоминал, что «о любви, зачатии он говорил с едкой усмешкой и грустью». Шагал писал и стихи, жалуясь на свою трудную жизнь, описывая себя как «жестоко растоптанного», «казненного судьбой» уже «с утра» и обреченного на «ранний жребий на кресте». В этой смеси жалости к себе и чрезмерной молодой самоуверенности Шагал в этот период ассоциирует себя с Христом. Оба они – гонимые евреи, в них живет непонятый, радикальный, творческий дух. Наброски автопортретов этого периода называются «Мне нечего делать», «Мои мечтания», «Я с ума схожу».
Любовь Теи или Беллы могла придать вес и цвет работам Шагала, но не разрешала его проблем. Шагал не знал, как ему, живописцу, развиваться в России, как найти учителя, который мог бы помочь ему в этом, и как урегулировать свой финансовый статус и легализоваться в Санкт-Петербурге. Все это беспокоило его, когда осенью 1909 года, как раз после того, как он встретил Беллу, произошла еще одна неожиданная встреча, почти столь же важная для его искусства. Студию Шагала на Захарьевской посетил Леопольд Сев, он пришел в восхищение от работ художника и вскоре купил картину «Покойник». Сев дал Шагалу записку, в которой представлял молодого живописца своему другу Леону Баксту. У Шагала не было сомнений по поводу этого события. Он написал в своих мемуарах три слова: «Бакст. Европа. Париж».
Глава шестая
Леон Бакст. Санкт-Петербург 1909—1911
Однажды поздней осенью, в середине дня, Шагал с пачкой рисунков и письмом от Сева пришел в квартиру Леона Бакста в доме № 25 на Кирочной. Хозяин квартиры еще спал. «Час дня, а он все еще в кровати, – подумал Шагал и, нервничая, стал ждать в тишине изящной передней. – Ни криков детей, ни запаха женских духов. На стенах картины с греческими богами, черного бархата, расшитая серебром завеса синагогального ковчега. Странно!» Наконец, вышел хозяин дома, «чуть улыбнулся, показав ряд блестящих зубов, розовых и золотых». Бакст выглядел денди, «всегда аккуратный, в белой рубашке в розовую полоску, с темным галстуком-бабочкой и, разумеется, всегда с цветком в петлице, – по словам танцовщицы Брониславы Нижинской. – Его выпуклые серо-голубые глаза смотрели над пенсне, которое он редко снимал, рыжие волосы на небольшой, круглой голове тщательно причесаны, под большим, горбатым носом пышные усы; его нельзя было назвать красивым, но в его привлекательной личности чувствовался художник». Шагал понимал кое-что еще: «Мне казалось нелепой случайностью то, что он был в европейской одежде. Он еврей. У него над ушами завивались рыжие завитки. Он мог бы быть моим дядей, моим братом».
В то время Бакст был самым знаменитым русским художником в мире. Только что он испытал триумф первого из «Русских сезонов» Дягилева, который открылся в Париже в мае 1909 года, когда французской публике представили новый энергичный танец, изменив мнение Западной Европы о сценических представлениях. Популярность «Русского балета Сергея Дягилева» ознаменовала начало парижского безумия в отношении русской культуры – экзотического и дикого примитива с его яростным, открытым, ярким цветом, – которое продлилось все 20-е годы. Основу этому в 1909 году заложил Бакст, создатель экстравагантных декораций и костюмов для «Клеопатры». Он купался в лучах славы европейского успеха, когда не спеша возвращался домой, проведя октябрь в Вене.
Бакст, любивший Рембрандта и Веласкеса, в душе был классиком: греческие боги, охранявшие его прихожую, были тщательно отобраны. Классическое изящество и склонность к Востоку, сочетавшиеся в нем, бросили французский культурный истеблишмент к его ногам. Сила его рисунка была в извивающихся, летящих линиях, соответствующих эстетике art nouveau. Бакст привнес в оформление «Русских сезонов» живость, которая дополняла и воодушевляла постановки Дягилева.
В русском театре ощущалась чувственная энергия, и это нравилось парижской публике. Бакста не устраивали общепринятые декорации задников, и он очаровал всех новыми, экзотическими декорациями сложных, будто трепещущих цветов, что стало существенной частью спектакля, поскольку вертикальные плоскости включились в движение на сцене. Так Бакст революционизировал роль театрального дизайна. Западная публика, начиная с конца XIX столетия, была очарована восточными цивилизациями. Художественные решения, использованные Бакстом в оформлении египетской драмы «Клеопатра» – ссылки на восточную и греческую культуры, геометрические очертания, мозаика и стилизованные растительные мотивы – оказались настолько соблазнительными, что повлияли на современные течения в моде и в украшении интерьеров. «Это очаровательно, это постоянно волнует глаз, – писали в газете Le Temps. – Месье Бакст, русский живописец, создавший эту великолепную картину с ее колоритом и в декорациях, и в костюмах – истинно великий художник». Впервые русский художник неожиданно изумил Запад, и молодые русские критики ликовали. «Интеллектуальные, художественные и творческие персонажи Парижа… сняли шляпы перед молодой, цветастой, вакхической оргией, что пришла с северо-востока», – отмечал Анатолий Луначарский, в то время как Яков Тугендхольд, парижский корреспондент художественного журнала «Аполлон», рассказывал русским читателям, что «словно какой-то электрический ток сразу сообщил Франции все то лихорадочное возбуждение, которым у нас в последние годы окружено слово «театр», и Париж как будто бы начал просыпаться от своей театральной дремы».
«Слава Бакста после «Русских сезонов» за границей кружила мне голову», – вспоминал Шагал. Но как только прославленный художник заговорил, Шагал услышал акцент из Гродно, и ощущение родства усилилось.
«Он понимал меня, он понимал, почему я заикаюсь, почему я бледнею, почему я так часто грущу и даже почему я пишу лиловыми красками.
Он стоял передо мной.
«Что я могу для вас сделать?» – сказал он. Обычные слова в его устах звучали странно, с особым акцентом.
Когда он один за другим перевернул мои рисунки, которые я поднимал с пола, где сложил их кучкой, он сказал, растягивая слова с интонацией лорда:
«Да… ааа… ааа! Тут чувствуется талант, но вас ис-пор-тили, вы на неверном пути… ис-пор-тили»…
Испортили, но не совсем… Если бы кто-то другой произнес эти слова, я не обратил бы на это внимания. Но авторитет Бакста был для меня слишком велик, чтобы игнорировать его мнение. Я стоял и слушал его, я был глубоко задет, и я верил каждому его слову, а сам при этом смущенно сворачивал свои холсты и рисунки».
Все тут же устроилось. Бакст преподавал в дорогой новаторской санкт-петербургской Школе Званцевой, и Шагал присоединился к его ученикам. Тридцать рублей в месяц платила за него благодетельница Алиса Берсон.
Шагал был загипнотизирован Бакстом.
Бакст, с его подчеркнутой медлительностью, с преувеличенной точностью в одежде и манерах, был обаятелен для всех, но Шагал изучал его с особым интересом человека, который происходил из той же среды и так же стремился покинуть ее. «Он был экзотичным, фантастичным – он прошел от одного полюса к другому. Пряность и мрачность Востока, прозрачная отчужденность классической Античности – все это было его», – вспоминала танцовщица Тамара Карсавина. Родился Лев Самойлович Розенберг в еврейской семье нижнего слоя среднего класса в 1866 году. Бакст (в 1889 году он взял фамилию своей бабушки) был на десять лет младше Пэна и, как только смог, проложил дорогу прямо в сердце русской культуры. Как и Шагал, он, молодой художник, пробивался в Санкт-Петербурге, рисуя вывески магазинов и делая иллюстрации для детских книг. В 1886 году он познакомился с Чеховым, а лето 1890 года провел в загородном доме семьи Бенуа недалеко от Санкт-Петербурга, в Ораниенбауме. В 90-х годах XIX века Бакст ездил в Париж и Северную Африку. Он соединил в декоративных работах, книжных иллюстрациях и сценографии для Мариинского театра богатство ориентализма, изысканное изящество art nouveau и цветистый примитивизм русского народного искусства. В 1898 году Бакст и Александр Бенуа основали группу «Мир искусства», и тогда, писал Бакст, «началась моя упорная кампания за искусство, которому я поклоняюсь. Я решил посвятить свою жизнь искусству, сражаться за него, чего бы это мне ни стоило, дабы поддерживать его верховную власть и независимость перед всеми другими интересами». В знаменитой работе его кисти, портрете Дягилева, изображен и сам портретируемый, и художник, принадлежащий привилегированному миру, которым он управлял, когда пришел в 1906 году в Школу Званцевой.
Импресарио в этом портрете самоуверенно смотрит нам в лицо, но психологически нас притягивает фигура, сидящая за Дягилевым, тонкая фигура в сером у черной занавески, в углу, под канделябром в форме многоголового дракона, – няня Дуня, которая жила с Дягилевым и заправляла самоваром на встречах «Мира искусства», подавая чай и варенье друзьям хозяина. Когда Дягилева в конце его жизни спросили, обижал ли он кого-нибудь, он сокрушенно ответил, что однажды ушел из дома, не поцеловав руку няни и не спросив ее благословения. Картина мягко намекает на оставшийся с детства глубокий след, который превратил Дягилева в подобие Питера Пэна, в поверхностного денди, но в картине видна и боль, с которой Бакст расставался со своим собственным детством. Бакст стремился войти в высшее общество, и в 1903 году с ним произошло событие, которое тогда могло показаться и незначительным, но оно наложило отпечаток на всю его жизнь: он влюбился в Любовь Гриценко, вдову, дочь легендарного Павла Третьякова, коллекционера и основателя художественной галереи в Москве. По русским законам, брак между евреем и православной был невозможен, тогда Бакст принял в Финляндии лютеранство.
«Без цветов и музыки половина счастья отнята», – беспечно писал Бакст к Любови во время их помолвки. Он казался себе безупречным эстетом, но перемена религии оказалась для него бедой. Бакст не осознавал, насколько сильно он ощущал себя евреем, и начиная с 1903 года он страдал от часто повторяющихся приступов депрессии. Вскоре Бакст расстался с женой и стал подвергать сомнению все свои достижения. В 1908 году он писал Любови (с которой оставался в хороших отношениях), что «падение, сухость и ошибки моей художественной карьеры» скоро станут всем понятны, и даже «ученики меня же потом не будут признавать». Спустя год после того, как Шагал появился в его изящной холостяцкой квартире, сам император подписал прошение Бакста о разводе, и в 1910 году Бакст вернулся в иудаизм. «Странно ощущать себя ужасно равнодушным и почти подавленным», – писал Бакст Любови, находясь на вершине парижского успеха. Жизненный опыт содействовал ограничениям – строгой сдержанности в работе, европейской точности одежды и манер. Хотя изначально Баксту были свойственны жеманство, привередливость, некое тщеславие, когда он мог после балетного спектакля пробежаться около танцовщиков в ожидании комплимента. Этими ограничениями он пытался удержать разделенные свойства характера вместе и придать смысл жизни, которая потеряла свой стержень. Еврей в фальшивом одеянии, раздраженный своей собственной ассимиляцией, – вот что увидел Шагал при их первой встрече и что всегда окрашивало образ Бакста. Когда в 1924 году Бакст умер в Париже, Шагал записал: «Хотелось выгнать всех гоим, стоявших вдали в передней, без шапок, и даже Иду Рубинштейн (балерина, подруга Бакста) в ложно-трагической позе… Ведь лежит еврей… Это он так себе ходил в смокинге, гнался за славой».
Тогда уже Шагал осознавал, что ассимиляция Бакста никого, в сущности, не убедила. Жан Кокто говорил о нем: «Огромный светский попугай со скрипкой Энгра на голове, монстр еврейской двойственности… он много хвастается и никогда ни с кем не спит». Дягилев выражал недовольство его «медленно-насмешливым голосом» и «кривой болезненной улыбкой», расплывающейся по его «краснощекому лицу». Бенуа пошел еще дальше и в момент ревности сказал Серову: «Я никогда не презирал евреев, напротив, я питал к ним слабость, но я осознаю их специфические дефекты, которые ненавижу… Бакст – это особенный еврей, в том смысле, что он жадный и кроткий – комбинация, которая делает его каким-то скользким и хищным, змееподобным, отталкивающим, так сказать». Только симпатизирующий Баксту критик Тугендхольд видел в искусстве художника цивилизованный сплав культур, который он определял как «эллинистический иудаизм». Все это было далеко от испытываемого чувства реальности в искусстве Шагала или от прочных связей с хасидским миром его родителей. Разница была такова, что пример европейской ассимиляции Бакста одновременно и очаровывал, и отталкивал, а перспектива занятий в его школе вызывала трепет, но и обескураживала.
Школа Званцевой, взлетевшая высоко благодаря очарованию Бакста, в те дни была знаменита как «единственная школа [в России], оживленная дыханием Европы». Расположенная на углу Таврической улицы, она размещалась в эффектном сооружении – в здании, подобном свадебному торту с пятью ярусами комнат, расположенных по кругу, каждая из которых выходила на большую террасу, окаймленную металлической решеткой в стиле art nouveau. В верхнем этаже этого здания находились апартаменты поэта-символиста Вячеслава Иванова. В его литературном салоне, названном «Башня Иванова», каждую неделю собирались ведущие поэты Серебряного века, там бывал и Александр Блок[19]19
К моменту поступления Шагала в Школу Званцевой она уже находилась в другом месте. В 1909 г. школа переехала с Таврической улицы в дом № 23 на улице Спасской, а через год – на угол Сенной и Забалканского проспекта. Финансовые дела Званцевой шли не слишком успешно, из-за чего приходилось менять квартиры. – Прим. ред.
[Закрыть].
В Школе Званцевой осязаемо ощущалась приверженность движению символистов: в середине круглой классной комнаты стоял мольберт, задрапированный коричневым бархатом, который представлял собою памятник Врубелю.
Символизм был тем берегом, к которому пристали в своих работах Бакст и его приятель, художник-график Добужинский. Но Школа Званцевой выросла не на почве символизма. Она была основана в Москве в 1899 году Елизаветой Званцевой, русской художницей, которая в 90-х годах XIX века жила в Париже. В эту школу стремились либерально настроенные студенты из-за ее антиакадемизма. Там преподавали Серов и Коровин, но к 1905 году их интерес угас, и в 1906 Званцева, переведя школу в Санкт-Петербург и пригласив Бакста руководить ею, рассчитывала на возникновение нового импульса в современном обучении. Бакст бросил на решение этой задачи всю широту своего парижского опыта; он создал школу, открытую для самых последних течений в искусстве, и поддерживал принципы, удивительно далекие от принципов его собственной живописи.
Все признавали, как писал Серов, что Бакст – пылкий энтузиаст, очень обязательный по отношению к выбранным им тридцати учащимся, – был «гениальным профессором». Среди его учеников было много женщин, которые упивались поклонением своему герою. Юлия Оболенская, современница Шагала, в своих воспоминаниях о жизни в школе писала, что Бакст превозносил буйный цвет и непосредственность детского рисования, но определенно отказывался давать примеры для имитации или подвергать сомнению наличие собственной тенденции у каждого студента. Приняв на себя обязательство «не столько учить», сколько защищать «ищущий молодой глаз от фальши и рутины», Бакст считал, что «будущая живопись зовет к лапидарному стилю, потому что новое искусство не выносит утонченного – оно пресытилось им». Как многие одаренные преподаватели, Бакст хорошо понимал, какова пропасть между тем, чему он учил, что он видел как будущее искусства, и тем, что он делал на практике, считая это направлением второстепенного значения. На вопросы учеников, почему он работает не так, как просит работать их, он отвечал: «Я вас учу писать не так, как я пишу, а так, как надо писать». Бакст отсылал их к искусству, которое, как он полагал, не знает духовной усталости, но согрето «человеческими усилиями-улыбками». Пафос этой идеи делал его одновременно и привлекательной, и трагической фигурой.
Уроки в школе длились с десяти тридцати до трех; после двух дней рисования с натуры следовали два дня рисования по памяти, затем – два дня живописи с натуры, за чем следовала живопись по памяти. По средам Добужинский приходил на урок рисунка, но центральным днем недели был день, который Бакст называл «боевым днем», – по пятницам он вел урок живописи. Оболенская вспоминала, что в этот день никто не работал; все ждали появления Бакста, который являлся с обычной пунктуальностью, красиво одетым. Он подходил к первой работе и просил всех обратить на нее внимание. Несчастный автор стоял перед ним, а он «с безжалостной проницательностью начинал разоблачать все его тайные намерения и неудачи… Весь класс образовывал кольцо вокруг Бакста, этюда и подсудимого, у которого в начале разговора пылало правое ухо, а при окончании левое, и затем он присоединялся к общему кругу для совместного разбора товарищей».
Шагал, который не был предупрежден об этой системе, узнал о ней только в конце своей первой недели.
«Учеба закончена. Бакст критикует в пятницу. Он приходит только один раз в неделю. Тогда все ученики прекращают работу. Мольберты выстраиваются в линию. Мы ждем его. Вот он.
Он ходит от одного холста к другому, не зная точно, кому что принадлежит, до тех пор, пока спрашивает: «Чье это?» Он говорит мало – одно-два слова, – но гипноз, страх и дыхание Европы делают остальное.
Он подходит ко мне. Я погиб. Он говорит мне, или, точнее, он говорит о моем этюде, хотя не знает (или притворяется, будто не знает), что это мое. Он говорит мне несколько необязательных слов так, как ведут вежливую беседу.
Все ученики жалостливо смотрят на меня.
– Чей это набросок? – спрашивает он, наконец.
– Мой.
– Я так и думал. Разумеется, – добавляет он.
В моем сознании мгновенно пробегают мои углы, все мои темные комнаты, но нигде я не был так несчастен, как после замечания Бакста».
Бакст медлил с похвалой, но быстро уничтожал. Он нападал на все, вспоминала Оболенская, часто употребляя в речи грубости, но никто не обижался, и каждое его резкое суждение считалось полезным для работы на следующей неделе. Однако чрезмерно чувствительный Шагал видел происходящее иначе. В следующую пятницу было то же самое – никакой похвалы. Шагал вылетел из класса. Он утверждает, что не возвращался в школу три месяца (что было или преувеличением, или ошибкой; скорее всего, то были три недели, поскольку он должен был учиться в школе всего шесть месяцев). В течение этих недель он работал в одиночестве, решив не сдаваться, но заслужить одобрение Бакста. Когда Шагал вернулся, Бакст повесил его новую работу на стену студии в качестве награды.
Это признание вызвало у соучеников Шагала завистливое уважение, но вряд ли помогло ему войти в их среду. Он снова боялся. Бакст и его избранная компания, а также регулярные визитеры – Бенуа, Всеволод Мейерхольд, Алексей Толстой – казались весьма далекими, слишком изысканными и исключительно сплоченными. Ученицы-женщины были по большей части из хороших семей Санкт-Петербурга, среди них были Софья, графиня Толстая, и группа «синих чулок», которые обожали Бакста и называли себя «подмастерьями Аполлона». Среди мужчин были племянник Бакста Александр Зилоти, сын успешного пианиста, и любовник Дягилева Вацлав Нижинский, который, как вспоминал Шагал, рисовал неуклюже, как ребенок. Было много одаренных студентов из провинции, в том числе Николай Тырса, из семьи кубанских казаков, и один мальчик из черты оседлости, Меир Шейхель. Большая группа учеников, образовавших тесный социальный круг, вместе посещала выставки, последние спектакли Мейерхольда и балет, они писали стихи, рисовали карикатуры и читали – судя по письмам, которыми обменивались Оболенская и ее подруга, – «часто Пушкина, чаще [Кнута] Гамсуна», рассказ которого «Голод» (1899) олицетворял авангардный стиль.
Лишь немногие, за исключением Александра Ромма, симпатизировали новичку Шагалу.
Ромм – элегантный, прекрасно образованный студент Санкт-Петербургского университета, на год старше Шагала – сразу же распознал в нем великий талант. Начиная с 1909 года двадцатитрехлетний Александр Ромм занял место Меклера, искушенного в житейских делах, земного и буржуазного друга Шагала, чья поддержка и близость были существенны для него, когда он начинал карьеру в незнакомой обстановке. Шагал зависел от таких людей, пока не женился на Белле, которая объединила в себе все роли. На ранней фотографии Шагал и Ромм вряд ли составляют пару подходящих друг к другу людей. Шагал – невысокий, худой, неуверенный в себе и, похоже, голодный, а Ромм – уверенный, приземистый, в щеголеватом, ловко сидящем белом костюме. Учащиеся Школы Званцевой изумленно глядели на то, что Ромм, который бегло говорил на многих европейских языках, был неотразимо привлекателен и имел успех у женщин, играл вторую скрипку при обтрепанном, заикающемся новичке из черты оседлости.
В своих мемуарах – осложненных горечью его собственных неудач – Ромм описывал, что их соученики не любили Шагала за то, что он казался «неискренним» и «надуманным», за то, что робость, гордость, ощущение себя человеком из черты оседлости, никчемность сочетались в нем с чрезмерной самоуверенностью. Не было у Шагала оснований и для встреч с Шейхелем – «они невзлюбили друг друга, эти два любимца Бакста… Сарказм внешне ребячливого, внешне сентиментального, но «по-литвацки» рассудочно изощренного Шагала столкнулись с наивной верой, простотой и просветленностью Шейхеля». И только Ромм оценивал по достоинству мечтательность Шагала, вспоминая, что как только он появился в школе, то произвел впечатление, «будто он только что «воплотился», «упал с луны»… Самые обычные явления жизни… вызывали у него порой едкие замечания или какое-то удивление». Впрочем, Бакст относился к Шагалу серьезно, вот как он сказал о нем Тырсе: «У меня два ученика, один ходит на голове, второй на ногах, но я не знаю, который из них лучше». Оболенская отметила в своих мемуарах, что, хотя школьные работы Шагала не производили впечатления значительных, все-таки класс с интересом дожидался работ, которые он делал дома.
Сам же Шагал после учебы в предыдущих школах понимал серьезность здешних студентов: «ученики Бакста, все более или менее одаренные, по крайней мере, знали, куда шли». Он ценил окружающую обстановку, которую он называл «Европа в миниатюре». Объявив, что Гоген, Матисс и Морис Дени – художники будущего, Бакст направлял своих учеников к современным международным средствам выражения, среди которых они могли бы найти свои собственные формы при общей тенденции интеллектуальной независимости. Их целью были простота форм, очарование цветом и свободный мазок. Натюрморты составлялись из простых, грубых предметов, натурщики выбирались за их необычные силуэты, красавцев не приглашали. Студенты писали на грубых, шершавых, как мешковина, холстах, используя столярный клей для грунтовки и широкие кисти (узкие были запрещены), чтобы достичь размашистого мазка и толстой красочной поверхности. Во имя сохранения свежести впечатления избегали предварительного рисунка, стремились подчеркивать цветовые комбинации. Так достигалась определенная монументальность. Бакст сделал себе имя, будучи в Париже театральным декоратором, и, сомневаясь в будущем станковой живописи, мечтал скорее о декоративном стиле, гармонирующем с архитектурой. Тырса расписывал фресками церкви; Шейхель делал композиции длиной пять ярдов о еврейской жизни – «Хасидский танец», «Венчание Торы».
Но больше всего Бакст подчеркивал важность цвета. «Я сам рехнулся на цвете и не хочу слышать слова о черном и белом», – писал он из Парижа. «Искусство – это только контрасты, – бывало, говорил он. – У меня есть склонность к усилению цвета; и я пытался достичь гармоничного эффекта, скорее используя контрастные друг к другу цвета, чем подбирая цвета, которые идут друг другу… Яркий, чистый цвет – это мое пристрастие». Не испытывая интереса к натуралистической аккуратности, Бакст оценивал картину по тону и текстуре, напряжению и диалогам между цветами. Он поддерживал простое рисование и запрещал черные обводки, потому что они прерывали полеты между красками. Шагал немедленно откликался Баксту. Оболенская вспоминала, что Шагал первым показал работу, где было розовое на зеленом фоне. Это могла быть «Маленькая гостиная», изображение комнаты в доме его деда в Лиозно: двойной изгиб спинки стула и срезанный угол стола вызывают ощущение движения и воздуха. Шагал, следуя совету Бакста, уменьшает количество цветов, чтобы лучше владеть ими, и напряжение между доминирующим оттенком розового и легким зеленым делает интерьер живым. Тем не менее «Маленькая гостиная», с ее неустойчивостью и беспокойством, более обязана Гогену, чем кому-либо еще.
Многому ли на самом деле Шагал научился у Бакста? Как и Бакст, он всю свою жизнь был связан с цветом и театром. Но в Школе Званцевой Шагал провел только шесть месяцев. Он всегда считал себя «необучаемым», тремя годами ранее, занимаясь у Пэна, Шагал писал: «Правда состоит в том, что я не в состоянии учиться. Или, скорее, меня невозможно учить… Хождение в школу было для меня скорее овладением информацией, общением, а не надлежащим обучением». Общение с Бакстом стало поворотным пунктом: Бакст открыл дверь в Европу. «Судьбу мою решила школа Бакста и Добужинского. Бакст повернул мою жизнь в другую сторону. Я вечно буду помнить этого человека», – писал Шагал в 1921 году.
Сам Бакст все больше поворачивался от России к Парижу. Весной 1910 года он устроил для учеников Школы Званцевой первую общую выставку в Санкт-Петербурге, в комнатах художественного журнала «Аполлон». Это был первый шанс для Шагала выставиться публично, и, хотя Бакст настаивал на анонимности сотни картин, карикатура одной из учениц, Магдалины Нахман, на тему этой выставки подтверждает, что работы Шагала стояли отдельно. Картина «Покойник» была выставлена под номером один, картина «Свадьба» и большой лиловый холст «Обед» (теперь утерянный) также были представлены. Но выставка потерпела фиаско: к вернисажу была разослана тысяча приглашений, однако почти никто не пришел. Карикатура Нахман показывает двух раздраженных, кажущихся недовольными посетителей. Оболенская печально пишет, что «день открытия должен был быть для нас большим событием, но не стал им». Больше всего шокировало студентов то, что сам Бакст так и не увидел выставки: он развелся с женой и покинул Санкт-Петербург за несколько дней до открытия. Он уехал в Париж 20 апреля, чтобы работать с Дягилевым и «Русским балетом», и не намеревался возвращаться в Россию. Шагал, который представлял себе, что с помощью Бакста сможет обосноваться в Европе, был подавлен. Разговор о возможной его поездке остался незавершенным, и теперь это мучило и доводило его до сильнейшего возбуждения. В конце апреля Шагал писал Баксту в Париж в дикой надежде получить от него приглашение во Францию. Но «ничего не отвечает (Б), – написал он Ромму в мае. – Забыл в вихре балерины, ее ножек вертящихся, забыл ученика (какое неизбежное слово), одного небольшого человека… и поэтому грустно».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?