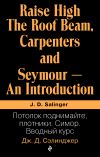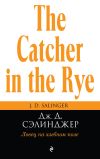Текст книги "Дж. Д. Сэлинджер"

Автор книги: Джером Сэлинджер
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
– Значит, хорошая картина была, а? – говорю.
– Шикарная просто, только Элис простыла, и мама у нее все время спрашивала, не гриппует ли она. Прямо посреди кино. Только там что-нибудь важное случится, ее мама перегибается через меня и спрашивает Элис, не гриппует ли она. На нервы действовало.
Потом я сказал ей про пластинку.
– Слушай, я тебе пластинку купил, – говорю. – Только по дороге домой она сломалась. – И я вытащил из кармана обломки и ей показал. – Я надрался, – говорю.
– Дай кусочки, – говорит Фиби. – Я их себе оставлю. – И взяла их у меня прямо из руки и в ящик тумбочки своей положила. Я чуть не сдох.
– Д. Б. на Рождество приезжает? – спрашиваю.
– Мама говорит, может, да, а может, нет. Как получится. Может, ему придется остаться в Голливуде и писать картину про Аннаполис[41]41
Аннаполис – столица штата Мэриленд, где располагается Военно-морская академия США (с 1845).
[Закрыть].
– Аннаполис, ёксель-моксель!
– Там про любовь и все такое. Угадай, кто там будет играть? Какая кинозвезда? Угадай!
– Мне это неинтересно. Аннаполис, ёксель-моксель. Да что Д. Б. знает про Аннаполис, ёксель-моксель? Как это связано вообще с его рассказами? – говорю. Ух, с ума съехать можно от такой херни. Голливуд, нафиг. – Что ты сделала с рукой? – спрашиваю. Я заметил, у нее локоть здоровенным шматом пластыря заклеен. А заметил почему – пижама-то у нее без рукавов.
– Да этот мальчишка, Кёртис Уайнтрауб, который у нас в классе, толкнул, когда я по лестнице в парк спускалась, – говорит. – Хочешь поглядеть? – И она принялась сдирать эту долбанутую липучку с руки.
– Оставь ее в покое. А почему он тебя с лестницы столкнул?
– Не знаю. Наверно, он меня терпеть не может, – Фиби такая говорит. – Мы с этой другой девочкой, Селмой Эттенбери, ему ветровку чернилами и всяким разным облили.
– Это некрасиво. Ты что, дитя малое, ёксель-моксель?
– Нет, но я только в парк пойду, он везде за мной ходит. Всегда ходит за мной. Он мне на нервы действует.
– Может, ты ему нравишься. Но из-за этого же не стоит чернилами…
– А я не хочу ему нравиться, – говорит. А потом уматно так на меня поглядела. – Холден, – говорит, – а почему ты домой не в среду приехал?
– Чего?
Ух, за ней глаз да глаз каждую минуту. Если думаете, что она какая-то дурочка, вы совсем спятили.
– Почему ты дома не в среду? – спрашивает. – Тебя ни выгнали, ничего, правда?
– Я ж тебе уже сказал. Нас раньше распустили. Отпустили всю…
– Тебя выгнали! Выгнали! – Фиби такая говорит. А потом кулаком меня по ноге двинула. Она сильно кулакастая, если ей в жилу. – Выгнали! Ой Холден! – А потом рот рукой прикрыла и всяко-разно. Сильно возбужденная она, чесслово.
– Кто сказал, что меня выгнали? Никто не говорил…
– Выгнали-выгнали, – говорит. И хвать меня снова кулаком. Если думаете, что не больно, вы совсем двинулись. – Папа тебя убьет! – говорит. Потом плюхнулась пузом на кровать и подушку, нафиг, себе на голову нахлобучила. Она так вполне себе часто делает. Иногда совсем чеканутая.
– Хватит, ну, – говорю. – Никто меня не убьет. Никто даже не… ну ладно, Фиб, убирай эту фигню с головы. Никто меня не убьет.
Только она не убирала. Ее никак не заставишь чего-нибудь сделать, если ей не в жилу. Знай себе твердит:
– Папа тебя убьет. – Там и не разберешь ни шиша с этой подушкой на голове.
– Никто меня не убьет. Мозги включи. Во-первых, я уезжаю. Я чего могу – я могу на ранчо работать устроиться на время или как-то. У меня парень знакомый есть, так у его деда ранчо в Колорадо. Могу там устроиться на работу, – говорю. – Меня когда не будет, я буду тебе писать и всяко-разно, если уеду. Ладно тебе. Убирай подушку. Давай, ну эй, Фиб. Пожалста. Пожалста, а?
Только она все равно не убрала. Я попробовал стянуть сам, только она сильная, как не знаю что. С ней драться устаешь. Ух, раз захочет подушку на башке у себя держать, там подушка и будет держаться.
– Фиби, ну пожалста? Вылазь оттуда, – твержу. – Ладно, эй?.. Эй, Уэзерфилд. Вылазь.
Только она не вылазила. Иногда ее вообще ничем не проймешь. Наконец я встал и вышел в гостиную, достал из сигаретницы на столе сиг и в карман сунул. У меня кончились.
22
Когда я вернулся, подушки на голове уже никакой не было – я так и знал, – только Фиби по-прежнему на меня не глядела, хоть и лежала уже на спине и всяко-разно. Я обошел кровать и снова сел, а она морденцию свою долбанутую в другую сторону отвернула. Бойкот такой, как я не знаю что. Как фехтовальная команда в Пенси, когда я, нафиг, рапиры в метро забыл.
– Как эта Хэзел Уэзерфилд? – спрашиваю. – Еще сочиняешь про нее? Та история, что ты мне прислала, у меня в чемодане. Он на вокзале. Очень хорошая.
– Папа тебя убьет.
Ух, вот взбредает ей в башку, если уж взбредает.
– Ничего не убьет. Самое худшее – взбучку устроит, а потом отправит, нафиг, в это военное училище. А больше ничего и не сделает. И потом – меня тут вообще не будет. Я уеду. Я – я, наверно, в Колорадо буду, на этом ранчо.
– Не смеши меня. Ты даже на лошади кататься не можешь.
– Кто не может? Еще как могу. Ну еще б не мог. Этому учат за две минуты, – говорю. – Хватит уже ковырять. – Она ковыряла этот пластырь на руке. – Тебя кто стриг? – спрашиваю. Я только что заметил, какую дурацкую прическу ей сделали. Слишком коротко.
– Тебя не касается, – говорит. Очень наглая иногда бывает. Вполне себе наглая такая. – Ты, я думаю, опять все предметы до единого провалил, – говорит – очень так нагло. Но и уматно в каком-то смысле. Иногда она разговаривает, как, нафиг, училка, а сама же малявка, да и только.
– А вот и нет, – говорю. – Английский я сдал. – А потом, вот просто от нефиг делать, я ее за попу ущипнул. Очень уж сильно в воздух торчала, так Фиби улеглась на бок. Да и попы-то у нее почти нет. Я не сильно, а она все равно по руке меня садануть попыталась, только промазала.
А потом вдруг ни с того ни с сего говорит:
– Ох, ну и зачем же ты только это сделал? – В смысле, почему меня выперли. Мне сразу как-то убого стало, так она сказала это.
– Господи, Фиби, не спрашивай. Меня уже тошнит, что все спрашивают, – говорю. – Мильон причин. Это одна из худших школ, куда я ходил. Там полно фуфла. И погани всякой. Столько поганых типусов ты в жизни не видала. Например, сидишь и треплешься у кого-нибудь в комнате, а кто-нибудь еще хочет зайти, так его не пускают, если это какой-нибудь бажбан прыщавый. Все вечно двери себе запирают, если кто-то хочет зайти. И у них еще такое тайное, нафиг, братство, куда я зассал не вступать. Там есть такой прыщавый зануда, Роберт Экли, – он вот вступить хотел. Долго хотел и пытался, а его не пускали. Только потому, что он прыщавый и зануда. Мне об этом даже говорить не в жилу. Говно школа. Поверь мне на слово.
Фиби такая ничего не сказала – но она слушала. У нее по затылку видно, что слушала. Она всегда слушает, если что-нибудь ей рассказываешь. А самая умора – она почти что всегда понимает, о чем, нахер, ты ей говоришь. По-честному врубается.
И я дальше ей про Пенси излагал. Как бы в струю было.
– Там даже пара нормальных преподов – и те фуфло, – говорю. – Был там один такой старикан, мистер Спенсер. Жена его всегда горячим шоколадом поит и прочей фигней, и они, в общем, вполне себе нормальные такие. Но ты б его видела, когда к нему на историю зашел директор, этот Тёрмер, и сел на заднюю парту. Он вечно приходит и сидит на задней парте, ну где-то с полчаса. С понтом, инкогнито или как-то. А немного погодя посидел он там – и давай этого Спенсера перебивать, корки бородатые отмачивать. Этот Спенсер чуть не сдох, пока хмыкал, улыбался и всяко-разно, будто Тёрмер этот – принц сказочный, нафиг, или еще как-то.
– Не ругайся так сильно.
– Рвать тянет, чесслово, – говорю. – Потом на День ветеранов. У них день такой есть, День ветеранов, когда все эти туполомы, которые Пенси заканчивали года с 1776-го, возвращаются и бродят везде, с женами, детьми и прочей шушерой. Видела б ты этого старикана – лет полста ему. Он чего – он пришел к нам в комнату, в дверь постучал и спрашивает, можно ли ему в сортир. А сортир – в конце коридора, фиг знает, почему вообще у нас стал спрашивать. Знаешь, чего сказал? Говорит, ему интересно, сохранились ли его инициалы, которые он на двери тубза вырезал. Он же чего – он вырезал, нафиг, эти свои дурацкие убогие инициалы на двери в тубзо лет девяносто назад, и теперь ему хотелось поглядеть, там они или нет. И мы с соседом проводили его до сортира и всяко-разно, и стояли смотрели, пока он на всех дверях в кабинки инициалы свои искал. И все это время он нам булки мял – про то, что в Пенси у него были самые счастливые дни в жизни, советы на будущее нам давал и всяко-разно. Ух какая меня от него тоска взяла! Я не в смысле, что он плохой, – он ничего. Но ведь не обязательно гады тоску наводят, это и хороший может запросто. Тут же всего-то надо, что надавать побольше фуфловых советов, пока ищешь свои инициалы на какой-нибудь двери в тубзо, вот и все. Фиг знает. Может, все и ничего было бы, если б не одышка у него. А он весь запыхался, когда по лестнице наверх перся, и пока он эти свои инициалы искал, сопел все, и ноздри у него смешные и убогие такие, и он нам со Стрэдлейтером все талдычил, чтоб мы из Пенси как можно больше взяли. Господи, Фиби! Не могу я объяснить. Да мне просто не в жилу все, что там творилось. Не могу объяснить.
Тут Фиби такая чего-то сказала, только я ее не расслышал. Она ртом в самую подушку воткнулась, и я ничего не услышал.
– Чего? – говорю. – Рот отлепи. Я ни фига не слышу, когда ты ртом в подушку.
– Тебе ничего не нравится, что творится.
Когда она так сказала, мне еще тоскливей стало.
– А вот и нет. А вот и нет. Еще как нравится. Не говори так. Зачем, нафиг, ты так говоришь?
– Потому что нет. Тебе никакие школы не нравятся. Тебе миллион всего не нравится. Нет, и все.
– Нравится. Вот тут ты не права – вот тут как раз и ошиблась! На фига вот такое говорить? – говорю. Ух какая мне от нее тоска.
– Потому что нет, – говорит. – Назови хоть что-нибудь.
– Что-нибудь? Такое, чтоб мне нравилось? – говорю. – Ладно.
Засада в том, что я не слишком путёво мог сосредоточиться. Иногда сосредоточиться офигенно трудно.
– Что-нибудь одно, что мне сильно в жилу? – спрашиваю.
А она не ответила. Только искоса так смотрела на меня, нахер, с другой стороны кровати. Миль тыща до нее.
– Ну давай, скажи, – говорю. – Одно такое, что мне сильно нравится или просто в жилу?
– Что сильно нравится.
– Ладно, – говорю. Только засада в том, что никак не сосредоточиться. В башке только те две монашки, которые гроши ходили собирали в свои битые плетеные корзинки. Особенно очкастая со стальными дужками. И тот пацан, знакомый по Элктон-Хиллз. Там в Элктон-Хиллз был один пацан по имени Джеймз Касл, который не хотел брать обратно то, чего сказал про другого пацана, самодовольного такого, Фила Стейбила. Джеймз Касл назвал его самодовольным типусом, и кто-то из паршивых корешей Стейбила пошел и настучал на него Стейбилу. Поэтому Стейбил и еще шесть гнусных гадов пошли в комнату к Джеймзу Каслу, вломились туда, заперли, нафиг, дверь и хотели, чтобы он взял свои слова обратно, а он ни в какую. Ну они и принялись за него. Не буду говорить даже, что они с ним делали – слишком отвратительно, – а он все равно ничего не брал, этот Джеймз Касл. Вы б его видели. Тощий такой хиляга на вид, руки что карандашики. Наконец он чего – он не стал ничего обратно брать, а выпрыгнул из окна. Я как раз в ду́ше был и всяко-разно, но даже там слышно было, как он снаружи грохнулся. Я-то просто подумал, что-то из окна упало – радио или стол там, или как-то, не пацан же, ничего. А потом слышу – все бегут по коридору, вниз по лестнице, поэтому я халат накинул и тоже рванул, а там этот Джеймз Касл прямо на каменных ступеньках лежит и всяко-разно. Мертвый, и зубы эти его, и кровь везде, а к нему даже не подойдет никто. На нем был такой свитер с горлом, я ему давал поносить. А с теми, кто с ним в комнате был, ничего не сделали, только исключили. Даже в тюрьму не посадили.
Вот и все, что я мог придумать. Те две монашки, с которыми за завтраком познакомился, да этот пацан Джеймз Касл, которого я знал в Элктон-Хиллз. Самая умора как раз в том, что с Джеймзом Каслом мы еле знакомы были, сказать вам правду. Он такой был спокойный очень. Мы с ним на матёму вместе ходили, только он совсем на другой стороне сидел, вообще почти не вставал отвечать и к доске ни выходил, ничего. Есть такие парни в школе – вообще почти отвечать не встают и к доске не ходят. По-моему, мы с ним один только раз и поговорили, когда он спросил, нельзя ли взять у меня поносить свитер с горлом. Я, нахер, чуть не сдох, когда он спросил, – так удивился и всяко-разно. Помню, я зубы чистил в хезнике, когда он спросил. Говорит такой, у него двоюродный приезжает и берет его с собой покататься и всяко-разно. А я даже не знал, что он знает, что у меня есть такой свитер с горлом. Про него я одно только знал – что у него фамилия по списку перед моей стоит. Кабел Р., Кабел У., Касл, Колфилд – до сих пор не забыл. Сказать вам правду, я чуть свитер-то от него не зажилил. Просто потому, что не сильно его знал.
– Чего? – спрашиваю. Фиби мне что-то сказала, только я не расслышал.
– Ты даже одну штуку придумать не можешь.
– А вот и могу. Вот и могу.
– Ну так придумай.
– Мне нравится Олли, – говорю. – И мне нравится то, что я вот сейчас делаю. Сижу тут с тобой и болтаю, и думаю про всякую фигню, и…
– Олли умер… Ты всегда так говоришь! Если кто-то умер и все такое, и на Небо попал, тогда не считается…
– Я знаю, что он умер! Думаешь, я не знаю? Но он же мне может по-прежнему нравиться или нет? Просто потому, что кто-то умер, он же тебе не перестает нравиться, ёксель-моксель, – особенно если они в тыщу раз нормальнее того, про кого знаешь, что он жив и всяко-разно.
Фиби такая ничего не сказала. Когда она не может придумать, что сказать, она вообще ни слова, нафиг, не говорит.
– В общем, мне сейчас нравится, – говорю. – В смысле – вот сейчас. Сидеть тут с тобой и просто по ушам ездить, и дурака…
– Да это вообще понарошку!
– Ничего не понарошку! И вовсе не понарошку совсем! Чего, нафиг, ради? Вечно все думают, что всё понарошку. И меня, нафиг, уже от этого тошнит.
– Хватит ругаться. Ладно, еще что-нибудь назови. Назови, кем ты бы хотел быть. Ну, ученый. Или юрист, или еще чего-нибудь.
– Я не могу быть ученым. У меня с точными науками засада.
– Ну юристом – как папа и все такое.
– Юристы, наверно, ничего – только меня не привлекает, – говорю. – В смысле, они ничего, если ходят все время и спасают невинные жизни, и вроде того, только если ты юрист, ты таким не маешься. Только гроши зашибаешь, играешь в гольф там, в бридж, покупаешь машины, пьешь мартини и выглядишь как ферт. А кроме того. Даже если и ходишь, и спасаешь невинные жизни и всяко-разно, откуда тебе знать, ты это делаешь потому, что тебе в жилу было спасать невинные жизни, или потому, что ты ходил и спасал, потому что на самом деле тебе хотелось быть зашибенским юристом, чтоб тебя все по спине хлопали и поздравляли в суде, когда, нафиг, процесс закончится, репортеры и прочие, как в этом гнусном кино? Откуда тебе знать, что ты не фуфло? Засада в том, что ниоткуда.
Я не сильно уверен, просекла Фиби, что за херню я ей толкую, или нет. В смысле, она ж мелкая малявка все-таки и всяко-разно. Но она хоть слушала. Если кто-то на крайняк хоть слушает, уже нехило.
– Папа тебя убьет. Он тебя просто убьет, – говорит.
Только я не слушал. Я про совсем другую фигню думал – совсем долбанутую.
– Знаешь, кем бы я хотел быть? – спрашиваю. – Знаешь, кем? В смысле, если б, нафиг, у меня выбор был?
– Кем? И хватит ругаться.
– Знаешь такую песню – «Если кто ловил кого-то сквозь густую рожь»? Мне бы…
– Там «Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь»! – Фиби такая говорит. – Это стих такой. Роберта Бёрнса.
– Я знаю, что это стих Роберта Бёрнса.
Хотя она права была. Там и впрямь «Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь». Хотя тогда я этого не знал.
– А я думал: «Если кто ловил кого-то», – говорю. – В общем, у меня перед глазами только эти малявки – играют себе во что-то на таком здоровенном поле с рожью и всяко-разно. Тыщи малявок, а рядом никого – больших никого, в смысле, – только я один. И я стою на краю какого-то долбанутого обрыва. И мне чего надо – мне надо ловить всех, чтобы вдруг с обрыва не навернулись: в смысле, они же носятся там и не смотрят, куда бегут, а я должен выскакивать откуда-то и их ловить. И больше весь день я б ничего не делал. Был бы ловцом на этом хлебном поле и всяко-разно. Я знаю, что это долбануться, только больше я б ничем не хотел быть. Я знаю, что долбануться.
Фиби такая долго ничего не говорила. А потом открыла рот и говорит только:
– Папа тебя точно убьет.
– Да и надристать, если убьет, – говорю. Потом встал с кровати, потому что мне чего захотелось – мне в жилу вдруг стало позвонить этому парню, который у меня английский вел в Элктон-Хиллз, мистеру Антолини. Он теперь живет в Нью-Йорке. Элктон-Хиллз бросил. Теперь ведет английский в Университете Нью-Йорка.
– Мне позвонить надо, – говорю. – Я сейчас вернусь. Не засыпай. – Я не хотел, чтоб она засыпала, пока я в гостиной. Понятно, что не заснет, но я все равно сказал, чтоб уж наверняка.
Я пошел к двери, а Фиби такая тут говорит:
– Холден! – и я развернулся.
Она сидела на кровати. Такая симпотная.
– А я рыгать учусь у этой девочки, Филлис Маргулис, – говорит. – Слушай.
Я послушал и чего-то услышал, но как-то не очень.
– Молодец, – говорю. Потом зашел в гостиную и набрал этого своего препода, мистера Антолини.
23
По телефону я не сильно рассусоливал – боялся, штрики напрыгнут прямо посредине. Но не напрыгнули. Мистер Антолини нормальный такой ответил. Говорит, я могу сразу к нему приехать, если хочу. Я, наверно, их с женой разбудил, потому что как-то неслабо долго они к телефону подходили. Первым делом он меня спросил, что случилось, а я говорю: ничего. Только сказал, что все завалил в Пенси. Ну и что тут такого – ему-то можно. Он говорит:
– Боже праведный, – когда я ему изложил. Неслабое у него чувство юмора и всяко-разно. Сказал, чтоб я сразу к нему ехал, если мне в струю.
Он у меня, наверно, лучший препод был, этот мистер Антолини. Ничего так молодой парняга, ненамного старше моего брательника Д. Б., и его подначивать можно было так, чтоб и уважения к нему не потерять. Это он в конце концов подобрал того пацана, который из окна выпрыгнул, я вам рассказывал, Джеймза Касла. Этот мистер Антолини пульс ему пощупал и всяко-разно, а потом снял пальто с себя и накрыл, и нес Джеймза Касла до самого лазарета. И ему надристать даже было, что у него все пальто в крови будет.
Когда я вернулся в комнату Д. Б., Фиби такая радио включила. Передавали танцевальную музыку. Только Фиби тихо включила, чтоб горничная не услышала. Вы б ее видели. Сидит такая прямо посередке кровати, на одеяле, ноги сложила, как эти йоги. Музыку слушает. Сдохнуть можно.
– Давай, – говорю. – Хочешь потанцевать? – Я ее танцевать научил и всяко-разно, когда она совсем еще карапуз была. Очень неслабо танцует. Я в смысле, что немного чему ее научил. А так она сама в основном училась. По-настоящему же никого научить танцевать нельзя.
– Ты в ботинках, – говорит.
– Я сниму. Давай.
Так она, считай, с кровати спрыгнула, подождала, когда я ботинки сниму, а потом мы с ней сколько-то еще танцевали. Она по-честному танцует неслабо. Не в струю те, кто с малявками танцует, потому что смотрится это по большей части жуть. В смысле, где-нибудь в ресторане, и видишь, как старикан какой-нибудь выводит свою малявку на пятак. Они обычно ей платье нечаянно всегда сзади наверх поддергивают, а малявка же ни шиша танцевать не умеет и жуть как смотрится, но на людях я так все равно никогда не делаю ни с Фиби, никак. Мы только дома дурака валяем. С ней-то все по-другому, потому что танцевать она умеет. Идет за тобой по-всякому. В смысле, если держишь ее, как не знаю что, близко, чтоб наплевать, что ноги у тебя сильно длиннее. Она от тебя не отлипает ни шиша. Можно ногой за ногу заступать, подныривать фофански, даже иногда чутка джиттербажить, а она не отлипает. Даже танго можно, ёксель-моксель.
Мы четыре номера где-то станцевали. В перерывах от нее одна умора, как не знаю что. Позиции не меняет. Даже ни разговаривает, ничего. Стоим такие в позиции, ждем, пока оркестр снова не заиграет. Сдохнуть можно. Ни смеяться, ничего тоже нельзя.
В общем, мы номера четыре станцевали, а потом я выключил радио. Фиби такая снова в постель запрыгнула и залезла под одеяло.
– У меня лучше получается, правда? – спрашивает.
– Еще как, – говорю. Я снова сел к ней на кровать. Как бы запыхался. Слишком, нахер, много курю, дыхалки никакой. А она вообще почти не запыхалась.
– Потрогай мне лоб, – говорит вдруг ни с того ни с сего.
– Зачем?
– Потрогай. Один разок всего.
Я потрогал. Только ничего не нащупал.
– Есть температура? – спрашивает.
– Нет. А должна быть?
– Да. Я ее нагоняю. Потрогай еще.
Я опять потрогал и все равно ничего не почувствовал, но говорю:
– Похоже, растет. – Не хотелось, чтоб у нее комплекс, нафиг, неполноценности был.
Она кивнула.
– Я через градунсик ее могу нагнать.
– Градусник. Кто сказал?
– Мне Элис Холмборг показала. Садишься по-турецки и не дышишь, и думаешь про что-нибудь очень-очень горячее. Про батарею или еще что-нибудь. А потом весь лоб у тебя такой жаркий становится, что можно руку обжечь кому-нибудь.
Я чуть не сдох. Отдернул руку у нее ото лба, словно это жуть как опасно.
– Спасибо, что предупредила, – говорю.
– Ой, тебе я б не обожгла. Я б остановилась, когда… Тшшш! – И она быстро, как не знаю что, подскочила на кровати.
Напугала меня, как не знаю что.
– Чего такое? – спрашиваю.
– Дверь, – говорит громким таким шепотом. – Это они!
Я мигом вскочил, подбежал и погасил лампу над столом. Потом затер бычок о ботинок и сунул в карман. Разогнал воздух немного, чтоб дымом не воняло, – ёксель-моксель, на фига я только тут курил? Потом схватил ботинки, нырнул в чулан и закрыл дверь. Ух, сердце у меня колотилось, как гад.
Слышу, в комнату штруня зашла.
– Фиби? – говорит. – Ну-ка прекрати. Я видела свет, барышня.
– Привет! – Это Фиби уже такая. – Я заснуть не могла. Хорошо повеселились?
– Изумительно, – говорит штруня, только видно, что не по-честному. Она никогда не радуется, если из дому выходит. – Ты почему не спишь, можно осведомиться? Тебе тепло?
– Тепло. Просто заснуть не могла.
– Фиби, ты здесь курила? Правду мне, пожалуйста, барышня.
– Чего? – говорит такая Фиби.
– Ты меня слышала.
– Всего одну зажгла и на секундочку. Я только разик пыхнула. А потом в окно выбросила.
– Но зачем, можно осведомиться?
– Заснуть не могла.
– Мне это не нравится, Фиби. Мне это совсем не нравится, – говорит штруня. – Тебе дать еще одеяло?
– Нет, спасибо. Спок-ночи! – Фиби такая говорит. От штруни избавиться хочет поскорее, сразу видать.
– Как кино? – спрашивает та.
– Отлично. Только вот мама Элис. Она все кино через меня перегибалась и спрашивала, гриппует Элис или нет. А домой мы ехали на такси.
– Дай мне пощупать лоб.
– Я ничем не заразилась. У нее ничего не было. Это все ее мама.
– Ну что ж. Теперь спи. Как поужинала?
– Паршиво, – говорит Фиби.
– Ты слышала, что сказал твой отец об этом слове. Ну что в ужине было паршивого? Очень милая баранья отбивная. Я аж на Лексингтон-авеню ходила за…
– Отбивная нормальная, просто Шарлин все время на меня дышит, когда ставит на стол. На еду дышит, на всяко-разное. На все дышит.
– Ну что ж. Спи теперь. Поцелуй мамочку. Ты помолилась?
– В ванной. Спок-ночи!
– Спокойной ночи. И сейчас же засыпай. У меня голова раскалывается, – говорит штруня. У нее ничего так себе часто голова раскалывается. По-честному.
– Выпей аспирину, – Фиби такая говорит. – Холден дома в среду будет, да?
– Насколько я знаю. Укрывайся давай. До конца укрывайся.
Я услышал, как штруня вышла и закрыла за собой дверь. Пару минут подождал. Потом вышел из чулана. И тут же влепился в эту Фиби, потому что там такая темень, а она вылезла из постели и двинулась меня встречать.
– Больно? – спрашиваю. Теперь шептаться нужно было, потому что оба они уже дома. – Надо мослами шевелить, – говорю. Нащупал в темноте кровать, сел на край и стал надевать ботинки. Меня вполне так себе колотило. Куда деваться.
– Сейчас не ходи, – шепчет Фиби. – Погоди, пускай заснут!
– Нет. Надо. Сейчас лучше всего, – говорю. – Она будет в ванной, а папа новости включит или чего-нибудь. Лучше сейчас. – Фиг шнурки завяжешь, так меня колотило. Штрики меня, само собой, ни убьют, ничего, если дома поймают, только будет сильно не в струю и всяко-разно. – Ты, нафиг, где вообще? – говорю этой Фиби. Такая темень, что ни шиша ее не видать.
– Тут. – Она прямо рядом со мной стояла. Я ее даже не видел.
– У меня, нафиг, чемоданы на вокзале, – говорю. – Слышь. У тебя гроши есть, Фиб? Я, считай, банкрот.
– Только рождественские. На подарки и прочее. Я вообще ничего еще не покупала.
– А. – Не в жиляк мне было у нее рождественские гроши забирать.
– Тебе надо? – спрашивает.
– Я не хочу у тебя рождественские гроши забирать.
– Я могу сколько-то тебе одолжить, – говорит. Потом слышу – она возле стола Д. Б., просто мильон ящиков открывает и внутри шарит. Тьма такая в комнате, хоть глаз выколи. – А если ты уедешь, ты меня в спектакле не увидишь, – говорит. И голос у нее так чудно́ звучал при этом.
– Увижу. Я никуда не поеду до спектакля. Думаешь, мне в жилу такое пропускать? – говорю. – Я вот чего сделаю – я, наверно, поживу пока у мистера Антолини, может, до вторника до вечера. А потом приеду домой. Если получится, я тебе позвоню.
– На, – говорит такая Фиби. Она мне грошей пыталась дать, только руки моей не нашла.
– Где?
Она вложила гроши мне в руку.
– Эй, да мне столько не надо, – говорю. – Ты мне два зеленых дай, и все. Кроме шуток – на. – Я попробовал ей вернуть, только она брать не захотела.
– Бери все. Потом отдашь. Принесешь на спектакль.
– Сколько тут, ёксель-моксель?
– Восемь долларов восемьдесят пять центов. Шестьдесят пять центов. Я немножко потратила.
И тут вдруг я ни с того ни с сего заревел. Куда тут денешься. Я так заревел, только чтоб меня никто не услышал, но заревел. Фиби такая вся перепугалась, когда я начал, подошла, хотела, чтоб я перестал, а как тут, нафиг, сразу перестанешь. Я еще сидел у нее на кровати, когда начал, и Фиби этой рукой своей меня обхватила за шею, а я ее, но все равно еще долго не мог перестать. Думал, до смерти задохнусь или как-то. Ух как эта Фиби из-за меня, нахер, перепугалась. Окно открыто, нафиг, и как-то, я чувствую, – она вся дрожит и всяко-разно, потому что на ней одна пижама. Я попробовал снова ее уложить, а она не хочет. В конце концов я перестал. Только все равно точняк долго это было. Потом я дозастегнул куртейку и всяко-разно. Сказал Фиби, что выйду на связь. Она говорит: я могу и с ней в кровати спать, если хочу, но я сказал, что нет, мне лучше отвалить, меня мистер Антолини ждет и всяко-разно. Потом вытащил из кармана охотничий кепарь и ей отдал. Ей такие долбанутые в жилу. Она брать не хотела, только я заставил. Спорнем, она в нем и спать легла. Ей такие шапки точняк в струю. Потом я ей еще раз сказал, что звякну, если получится, а потом отвалил.
Из дома выбираться было, нахер, в сто раз легче почему-то. Во-первых, мне уже было надристать, поймают меня или нет. По-честному. Я прикинул, что поймают так поймают. Хоть бы поймали, что ли, в каком-то смысле.
До самого низу я спустился пешком, на лифте не поехал. По задней лестнице. Чуть шею себе не своротил об десять где-то мильонов мусорных ведер, но выбрался нормально. Лифтер меня даже не видал. Наверно, до сих пор думает, что я сижу у Дикстайнов.
24
У мистера и миссис Антолини была такая сильно шикарная квартира на Саттон-плейс, где в гостиную надо спускаться по двум ступенькам, там бар и всяко-разно. Я там нормально так бывал, потому что когда бросил Элктон-Хиллз, мистер Антолини вполне себе часто к нам домой на ужин приходил – узнать, как у меня дела. Он тогда не был женат. А потом когда женился, я, бывало, ничего так часто с ним и миссис Антолини в теннис играл в Теннисном клубе Уэст-Сайда, в Форест-Хиллз на Лонг-Айленде. Миссис Антолини сама оттуда. Вся в грошах купается. Она лет на шестьдесят старше мистера Антолини, но они вроде вполне себе ладили. Во-первых, они оба сильно интели, особенно мистер Антолини, только он больше остряк, чем интель, если с ним общаться, вроде Д. Б. Миссис Антолини – та больше по серьезу. У нее с астмой фигово. Оба они читали рассказы Д. Б. – и миссис Антолини тоже, – и когда Д. Б. поехал в Голливуд, мистер Антолини ему позвонил и говорит: не ездите. А Д. Б. все равно поехал. Мистер Антолини сказал, что тем, кто пишет, как Д. Б., в Голливуде нечего делать. Точняк то же, что и я говорил, слово в слово.
Я б до их дома и пешком дошел, потому что не в струю мне было тратить Фибины рождественские гроши, чего ради, только мне так чудно́ стало, когда я наружу вышел. Вроде как башка закружилась. Поэтому я взял мотор. Не в жилу, но взял. Мотор там, нахер, фиг найдешь еще.
Когда я в звонок позвонил, этот мистер Антолини дверь мне сразу открывает – после того то есть, как лифтер наконец меня довез дотуда, гад. Выглядывает в халате и шлепанцах, а в руке – вискач с содовой. Такой себе хитровывернутый типус, да и киряет он неслабо.
– Холден, мо-мальчик! – говорит. – Боже праведный, да он еще на двадцать дюймов подрос. Прекрасно, что зашел.
– Вы как, мистер Антолини? Как миссис Антолини?
– Мы оба просто отпад. Давай-ка сюда куртку. – Снял с меня куртку и повесил. – Я рассчитывал увидеть у тебя на руках новорожденного. Некуда податься. Снег на ресницах. – Иногда он вполне себе остряк. Повернулся и орет в кухню: – Лиллиан! Как там у нас с кофе? – Лиллиан – это миссис Антолини так зовут.
– Все готово! – орет она в ответ. – Это Холден? Привет, Холден!
– Здрасьте, миссис Антолини!
Там у них всегда орать надо. Потому что оба никогда в одной комнате одновременно не сидят. Умора такая.
– Садись, Холден, – говорит мистер Антолини. Сразу видать, он уже слегка под градусом. В комнате такой вид, точно у них тут балёха только что была. Везде стаканы, тарелки с орешками. – Прошу простить за антураж помещения, – говорит. – Мы принимали друзей миссис Антолини из города Бизон, Южная Дакота… Те еще бизоны вообще-то.
Я посмеялся, а миссис Антолини заорала мне чего-то из кухни, только я не расслышал.
– Что она сказала? – спрашиваю у мистера Антолини.
– Говорит, чтоб ты на нее не смотрел, когда выйдет. Она только что из люльки. Закуривай. Ты же теперь куришь?
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!