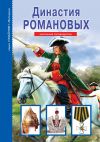Текст книги "Портрет художника в юности"

Автор книги: Джеймс Джойс
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Он опустил голову на руки, умоляя сердце свое быть смиренным и кротким, дабы и он мог стать таким же, как те, что стояли на коленях рядом с ним, и чтобы его молитва была угодна Господу так же, как их молитва. Он молился с ними рядом, но это было тяжко. Его душа смердела во грехе, и он не смел молить о прощении с простой сердечной верой тех, кого Христос неисповедимыми путями Божиими первыми призвал к себе, – плотников, рыбаков, простых бедных людей, которые занимались скромным ремеслом: распиливали деревья на доски, терпеливо чинили сети.
Высокая фигура сошла по ступенькам придела, и ждущие у исповедальни зашевелились. Подняв глаза, он успел заметить длинную седую бороду и коричневую рясу капуцина. Священник вошел в исповедальню и скрылся. Двое поднялись и прошли туда с двух сторон. Деревянная ставенка задвинулась, и слабый шепот нарушил тишину.
Кровь зашумела у него в венах, зашумела, как греховный город, поднятый ото сна и услышавший свой смертный приговор. Вспыхивают языки пламени, пепел покрывает дома. Спящие пробуждаются, вскакивают, задыхаясь в раскаленном воздухе.
Ставенка отодвинулась. Исповедовавшийся вышел. Открылась дальняя ставенка. Женщина спокойно и быстро прошла туда, где только что на коленях стоял первый исповедовавшийся. Снова раздался тихий шепот.
Он еще может уйти. Он может подняться, сделать один шаг и тихо выйти и потом стремглав побежать по темным улицам. Он все еще может спастись от позора. Пусть бы это было какое угодно страшное преступление, только не этот грех. Даже убийство! Огненные язычки падают, обжигают его со всех сторон – постыдные мысли, постыдные слова, постыдные поступки. Стыд покрыл его с ног до головы, как тонкий раскаленный пепел. Выговорить это, назвать словами! Его измученная душа задохнулась бы, умерла.
Ставенка опять задвинулась. Кто-то вышел из исповедальни. Открылась ближняя ставенка. Следующий вошел туда, откуда вышел второй. Теперь оттуда туманными облачками набегал мягкий лепечущий звук. Это исповедуется женщина. Мягкие шепчущие облачка, мягкая шепчущая дымка, шепчущая и исчезающая.
Припав к деревянной скамье, он уничиженно бил себя кулаком в грудь. Он соединится с людьми и с Богом. Он возлюбит своего ближнего. Он возлюбит Бога, который создал и любил его. Он падет на колени, и будет молиться вместе с другими, и будет счастлив. Господь взглянет на него и на них и всех их возлюбит.
Нетрудно быть добрым. Бремя Божие сладостно и легко. Лучше никогда не грешить, всегда оставаться младенцем, потому что Бог любит детей и допускает их к себе. Грешить так тяжко и страшно. Но Господь милосерден к бедным грешникам, которые чистосердечно раскаиваются. Как это верно! Вот смысл истинного милосердия!
Ставенка внезапно задвинулась. Женщина вышла. Теперь настала его очередь. Он с трепетом поднялся и, как во сне, ничего не видя, прошел в исповедальню.
Его час пришел. Он опустился на колени в тихом сумраке и поднял глаза на белое Распятие, висевшее перед ним. Господь увидит, что он раскаивается. Он расскажет обо всех своих грехах. Исповедь будет долгой-долгой. Все в церкви узнают, какой он грешник. Пусть знают – раз это правда. Но Бог обещал простить его, если он раскается, а он кается. Он стиснул руки и простер их к белому Распятию. Он страстно молился: глаза его затуманились, губы дрожали, по телу пробегала дрожь; в отчаянии он мотал головой из стороны в сторону, произнося горячие слова молитвы.
– Каюсь, каюсь, о, каюсь!
Ставенка отворилась, и его сердце замерло. У решетки вполоборота к нему, опершись на руку, сидел старый священник. Он перекрестился и попросил духовника благословить его, ибо он согрешил. Затем, опустив голову, в страхе прочел «Confiteor». На словах «мой самый тяжкий грех» он остановился, у него перехватило дыхание.
– Когда ты исповедовался в последний раз, сын мой?
– Очень давно, отец мой.
– Месяц тому назад, сын мой?
– Больше, отец мой.
– Три месяца, сын мой?
– Больше, отец мой.
– Шесть месяцев, сын мой?
– Восемь месяцев, отец мой.
Вот оно – началось. Священник спросил:
– Какие грехи ты совершил за это время?
Он начал перечислять: пропускал обедни, не читал молитвы, лгал.
– Что еще, сын мой?
Грехи злобы, зависти, чревоугодия, тщеславия, непослушания.
– Что еще, сын мой?
Спасения нет. Он прошептал:
– Я… совершил грех блуда, отец мой.
Священник не повернул головы.
– С самим собой, сын мой?
– И… с другими.
– С женщинами, сын мой?
– Да, отец мой.
– С замужними женщинами, сын мой?
Он не знает. Грехи стекали с его губ один за другим, стекали постыдными каплями с его гниющей и кровоточащей, как язва, души, они сочились мутной порочной струей. Он выдавил из себя последние грехи – постыдные, мерзкие. Больше рассказывать было нечего. Он поник головой в изнеможении.
Священник молчал. Потом спросил:
– Сколько тебе лет, сын мой?
– Шестнадцать, отец мой.
Священник несколько раз провел рукой по лицу. Потом подпер лоб ладонью, прислонился к решетке и, по-прежнему не глядя на него, медленно заговорил. Голос у него был усталый и старческий.
– Ты еще очень молод, сын мой, – сказал он, – и я умоляю тебя, откажись от этого греха. Он убивает тело и убивает душу. Он – причина всяческих преступлений и несчастий. Откажись от него, дитя мое, во имя Господа Бога. Это недостойная и низкая склонность. Ты не знаешь, куда она тебя заведет и как обратится против тебя. Пока этот грех владеет тобой, бедный сын мой, милость Божия оставила тебя. Молись нашей Святой Матери Марии. Она поможет тебе, сын мой. Молись нашей Преблагой Деве, когда тебя обуревают греховные помыслы. Ты ведь будешь молиться, сын мой? Ты раскаиваешься в этих грехах, я верю, что раскаиваешься. И ты дашь обет Господу Богу, что Его святою милостью никогда больше не прогневишь Его этим безобразным, мерзким грехом. Ты дашь этот торжественный обет Богу, не правда ли, сын мой?
– Да, отец мой.
Усталый старческий голос был подобен живительному дождю для его трепещущего иссохшего сердца. Как отрадно и как печально!
– Дай обет, сын мой. Тебя совратил дьявол. Гони его обратно в преисподнюю, когда он будет искушать тебя, гони этого нечистого духа, ненавидящего нашего Создателя. Не оскверняй тело свое. Дай обет Богу, что ты отрекаешься от этого греха, от этого мерзкого, презренного греха.
Ослепший от слез и света милосердия Божия, он преклонил голову, услышав торжественные слова отпущения грехов и увидев благословляющую его руку священника.
– Господь да благословит тебя, сын мой. Молись за меня.
Он опустился на колени в углу темного придела и стал читать покаянную молитву, и молитва возносилась к небу из его умиротворенного сердца, как струящееся благоухание белой розы.
Грязные улицы смотрели весело. Он шел и чувствовал, как невидимая благодать окутывает и наполняет легкостью все его тело. Он пересилил себя, покаялся, и Господь простил его. Душа его снова сделалась чистой и святой, святой и радостной.
Как было бы прекрасно умереть теперь, если на то будет воля Господа. Прекрасно жить в благодати, в мире с ближними, в добродетели и смирении.
Он сидел перед очагом в кухне, не решаясь от избытка чувств проронить ни слова. До этой минуты он не знал, какой прекрасной и благостной может быть жизнь. Лист зеленой бумаги, заколотый булавками вокруг лампы, отбрасывал вниз мягкую тень. На буфете стояла тарелка с сосисками и запеканкой, на полке были яйца. Это к утреннему завтраку после причастия в церкви колледжа. Запеканка и яйца, сосиски и чай. Как проста и прекрасна жизнь. И вся жизнь впереди.
В забытьи он лег и уснул. В забытьи он поднялся и увидел, что уже утро. Забывшись, как во сне, он шагал тихим утром к колледжу. Все мальчики уже были в церкви и стояли на коленях, каждый на своем месте. Он стал среди них, счастливый и смущенный. Алтарь был усыпан благоухающими белыми цветами, и в утреннем свете бледные огни свечей среди белых цветов были ясны и спокойны, как его душа.
Он стоял на коленях перед алтарем среди товарищей, а напрестольная пелена колыхалась над их руками, образовавшими живую поддержку. Руки его дрожали, и душа его дрогнула, когда он услышал, как священник с чашей Святых Даров переходил от причастника к причастнику.
– Corpus Domini nostri[7]7
Тело Господа нашего (лат.).
[Закрыть].
Наяву ли это? Он стоит здесь на коленях – безгрешный, робкий; сейчас он почувствует на языке облатку, и Бог войдет в его очищенное тело.
– In vitam eternam. Amen[8]8
В жизнь вечную. Аминь (лат.).
[Закрыть].
Новая жизнь! Жизнь благодати, целомудрия и счастья! И все это на самом деле! Это не сон, от которого он пробудится. Прошлое прошло.
– Corpus Domini nostri.
Чаша со Святыми Дарами приблизилась к нему.
4
Воскресенье было посвящено таинству Пресвятой Троицы, понедельник – Святому Духу, вторник – ангелам-хранителям, среда – святому Иосифу, четверг – пресвятому таинству причастия, пятница – страстям Господним, суббота – Пресвятой Деве Марии.
Каждое утро он снова проникался благодатью святынь или таинств. Его день начинался ранней мессой и самоотверженным принесением в жертву каждого своего помысла и каждого деяния воле Верховного Владыки. Холодный утренний воздух подстегивал его благочестие, и часто, стоя на коленях в боковом приделе среди редких прихожан и следя по своему переложенному закладками молитвеннику за шепотом священника, он поднимал глаза на облаченную фигуру, возвышавшуюся в полумраке между двух свечей – символов Ветхого и Нового Завета, – и представлял себя на богослужении в катакомбах.
Его повседневная жизнь складывалась из различных подвигов благочестия. Пламенным усердием и молитвами он щедро выкупал для душ в чистилище столетия, складывающиеся из дней, месяцев и лет. Но духовное ликование, которое он испытывал, преодолевая с легкостью необъятные сроки кар Господних, все же полностью не вознаграждало его молитвенного рвения, потому что он не знал, насколько такое заступничество сокращает муки душ в чистилище, огонь которого отличается от адского только тем, что не вечен. И, мучимый страхом, что от его покаянных молитв не больше пользы, чем от капли воды, он с каждым днем все усиливал свое религиозное рвение.
Каждая часть дня, разделенного в соответствии с тем, что он теперь считал долгом своего земного существования, была посвящена духовному преображению. Его душа будто приближалась к вечности; каждая мысль, слово, поступок, каждое внутреннее движение, казалось, были приняты на небесах, и временами это ощущение мгновенного отклика было так живо, что ему казалось, будто его душа во время молитвы нажимает клавиши огромного кассового аппарата и он видит, как стоимость покупки мгновенно появляется на небесах не цифрой, а легким дымком ладана или хрупким цветком.
И молитвы, которые он неустанно твердил, – в кармане брюк он всегда носил четки и без устали перебирал их, бродя по улицам, – превращались в венчики цветов такой неземной нежности, что цветы эти казались ему столь же бескрасочными и безуханными, сколь они были безымянны. В каждой из трех ежедневно возносимых молитв он просил, чтобы душа его укрепилась в трех духовных добродетелях: в вере в Отца, сотворившего его, в надежде на Сына, искупившего его грехи, и в любви к Святому Духу, осенившему его; и эту трижды тройную молитву он возносил к трем ипостасям через Святую Деву Марию, прославляя радостные, скорбные и славные таинства.
В каждый из семи дней недели он молился еще и о том, чтобы один из семи даров Святого Духа снизошел на его душу и изгонял день за днем семь смертных грехов, осквернявших ее в прошлом. О ниспослании каждого дара он молился в установленный день, уповая, что дар этот снизойдет на него, хотя иногда ему казалось странным, что мудрость, разумение и знание считаются столь различными по своей природе и о каждом из этих даров полагается молиться особо. Но он верил, что постигнет и эту тайну на какой-то высшей ступени духовного совершенствования, когда его грешная душа отрешится от слабости и ее просветит третья ипостась Пресвятой Троицы. Он верил в это превыше всего, проникшись трепетом перед Божественной непроницаемостью и безмолвием, в коих пребывает незримый дух-утешитель Параклет, чьи символы – голубь и вихрь и грех против которого не прощается; вечная таинственная суть, которой, как Богу, священники раз в год служат мессу в алых, точно языки пламени, облачениях.
Природа и единосущность трех ипостасей Троицы, которые туманно излагались в читаемых им богословских сочинениях, – Отец, вечно созерцающий, как в зеркале, свое Божественное совершенство и присно рождающий вечного Сына, Святой Дух, извечно исходящий от Отца и Сына, – были в силу их высокой непостижимости более доступны его пониманию, нежели та простая истина, что Бог любил его душу извечно, во веки веков, еще до того, как она явилась в мир, до того, как существовал сам мир.
Он часто слышал торжественно возглашаемые со сцены или с амвона церкви слова, обозначающие страсти – любовь и ненависть, – читал их торжественные описания в книгах и дивился, почему в его душе не было им места и почему ему было трудно произносить их названия. Им часто овладевал мгновенный гнев, но он никогда не превращался в постоянную страсть, и ему не стоило никакого труда освободиться от него, словно самое тело его с легкостью сбрасывало какую-то внешнюю оболочку или шелуху. Минутами он чувствовал, как в его существо проникает нечто темное, неуловимое, бормочущее, и весь вспыхивал и распалялся греховной похотью, но и она быстро соскальзывала с него, а сознание оставалось ясным и незамутненным. И казалось, что только для такой любви и такой ненависти и было место в его душе.
Но он не мог больше сомневаться в реальности любви, ибо сам Бог извечно любил его душу Божественной любовью. Постепенно, по мере того как душа его наполнялась духовным знанием, мир представал перед ним огромным, стройным выражением Божественного могущества и любви. Жизнь становилась Божественным даром, и за каждый радостный миг ее – даже за созерцание листочка на ветке дерева – душа его должна была славить и благодарить Творца. При всей своей конкретности и сложности мир существовал для него не иначе как теорема божественного могущества, любви и вездесущности. И столь целостным и бесспорным было это дарованное его душе сознание Божественного смысла во всей природе, что он с трудом понимал, зачем ему, собственно, продолжать жить. Но, вероятно, его жизнь была частью Божественного предначертания, и не ему, согрешившему так мерзко и тяжко, вопрошать о смысле. Смиренная, униженная сознанием единого, вечного, вездесущего, совершенного бытия, душа его снова взваливала на себя бремя обетов, месс, молитв, причащения Святых Тайн и самоистязаний; и только теперь, задумавшись над великой тайной любви, он ощутил в себе теплое движение, словно в нем зарождалась новая жизнь или новая добродетель. Молитвенная поза благоговейного восторга – воздетые и разверстые руки, отверстые уста, затуманенные глаза – стала для него образом молящейся души, смиренной и замирающей перед своим Создателем.
Но, зная об опасностях духовной экзальтации, он не позволял себе отступить даже от самого незначительного канона, стремился непрестанными самоистязаниями искупить греховное прошлое, а не достигнуть чреватой опасностью лжесвятости. Каждое из пяти чувств он подвергал суровым испытаниям. Он умерщвлял зрение; заставлял себя ходить по улицам с опущенными глазами, не смотря ни направо, ни налево и не оглядываясь. Он избегал встречаться взглядом со взглядами женщин. А читая, поднимал глаза, иногда внезапно, мгновенным усилием воли отрываясь на середине неоконченной фразы, и захлопывал книгу. Он умерщвлял слух; не следил за своим ломающимся голосом, никогда не позволял себе петь или свистеть и не делал попыток избежать звуков, причинявших ему болезненное раздражение, например скрежета ножа о точило, скрипа совка, сгребающего золу, или стука палки, когда выколачивают ковер. Умерщвлять чувство обоняния было труднее, так как он не испытывал инстинктивного отвращения к дурным запахам, будь то уличные, вроде запахов навоза или дегтя, или запахи его собственного тела, дававшие ему повод для сравнений и разных любопытных экспериментов. В конце концов он установил, что его обонянию претит только вонь гнилой рыбы, напоминающая запах застоявшейся мочи, и пользовался каждым случаем, чтобы заставлять себя переносить эту вонь. Он умерщвлял чувство вкуса: принуждал себя к воздержанию, неуклонно соблюдал все церковные посты, а во время еды старался не думать о пище. Но особенную изобретательность он проявил, умерщвляя чувство осязания. Он никогда не менял положение тела в постели, сидел в самых неудобных позах, терпеливо переносил зуд и боль, старался держаться подальше от тепла, всю мессу, за исключением чтения Евангелия, простаивал на коленях, не вытирал лица и шеи после мытья, чтобы было чувствительней прикосновение холодного воздуха. Если в руках у него не было четок, он плотно, как бегун, прижимал их к бокам, а не держал их в карманах и не закладывал за спину.
Больше он не испытывал соблазна впасть в смертный грех. Но его удивляло, что, несмотря на строжайшую самодисциплину, он так легко оказывался жертвой ребяческих слабостей. Какой толк от постов и молитв, если трудно не раздражаться, когда чихает мать или когда ему мешают во время молитвы. И нужно было громадное усилие воли, чтобы обуздать в себе инстинктивное желание дать выход этому раздражению. Он часто наблюдал приступы такой мелочной раздражительности у своих учителей и, вспоминая их дергающиеся губы, плотно стиснутые зубы, пылающие щеки, сравнивал себя с ними и, несмотря на все свое стремление исправиться, падал духом. Слить свою жизнь с потоком других жизней было для него труднее всякого поста или молитвы, и все его попытки неизменно кончались неудачей; это в конце концов породило духовное оскудение, а вслед за ним пришли колебания и сомнения. Душа его пребывала в унынии; казалось, самые таинства обратились в иссякшие источники. Исповедь стала только способом освобождения от мучивших его совесть грехов. Причастие не приносило теперь тех блаженных минут, когда душа словно растворялась в девственном восторге, как было когда-то после приобщения Святых Тайн. В церковь он брал с собой старый, истрепанный молитвенник с потускневшими буквами и пожелтевшими, затрепанными страницами, составленный святым Альфонсом Лигурийским. Потускневший мир пламенной любви и девственного восторга оживал для его души на этих страницах, где образы «Песни Песней» переплетались с молитвами причастника. Неслышный голос, казалось, ласкал и славословил его душу, призывая ее, нареченную невесту, восстать для обручения и двинуться в путь с вершин Амана от гор барсовых. И казалось, что душа, отдавшись его власти, отвечала таким же неслышным голосом: «Inter ubera mea commorabitur»[9]9
«У грудей моих пребывает» (лат.).
[Закрыть].
Этот образ отдающейся души стал для него опасным, притягательным с тех самых пор, как настойчивые голоса плоти вновь зашептали во время молитв и размышлений. Он весь проникался чувством собственного могущества от сознания, что одной уступкой, одним помыслом может разрушить все, чего достиг. Ему казалось, будто медленный прилив подкрадывается к его обнаженным ступням и первая слабая, бесшумная, робкая волна вот-вот коснется его разгоряченной кожи. И чуть ли не в самый миг касания, на грани греховного падения, он вдруг оказывался вдали от волны, на суше, спасенный внезапным усилием воли или внезапным молитвенным порывом. И, наблюдая за отдаленной серебряной полоской прилива, которая снова начинала медленно подкрадываться к его ногам, он ощущал трепет власти, и удовлетворение охватывало его душу при мысли, что он не уступил, не сдался.
Постоянная борьба с соблазнами заставляла его беспокойно спрашивать себя, не угасает ли в нем драгоценный дар благодати. Уверенность в собственной стойкости померкла, и на смену ей явился неясный страх, что душа его незаметно пала. Только огромным усилием воли ему удавалось теперь возвращать свою былую веру в то, что он все еще пребывает в состоянии благодати; он заставлял себя при каждом искушении молиться Богу, заставлял верить, что благодать, о которой он просил, не могла быть не дарована ему, ибо Господь должен был ее даровать. Сама частота и сила искушений наглядно подтверждала ему истинность того, что он слышал об испытаниях святых. Частота и сила искушений была для него доказательством твердыни его души, которую неистово пытался сокрушить Сатана.
Часто на исповеди духовник, выслушав его колебания и сомнения (минутная рассеянность во время молитвы, мелочная раздражительность и своеволие, проявившиеся в речи или поступках), прежде чем дать ему отпущение, просил назвать какой-нибудь давний грех. Со смирением и стыдом он каялся в нем снова. Со смирением и стыдом он понимал, что, как бы свято ни жил, каких бы совершенств и добродетелей ни достиг, никогда ему не освободиться от этого греха полностью. Беспокойное чувство вины никогда не покинет его; он исповедуется, раскается и будет прощен, снова исповедуется, снова раскается и снова будет прощен – но все тщетно. Может быть, та первая, поспешная исповедь, вырванная у него страхом перед преисподней, не была принята? Может быть, поглощенный всецело мыслью о неизбежной каре, он недостаточно искренне сокрушался о своем грехе? Но старания исправить свою жизнь были для него лучшим свидетельством правильности его исповеди, свидетельством того, что он искренне сокрушался о содеянном.
«Ведь я же исправил свою жизнь», – повторял он про себя.
Ректор стоял в нише окна, спиной к свету, прислонившись к коричневой шторе. Разговаривая и улыбаясь, он медленно разматывал и снова заплетал шнурок другой шторы. Стивен стоял перед ним, следя за угасанием долгого летнего дня над крышами домов и за медленными, плавными движениями пальцев священника. Лицо священника было в тени, но дневной свет, угасавший за его спиной, падал на его глубоко вдавленные виски и неровности черепа. Стивен прислушивался к интонациям голоса священника, который спокойно и внушительно рассуждал о разных событиях в жизни колледжа: о только что окончившихся каникулах, об отделениях ордена за границей, о смене учителей. Спокойный и внушительный голос плавно вел беседу, а в паузах Стивен считал своим долгом оживлять ее почтительными вопросами. Он знал: все это лишь прелюдия – и ждал, что за ней последует. Получив приказ явиться к ректору, он терялся в догадках, что означает этот вызов, и все время, пока сидел в приемной в напряженном ожидании, взгляд его блуждал по стенам, от одной благонравной картины к другой, а мысль – от одной догадки к другой, пока ему вдруг не стало ясно, зачем его позвали. Не успел он пожелать, чтобы какая-нибудь непредвиденная причина помешала ректору прийти, как услышал звук поворачивающейся дверной ручки и шелест сутаны.
Ректор заговорил о доминиканском и францисканском орденах и о дружбе святого Фомы со святым Бонавентурой. Облачение капуцинов казалось ему несколько…
Лицо Стивена отразило снисходительную улыбку священника, но, не желая высказывать никакого суждения по этому поводу, он только чуть-чуть шевельнул губами, как бы недоумевая.
– Я слышал, – продолжал ректор, – что и сами капуцины уже поговаривают об отмене этого облачения по примеру других францисканцев.
– Но в монастырях его, наверно, сохранят? – сказал Стивен.
– О да, конечно, – сказал ректор, – в монастырях оно вполне уместно, но для улицы… право, лучше было бы его отменить, как вы думаете?
– Да, оно неудобное.
– Вот именно, неудобное. Представьте себе, когда я был в Бельгии, то видел, что капуцины в любую погоду разъезжают на велосипедах, обмотав полы этих своих балахонов вокруг колен. Ну не смешно ли? Les jupes[10]10
Юбки (фр.).
[Закрыть] – так их называют в Бельгии.
Гласная прозвучала так, что нельзя было понять слово.
– Как вы сказали?
– Les jupes.
– А-а.
Стивен опять улыбнулся в ответ на улыбку, которая была не видна ему на лице священника, так как оно оставалось в тени, и лишь подобие, призрак этой улыбки быстро мелькнул в его сознании, когда он слушал тихий, сдержанный голос. Он спокойно смотрел в окно на меркнущее небо, радуясь вечерней прохладе и желтоватой мгле заката, скрывавшей слабый румянец на его щеке.
Названия предметов женского туалета или тех тонких мягких тканей, из которых их делали, всегда связывались у него с воспоминанием о каком-то неуловимом греховном запахе. Ребенком он воображал, что вожжи – это тонкие шелковые ленты, и был потрясен, когда в Стрэдбруке впервые коснулся сальной, грубой кожи лошадиной упряжи. Точно так же он был потрясен, когда в первый раз почувствовал под своими дрожащими пальцами шершавую пряжу женского чулка. Происходило это потому, что из всего прочитанного он запоминал только то, что отвечало его собственному состоянию, что было созвучно с ним, и не мог представить себе душу или тело женщины, отдающейся любви, не воображая ее нежной, мягкоречивой, в тонких, как лепестки розы, тканях.
Но фраза в устах священника была не случайна; он знал, что священнику не подобает шутить на такие темы. Фраза была произнесена шутливо, но неспроста, и он чувствовал, как скрытые в тени глаза пытливо следят за его лицом. До сих пор он не придавал значения тому, что ему приходилось слышать или читать о коварстве иезуитов. Он всегда считал своих учителей, даже если они и не нравились ему, серьезными, умными наставниками, здоровыми телом и духом. По утрам они обливаются холодной водой и носят прохладное свежее белье. За все время, что ему пришлось прожить среди них в Клонгоузе и Бельведере, он получил только два удара линейкой по рукам, и, хотя как раз эти удары были незаслуженны, он знал, что многое сходило ему безнаказанно. За все это время он никогда не слышал от своих учителей ни одного пустого слова. Они открыли ему истину христианского учения, призывали к праведной жизни, а когда он впал в тяжкий грех, они же помогли ему вернуться к благодати. В их присутствии он всегда чувствовал неуверенность – и в Клонгоузе, потому что был недотепой, и в Бельведере, из-за своего двусмысленного положения. Это постоянное чувство неуверенности сохранилось у него до последнего года жизни в колледже. Он ни разу не ослушался их, не поддался соблазнявшим его озорным товарищам, не изменял своей привычке к спокойному повиновению, и если когда-нибудь и сомневался в правильности суждений учителей, то никогда не делал этого открыто. С годами кое-что в их оценках стало казаться ему несколько наивным. И это вызывало в нем чувство сожаления и грусти, как будто он медленно расставался с привычным миром и слушал его речи в последний раз. Как-то несколько мальчиков беседовали со священником под навесом возле церкви, и он слышал, как священник сказал:
– Я думаю, лорд Маколей за всю свою жизнь не совершил ни одного смертного греха, то есть ни одного сознательного смертного греха.
Потом кто-то из мальчиков спросил священника, считает ли он Виктора Гюго величайшим французским писателем. Священник ответил, что после того, как Виктор Гюго отвернулся от церкви, он стал писать много хуже, нежели когда он был католиком.
– Но, – добавил священник, – многие известные французские критики утверждают, что даже Виктор Гюго, несомненно великий писатель, не обладал таким ясным стилем, как Луи Вэйо.
Слабый румянец, вспыхнувший было на щеках Стивена от намека священника, погас, и глаза его были по-прежнему устремлены на бледное небо. Но какое-то беспокойное сомнение бродило в его сознании. Смутные воспоминания мелькали в памяти: он узнавал сцены и действующих лиц, но чувствовал, как что-то важное упорно ускользает от него. Вот он ходит около спортивной площадки в Клонгоузе, следит за игрой и ест конфеты из своей крикетной шапочки, а иезуиты прогуливаются с дамами по велосипедной дорожке. Какие-то полузабытые словечки, ходившие в Клонгоузе, отдавались эхом в глубинах его памяти.
Он пытался уловить это отдаленное эхо в тишине приемной и вдруг очнулся, услышав, как священник обращается к нему совсем другим тоном:
– Я вызвал тебя сегодня, Стивен, потому что хотел побеседовать с тобой об одном очень важном деле.
– Да, сэр.
– Чувствовал ли ты когда-нибудь в себе истинное призвание?
Стивен разжал губы, чтобы сказать «да», но вдруг удержался. Священник подождал ответа и затем добавил:
– Я хочу сказать, чувствовал ли ты когда-нибудь в глубине души своей желание вступить в орден. Подумай.
– Я думал об этом, – сказал Стивен.
Священник отпустил шнурок шторы и, сложив руки, задумчиво оперся на них подбородком, погрузившись в размышления.
– В таком колледже, как наш, – сказал он наконец, – бывают иногда один или, может быть, два-три ученика, которых Господь Бог призывает к служению вере. Такой ученик выделяется среди своих сверстников благочестием и тем, что он служит достойным примером всем остальным. Он пользуется уважением товарищей, члены святого братства выбирают его своим префектом. И вот ты, Стивен, принадлежишь к числу таких учеников, ты – префект нашего братства Пресвятой Девы. И может быть, ты и есть тот юноша, коего Господь призывает к себе.
Явная гордость, усиленная внушительным тоном священника, заставила учащенно забиться сердце Стивена.
– Удостоиться такого избрания, Стивен, – продолжал священник, – величайшая милость, которую всемогущий Бог может даровать человеку. Ни один король, ни один император на нашей земле не обладают властью служителя Божьего. Ни один ангел, ни один архангел, ни один святой и даже сама Пресвятая Дева не обладают властью служителя Божьего; властью владеть ключами от врат царствия Божьего, властью связывать и разрешать грехи, властью заклинания, властью изгонять из созданий Божьих обуревающих их нечистых духов, властью, полномочием призывать великого Господа нашего сходить с небес и претворяться на престоле в хлеб и вино. Великая власть, Стивен!
Краска снова залила щеки Стивена, когда он услышал в этом гордом обращении отклик собственных гордых мечтаний. Как часто видел он себя священнослужителем, спокойно и смиренно обладающим великой властью, перед которой благоговеют ангелы и святые. В глубине души он тайно мечтал об этом. Он видел себя молодым, исполненным скромного достоинства иереем. Вот он быстрыми шагами входит в исповедальню, поднимается по ступенькам алтаря, кадит, преклоняет колена, совершает непостижимые действия священнослужения, которые манили его своим подобием действительности и в то же время своей отрешенностью от нее. В той призрачной жизни, которой он жил в своих мечтаниях, он присваивал себе голос и жесты, подмеченные им у того или другого священника. Он преклонял колена, слегка нагнувшись, как вот этот, он покачивал кадилом плавно, подобно другому, его риза вот так, как у третьего, распахивалась, когда он, благословив паству, снова поворачивался к алтарю. Но в этих воображаемых, призрачных сценах ему больше нравилось играть второстепенную роль. Он отстранялся от сана священника, потому что ему было неприятно, что вся эта таинственная пышность завершается его собственной особой, и потому что обряд предписывал ему слишком ясные и четкие функции. Он мечтал о более скромном церковном сане: вот, забытый всеми, стоит он на мессе поодаль от алтаря в облачении субдиакона, воздушное покрывало накинуто на плечи, его концами он держит дискос; а по совершении таинства Святых Даров, в шитом золотом диаконском стихаре, на возвышении, одной ступенькой ниже священника, сложив руки и повернувшись лицом к молящимся, провозглашает нараспев: «Ite, missa est»[11]11
«Идите! Месса окончена» (лат.).
[Закрыть]. Если когда-нибудь он и видел себя в роли священника, то только как на картинках в детском молитвеннике: в церкви без прихожан, с одним лишь ангелом у жертвенника, перед простым и строгим алтарем с прислуживающим отроком, почти таким же юным, как он сам. Только при непостижимых таинствах пресуществления и приобщения Святых Тайн воля его тянулась навстречу жизни. Отсутствие установленного ритуала вынуждало его к бездействию; и он молчанием подавлял свой гнев или гордость и только принимал поцелуй, который жаждал дать сам.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.