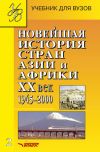Автор книги: Джеймс Скотт
Жанр: Социология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Подобные союзнические пары были и остаются широко распространенными в материковой части Юго-Восточной Азии. Так, пво-карены в Нижней Бирме поддерживали тесные связи с монскими рисовыми государствами. Живя среди монов, но в основном будучи сосредоточены в лесных районах в верховьях рек, пво-карены вместе с монами сформировали успешную модель экономического обмена. Судя по хроникам, моны воспринимали себя в большей степени не как четко маркированную этническую группу, а скорее как сообщество, для обычаев и жизненных практик которого характерен постепенный переход от занятий исключительно поливным рисоводством на одном полюсе условной шкалы до обеспечения себя только подсечно-огневым земледелием и собирательством – на другом[269]269
Renard R.D. Kariang: History of Karen-Tai elations from the Beginnings to 1923. Ph.D. diss. University of Hawai'i, 1979. P. 22.
[Закрыть]. Практически все тайские/шанские королевства породили симбиоз рисового государственного центра с примыкающими горными районами, с которыми он торговал, откуда черпал свое население и где нередко находил союзников. Подобные альянсы, если таковые торжественно фиксировались на бумаге (неизменные документальные свидетельства жизни равнинных государств), всегда выглядели как отношения данника и вассала, где горный союзник был младшим партнером. На деле же горные народы нередко одерживали верх, по сути, вынуждая равнинные государственные центры выплачивать им дань или «охранные платежи». Если же царский двор определял правила игры, как в случае с вьетнамцами и зярай, горная периферия все равно играла принципиально важную роль в процветании равнинного государства, которое признавало значение ее ритуалов в умилостивлении духов природы[270]270
Практически повсеместно в регионе традиция «культа отцов-основателей» признает ритуальное (а не политическое) первенство первых поселенцев/тех, кто расчистил землю, от чьих взаимоотношений с духами природы зависит благоденствие и плодородие местности. См.: Lehman F.K. The Relevance of the Founders' Cults for Understanding the Political Systems of the Peoples of the Peoples of Northern Southeast Asia and its Chinese Borderlands // Founders' Cults in Southeast Asia: Ancestors, Polity, and Identity/ Ed. by N. Tannenbaum, C.A. Kammerer. New Haven: Council on Southeast Asian Studies, 2003 (Monograph № 52). P. 15–39.
[Закрыть].
Зависимость мелких равнинных государств от горной торговли и лесного собирательства была настолько велика, что порой оказывалась сдерживающим фактором по отношению к попыткам заставить горные народы воспринять иную культуру. Государства опасались, что если горы примут религию долин, позаимствуют тамошнюю манеру одеваться и оседлый образ жизни и начнут выращивать поливной рис, то поневоле перестанут играть важнейшую, пусть и стигматизированную, роль поставщика горных продуктов. В этом смысле культурные различия, наряду с экономической специализацией, которой они способствовали, были основой сравнительных статусных преимуществ. Хотя равнинные государства промышляли рабовладельческими набегами на горы, они обладали и ярко выраженной мотивацией следить за тем, чтобы горная торговая ниша, от которой они так сильно зависели, никогда не пустовала[271]271
См., например: Tribal Communities in the Malay World: Historical, Cultural, and Social Perspectives / Ed. by G. Benjamin, C. Chou. Singapore: Institute of Southeast Asian Stu– // dies, 2002. P. 50; Sellato B. Op. cit. P. 29, 39; Scoff W.H. The Discovery of the Igorots: Spanish Contacts with the Pagans of Northern Luzon / Rev. ed. Quezon City: New Day, 1974. P. 204.
[Закрыть].
Изобретение варварства
Если семиотика чему-то нас и научила, то тому, что все лингвистические обозначения относительны. Их следует «обдумывать» и уж тем более понимать только с учетом всевозможных имплицитных исключений и противоположностей[272]272
Банальный, но показательный современный пример: наклейку на автомобильном бампере с текстом «горжусь, что я американец» можно понять только как ответ на невысказанное, но подразумеваемое утверждение «стыжусь того, что я американец», причем без второго высказывания у первого просто нет причин для появления.
[Закрыть]. Именно так обстоит дело с понятиями «цивилизованный» и «варварский». Как показал Оуэн Латтимор, социальное производство «варваров» в классическом Китае обусловливалось развитием специализированных центров поливного рисоводства в долинах и становлением связанных с ними государственных структур. Ирригация была особенно «продуктивна» на лёссовых грунтах государственных центров древнего Китая, и этот агрополитический комплекс с высокой концентрацией производства и населения, а потому и военной мощи, расширялся все дальше и дальше, как только обнаруживал подходящие для себя территории. В процессе экспансии он поглощал одни соседние сообщества и отвергал другие – последние перемещались на высокогорья, в леса, на болота, в джунгли и сохраняли свои недифференцированные, экстенсивные и рассеянные форматы жизненных практик. Одним словом, расцвет основанных на поливном рисоводстве государственных центров автоматически создавал новые демографические, экологические и политические границы. Поскольку рисовое государство все чаще кодифицировало себя как «ханьско-китайскую» уникальную культуру и цивилизацию, всех тех, кто не стал его частью или сознательно отказался идентифицировать себя с ним, оно классифицировало как «варваров». Тех из них, что остались жить на территориях, которые китайское государство считало своими, оно называло «внутренними» варварами; те, кто «предпочел отделиться от древней социальной матрицы, чтобы пополнить ряды скотоводческих кочевых сообществ степей», стали «внешними» варварами. Примерно к VI веку «китайцы заполонили равнины и крупные долины, а варварам остались горные районы и небольшие долины». На юго-западе Китая, в той его части, что мы называем Вомией, происходили процессы, аналогичные обозначенным Латтимором: «Влияние древних высокоразвитых цивилизаций Китая и Индии широко распространилось на равнинах, где было сосредоточено сельское хозяйство и сложились крупные города, но не могло преодолеть большие высоты над уровнем моря»[273]273
Laffimore О. The Frontier in History // Studies in Frontier History: Collected Papers, 1928-1958. P. 469–491, цитаты со стр. 472475. Латтимор, видимо, упускает из виду поразительные масштабы миграции безгосударственного населения из южных районов Китая у Желтой реки (Хуанхэ) на запад и юго-запад. Наиболее поразительный, но вряд ли единственный, пример – мяо. См.: Wiens H.J. China's March toward the Tropics: A Discussion of the Southward Penetration of China's Culture, Peoples, and Political Control in Relation to the Non-Han Chinese Peoples of South China in the Perspective of Historical and Cultural Geography. Hamden, Conn.: Shoe String, 1954.
[Закрыть].
То, что Латтимор называет китайской моделью концентрации сельскохозяйственного производства и государственного строительства, в качестве необходимого условия требовало создания экологических и демографических границ. Со временем рубежи трансформировались в жесткие цивилизационные и этнические маркеры там, где прежде не наблюдалось четких демаркационных линий. У раннекитайского государства было достаточно стратегических причин маркировать новые водоразделы предельно жестким цивилизационным дискурсом, а иногда и посредством физических преград, как, например, в случае с Великой Китайской стеной и стенами, преграждающими путь к мяо, на юго-западе страны. Очень легко забыть о том, что примерно до 1700-х годов, а в приграничных районах – и позже, китайское государство сталкивалось с классической проблемой любого государственного строительства в Юго-Восточной Азии: сохранения населения. Стены и риторика были призваны в той же мере остановить «бегство к варварам» уклоняющегося от уплаты налогов китайского крестьянства, в какой запугать варваров и удержать их на расстоянии[274]274
Как уже отмечалось, Латтимор говорит о северной части Великой Китайской стены. Информация о стенах мяо представлена в проницательной статье Магнуса Фискесьё [Fiskesjo М. On the “Raw“ and the “Cooked“ Barbarians of Imperial China// Inner Asia. 1999. № 1. P. 139–168). И вновь важно вспомнить, что ханьская культура сама была сплавом множества элементов. Поскольку безусловно подразумевалось, что ханьцы преобразовывали природу, тогда как варвары «жили в ней», Мэн-цзы говорил, что слышал, будто китайцы меняли варваров, но никогда не знал о варварах, меняющих китайцев. Последнее утверждение Фискесьё убедительно опровергает (Ibid. Р. 140).
[Закрыть].
Процесс, посредством которого государственное строительство в долинах порождало цивилизационные границы, впоследствии этнически кодировавшиеся, не был прерогативой Ханьской империи. Сиамские, яванские, вьетнамские, бирманские и малайские равнинные государства демонстрировали те же формы становления государственности, хотя их культурное содержание было иным. В работе о народе мьен (яо), живущем в северном Таиланде, Йонссон утверждает, что социальное конструирование категории «горные народы» базируется на контроле, установленном государством над сельским хозяйством и населением долин. Рассматривая принятые в Сиаме индийские формы правления, особенно в Харипунджайе (северный Таиланд, с YII по X век), Йонссон отмечает, что их космологические вселенские притязания породили варварскую периферию: «Создание государственных структур предполагает захват земель в долинах для ведения интенсивного сельского хозяйства, которое, будучи встроено в иерархическую структуру во главе с царским двором, региональными городами и крестьянскими деревнями, формирует некую универсальную цивилизационную модель. Частично она конструируется на основе того, что в нее не входит: это лесная глушь, вернее, люди, которые живут в данной области мирозданья и воспринимаются теми, кто живет в лоне цивилизации, почти как животные»[275]275
Jonsson Н. Shifting Social Landscape: Mien (Yao) Upland Communities and Histories in State-Client Settings. Ph.D. diss. Cornell University, 1996. P. 231.
[Закрыть]. Так, расчищенная под рисовые поля земля становилась фундаментом развития яванских государств и их культуры, тогда как нерасчищенные лесные территории и их население ассоциировались с нецивилизованным варварским приграничьем[276]276
Dove M. On the Agro-Ecological Mythology of the Javanese and the political Economy of Indonesia//Indonesia. 1985. № 39. P. 1136, цитата со стр. 35.
[Закрыть]. Оранг-асли (обычно переводится как «коренные жители») Малайи были «созданы» исключительно в противовес «малайцам». Как полагают Джеффри Веньямин и Синтия Чу, новым элементом стал ислам, который, собственно, и создал «племена»: «Прежде не было никаких законных оснований определять „малайцев“ как мусульман, и многие немусульмане считались такими же „малайцами“, как и мусульмане… Однако трактовки малайскости с 1874 года фактически превратили все немусульманские народы, буквально за ночь, в „аборигенов“, коими они считаются и поныне»[277]277
Tribal Communities in the Malay World… P. 44.
[Закрыть].
Все классические государства Юго-Восточной Азии придумывали себе варварскую периферию вне зоны своей досягаемости – в горах, лесах и болотах. Обратимся теперь к противоречию между потребностью – одновременно семиотической и экономической – в варварском приграничье и постоянным стремлением вселенских космологии поглотить и трансформировать его.
Адаптация чужой атрибутики: все этапы пути
Первые королевские дворы в Камбодже и Яве, а позже – в Бирме и Сиаме с ритуальной и космологической точки зрения были, по сути, импортом модели роскоши с Индийского субконтинента. Используя обряды, представленные индийскими купцами и пришедшими вслед за ними придворными брахманами, небольшие царские дворы равнинных государств стали активно использовать ритуалы в целях воздействия на потенциальных соперников. В ходе названной Оливером Уолтерсом «самоиндуинизации» местные правители вводили брахманический этикет и традиции. Санскритские имена и обозначения мест были заменены на местные аналоги. Власть монархов была освящена в ходе магических брахманических ритуалов, правители получили мифические генеалогии, в которых их родословная прослеживалась вплоть до божественного происхождения. Начали использоваться индийская иконография и эпос, были введены сложные церемониалы придворной жизни Южной Индии[278]278
Wheafley P. The Golden Kheronese: Studies in the Historical Geography of the Malay Peninsula before A.D 1500. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1961. P. 186.
[Закрыть]. Впрочем, санскритизация не затронула культурные основания равнинных государств и не вышла за пределы окрестностей царского двора. По мнению Жоржа Оедэса, это была «придающая внешний лоск» «аристократическая религия, не предназначенная для масс»[279]279
Coedes G. The Indianized States of Southeast Asia/Trans. by S.B. Cowing. Honolulu: East-West Center, 1968. P. 33. Что действительно широко распространилось, так это брахманические ритуалы, астрология в форме народных гаданий и истории из эпосов «Рамаяна» и «Махабхарата». Ф. К. Лиман (Чит Хлаинг), наоборот, убежден, что буддийская космология, благодаря индийским торговцам, могла очень быстро обрести широкую популярность среди народа, поэтому любой претендент на королевскую власть понимал выгодность заимствования ритуалов буддийских/индуистских монархий (из личного разговора в январе 2008 года). Другие ученые, например Уолтере и Уитли, уверены, что космология изначально привлекла внимание амбициозных лидеров как способ подтверждения их притязаний на власть посредством своеобразного театрализованного самогипноза и лишь позже проникла в народную культуру.
[Закрыть]. В том же ключе Уолтере обозначает санскритскую пышность и цветистые выражения в первых королевских текстах, как и китайские – во вьетнамских, как «декоративные элементы», призванные придать дух торжественности и учености практикам, которые без них выглядят повседневными[280]280
Wolfers О. History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspective. Singapore: Institute for Southeast Asian Studies, 1982. P. 64.
[Закрыть]. Иная интерпретация представлена М. К. Риклефсом: он полагает, что идеи о неделимости царства конституировали дополнительный идеологический противовес, который я ранее назвал космологическим бахвальством, той реальности, где власть неизбежно была фрагментирована[281]281
Ricklefs M.C Jogjakarta under Sultan Mangkubumi, 1749-1792. London: Oxford University Press, 1974.
[Закрыть].
Хотя подобная мимикрия вряд ли существенно улучшила повседневный властный контроль царских дворов равнинных государств, но она оказала важное влияние на характер отношений гор и долин. Прежде всего, она обозначила связь равнинных государств и их монархических правителей с универсализирующим, экуменическим и харизматическим центром. Ровно так же как римляне использовали греческий язык, первый французский королевский двор – латынь, русская аристократия и царский двор – французский, а вьетнамский королевский двор – китайскую систему письменности и конфуцианство, введение санскритских форм свидетельствовало о претензии на вхождение в лоно транеэтничной, трансрегиональной и поистине трансисторичной цивилизации[282]282
Pollack S. India in the Vernacular Millennium: Literature, Culture, Polity // Daedalus. 1998. № 197. P. 41–75.
[Закрыть]. Даже когда в конце I тысячелетия н. э. появились первые местные системы письменности, они сохранили санскритские декоративные элементы, и космополитическая классика санскритского и палийского миров была переведена прежде буддийского канона. В отличие от форм придворной культуры (как и в южной Индии), которые в значительной степени были результатом развития и усовершенствования ритуалов и верований, прежде существовавших в рамках местной народной традиции, «индийские» королевские дворы Юго-Восточной Азии были целенаправленно смоделированы по образцу внешних универсальных центров.
Элита равнинных государств, резко возвысившись с помощью своеобразного ритуального гелия, заимствованного у южной Индии, оставила далеко внизу своих простолюдинов с их земными устремлениями и периферию. Как удачно обозначил ситуацию Уолтере, «низкий статус периферии в миропорядке определялся теми, кто поставил себя в центр цивилизованного „индуистского“ общества»[283]283
Wolfers O. History, Culture, and Region in Southeast Asian Perspective / Rev. ed. Ithaca: Cornell University Press; Singapore: Institute for Southeast Asian Studies, 1999. P. 161.
[Закрыть].
Таким образом, санскритизация обусловила изобретение варварства теми, кто еще совсем недавно сам был… «варваром». Кхмерская культура, исконно связанная с лесными нагорьями, сразу после формирования индийских государственных центров стала настойчиво утверждать идею «полной противоположности дикости и культуры, темных, пугающих зарослей и заселенного открытого пространства, которая формирует лейтмотив кхмерского культурного самосознания»[284]284
Ibid. Цитируется фраза Яна Маббетта из книги: Mabbeff I., Chandler D. The Khmers. Oxford: Blackwell, 1995. P. 26.
[Закрыть]. Культурный разрыв между изысканным царским двором, расположенным в центре государства, с одной стороны, и грубой, некультурной зоной лесов и гор за его пределами – с другой, стал настолько большим, что цивилизация, по сути, превратилась, как метко выразился Дэвид Чандлер, в «искусство оставаться вне леса»[285]285
Wolfers O. History, Culture, and Region… 1999. P. 12, n. 45. Цитируется работа: Chandler D. A History of Cambodia. Boulder: Westview, 1992. P. 103.
[Закрыть].
Схожий процесс формирования символики и легализации иерархии по примеру внешних объектов можно наблюдать в небольших государственных образованиях и даже в горах. Уже к 1300 году на каждой прибрежной равнине сформировалось свое миниатюрное королевство, основанное на индийских моделях верховной власти, причем той же формуле скрупулезно следовали и мелкие вожди, у которых были куда меньшие властные притязания[286]286
О феномене прибрежных равнин см.: Wheaf/ey P. Op. cit. P. 294.
[Закрыть]. Можно даже сказать, что величавая ритуальная атрибутика была более необходима в горах, чем в долинах. Будучи заселены в основном рассеянными, мобильными группами подсечно-огневых земледельцев, которые благодаря общей собственности почти не следовали принципу наследования статусных различий, горные районы практически не сформировали местные традиции, которые легитимировали бы властные притязания выше уровня конкретной деревни. Безусловно, деревни создавали союзы в торговых и военных целях, но это были очень ограниченные по своим размерам и возможностям объединения равных партнеров, а не результат чьих-то постоянных претензий на власть. Если модели верховной власти сразу над несколькими деревнями когда-либо и применялись, то всегда заимствовались у равнинных царских дворов, копирующих индийские образцы, или же воспроизводили имперский порядок хань-китайского государства, расположенного к северу. Горным сообществам были свойственны формы власти, основанные на харизматическом, личном господстве, а не универсализирующие, копирующие индийские модели верховной власти проекты государственного строительства, отражающие попытку создать постоянные властные институции и превратить лидера с его последователями соответственно в правителя и подданных.
Модели индийских и китайских государств долго были в ходу в горах. Они проникали сюда из равнинных государств в странном фрагментированном виде и всплывали в горных сообществах в форме определенных регалий, мифических привилегий, царственных одежд, титулов, церемониалов, генеалогических притязаний и культовой архитектуры. Привлекательность заимствованной у индийских и китайских государств идеи верховной власти, видимо, обусловлена двумя причинами. Первая и наиболее очевидная состоит в том, что практически только эта идея способна обосновать, причем в культурологическом ключе, претензии успешного и амбициозного вождя горного сообщества и позволить ему трансформировать свою власть первого среди равных в небольшое государство с монархией, аристократией и простым народом. Подобные попытки, как убедительно показал Э. Р. Лич, обычно наталкивались на бегство или восстания тех, кто страшился постоянного подчинения. Однако иногда вождь с возвышенности, даже весьма номинальный, играл полезную роль посредника в переговорах с равнинными державами, согласовывая условия выплаты дани и торговли или же защищая горные районы от набегов работорговцев из долин. Успешные дипломатические усилия подобного рода могли иметь решающее значение в конкурентной борьбе горных народов[287]287
Jonsson H. Shifting Social Landscape… P. 133.
[Закрыть].
Для равнинных государств – в доколониальную, колониальную и постколониальную эпоху – стабильные структуры политической власти в горах были исключительно желательны и выгодны. Они создавали необходимую долинам точку опоры для непрямого управления, обозначали партнеров для переговоров и тех, на кого в случае необходимости можно было возложить ответственность (или взять в заложники). По этой причине правители государств в долинах, включая колонизаторов, придумали «фетиш горного вождя»: находили вождей даже там, где их никогда не было, преувеличивали масштабы их власти, если вожди все же обнаруживались, и прилагали максимум усилий, чтобы «создавать» вождей и племена в удобном для себя формате единиц территориального управления. Потребность государств в вождях в горных районах и властные амбиции местных лидеров часто совпадали, что позволяло запускать здесь подобие процессов государственного строительства, хотя их результаты обычно были недолговечны. У местных вождей находилась масса причин жаждать символов, регалий и титулов мощных держав, благодаря которым они могли внушать благоговейный ужас своим соперникам и получать монопольные права на выгодную торговлю и сбор дани. Впрочем, признание имперской харизмы равнинной державы прекрасно сочеталось с невхождением в зону ее административного контроля и с презрением к подданным подобных политических структур.
Преклонение перед государственной атрибутикой в горах было просто поразительным. В ходе военной кампании в шанских государствах в 1890-х годах Дж. Джордж Скотт столкнулся с несколькими «вождями» ва, которые пришли с данью. Они стали уговаривать Скотта, предположительно своего союзника, присоединиться к ним в разграблении нескольких близлежащих шанских деревень. Получив отказ, они «начали шумно требовать предоставить им явные опознавательные знаки того, что они являлись британскими подданными… Я дал каждому из них полоску бумаги, на которой было написано название района и стояла моя подпись на печати с профилем королевы Анны… Они были весьма впечатлены и отправились срезать бамбук, чтобы сохранить эти полоски… Они рассказали мне, что в течение последних десяти-двенадцати лет Монглем постепенно захватывал их территории»[288]288
Mitton G.E [Lady Scott] Scott of the Shan Hills: Orders and Impressions. London: John Murray, 1936. P. 246. Бамбук, благодаря своим водонепроницаемым свойствам и прочности, широко использовался как емкость для хранения официальных писем, в том числе и чиновниками равнинных государств.
[Закрыть]. В мятежных горах Скотт искал подчинения и дани, а «вожди» ва – союзника, который служил бы их политическим целям. Схожие театрализованные обмены данью и союзнической поддержкой наблюдал и Лич на Шанском нагорье, когда эта территория в 1836 году все еще номинально находилась под бирманским правлением. Бирманский чиновник был принят с почестями, была приготовлена ритуальная пища, разыграно театрализованное действо, подтверждающее единство десяти присутствовавших качинских и шанских вождей, признана верховная власть королевства Ава. Однако Лич отмечает, что несколько вождей, прибывших на встречу, находились в состоянии войны друг с другом, а потому призывает воспринимать все происходящее как церемониал, фиксирующий «эффект государства»:
Мой пример на самом деле показывает, что бирмакцы, шакы и качины, живущие в долине Хукаун… владеют языком, ритуальной символики; все они знают, как заставить понимать себя, правильно с помощью общего «языка». Это не означает, что сказанное на этом языке истинно с политической точки зрения. Высказывания посредством этой ритуальной символики подразумевают, что возможно некое идеальное, стабильное шанское государство, во главе которого стоит saohpa /правитель] Могаунга, и все качинские и шанские вожди долины Хукауна – его верные вассалы. У нас нет реальных доказательств того, что некий конкретный saohpa Могаунга когда-либо обладал подобной властью; нам доподлинно известно, что, когда происходил этот конкретный ритуал, вот уже примерно восемьдесят лет в Могаунге не было подлинного правителя. В основе ритуала лежала не политическая структура реального государства, а некоторая условная, «как будто бы» его идеальная модель[289]289
Leach Е The Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure. Cambridge: Harvard University Press, 1954. P. 281.
[Закрыть].
«Как будто бы» идеальная структура была встроена в архитектуру реального и «предполагаемого» государства в горах. Шанские мелкие государства, со своим немногочисленным населением в центре поливного рисоводства, исповедующим тот же буддизм Тхеравады, что и соседние сиамские и бирманские королевства, копировали и их политическую модель. Посетив шанский дворец [на шанском языке haw] в Пиндайе, Морис Коллис отметил, что это была точная миниатюрная копия бирманской королевской столицы: «Деревянное двухэтажное здание, с колонным залом на первом этаже, над которым возвышалась башенка, или ppa-that, пять небольших сводов, соединенных вместе поверх друг друга и увенчанных позолоченным шпилем». Коллис утверждал, что «это был в миниатюре стиль дворца в Мандалае»[290]290
Collis M. Lords of the Sunset. London: Faber and Faber, 1938. P. 83. См. также сопоставимое описание шанского дворца в Монгмите (р. 203) и Кенгтунге (р. 277).
[Закрыть]. Та же мимикрия характеризовала монастырскую архитектуру, погребальные процессии и регалии. Чем незначительнее было королевство, тем грубее и миниатюрнее имитация, вплоть до того, что самые мелкие качинские вожди (duwa), чьи дворцы были столь же крошечными, как и их реальная карликовая власть, стремились править в шанском стиле. В этой связи Лич полагает, что качины считали шанов не столько иной этнической группой, сколько носителями иерархической государственной традиции – теми, кто в подходящих условиях сможет ее сымитировать[291]291
Leach Е Op. cit. Р. 286.
[Закрыть]. Именно у шанов качины заимствовали государственные «эффекты».
Кая, народ группы каренов на Шанском нагорье, в ходе отстаивания независимости скопировали свою политическую систему с моделей, которые считали шанскими и бирманскими. Поскольку кая в общем и целом не были буддистами, они не подражали элементам Тхеравады. Лиман отмечает, что все лидеры кая, будь то узурпаторы, мятежники, простые крестьяне или милленаристские пророки, придерживались государственной атрибутики, заимствованной у шанских королевских дворов в долинах: титулов, убранства, выдуманных царских генеалогий и архитектуры[292]292
Lehman F.K. [Chit H/aing] Op. cit. Vol. I. P. 15–18.
[Закрыть]. Так или иначе, но все подобные лидеры обосновывали свои претензии на власть ее якобы происхождением от того самого, «как будто бы» идеального единого бирманского государства. Эта «субординация», которая в реальности могла сочетаться с активным сопротивлением, фиксировала идиоматический характер данного символизма, единый язык государственности – любых претензий на власть выше уровня конкретной деревни. Очень часто, учитывая крайне ограниченную власть вождей кая, этот язык радикально расходился с их реальными властными возможностями.
Следует отметить, что горные народы располагали двумя различными моделями государственной власти – индийских царских дворов на юге и хань-китайских дворов на севере. Вот почему довольно много качинских вождей стремились воссоздать в своих «дворцах», церемониалах, одеяниях и космологии шанские образцы, которые шаны, в свою очередь, заимствовали у китайцев. Традиции качинских правителей, с точки зрения как символической организации пространства, так и ритуалов, посвященных «небесным и земным духам», удивительно похожи на церемониалы императорского дворца в Пекине[293]293
Leach E Op. cit. P. 112–114.
[Закрыть]. Акха, безгосударственный народ (если таковой вообще когда-либо существовал), практически не испытали влияния тайских/шанских моделей власти, поскольку заимствовали даосские, конфуцианские и тибетские модели генеалогии, управления и космологии, в большей или меньшей мере отбросив их буддийские элементы[294]294
Geusau von LA. Op. cit. P. 151.
[Закрыть]. В ситуациях, когда в качестве образца можно было использовать одновременно две государственные традиции, их сочетание порождало экзотичные смешанные форматы государственной мимикрии. Но в любом случае они вкладывали в уста и в ритуальные практики местных правителей концептуальный и символический язык божественных, вселенских монархов, без которого их реальная политическая власть вряд ли преодолела бы границы их собственных деревушек.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?