Текст книги "Шоколад"
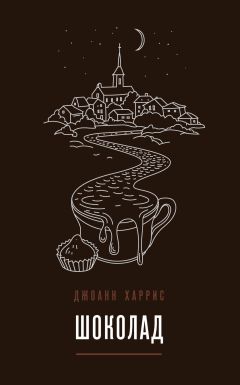
Автор книги: Джоанн Харрис
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
12
21 февраля, пятница
С вечера опять похолодало. Флюгер на церкви Святого Иеронима всю ночь крутился и елозил в сомнениях и тревоге, визгливо поскрипывая на ржавых креплениях, словно отгонял незваных гостей. К утру на город лег туман, да такой густой, что даже церковная башня, высившаяся всего в двадцати шагах от шоколадной, казалась далеким призрачным силуэтом. Сквозь ватную толщу тумана пробивался глухой бой колокола, призывавшего к обедне, но лишь несколько человек отозвались на этот звон. Подняв воротники плащей и курток, они спешили в церковь за отпущением грехов.
Когда Анук допивает молоко, я кутаю дочь в красный плащ и, не обращая внимания на ее протесты, натягиваю ей на голову пушистую шапку.
– Ты что, завтракать не хочешь?
Она решительно мотает головой и хватает яблоко с блюда у прилавка.
– А меня ты не поцелуешь?
Это наш утренний ритуал.
Ловко обхватив меня руками за шею, она мокро лижет меня в лицо, отпрыгивает, хихикая, посылает от двери воздушный поцелуй и выбегает на площадь. Я охаю в притворном ужасе, вытираю лицо. Она радостно хохочет, показывает мне маленький острый язычок, кричит: «Я люблю тебя!» – и красной змейкой уносится в туман, волоча за собой ранец. Я знаю, что через полминуты пушистая шапка перекочует в ранец, где уже лежат учебники, тетради и прочие неугодные напоминания о взрослом мире. На секунду я вновь вижу Пантуфля – он скачет за ней по пятам – и спешу заслониться от нежеланного образа. Накатывает одиночество утраты – как я буду целый день жить без нее? Я еле давлю в себе порыв ее окликнуть.
За утро шесть покупателей. Один из них – Гийом. Зашел по пути домой из лавки мясника с куском кровяной колбасы, завернутой в бумагу.
– Чарли любит кровяную колбасу, – серьезно говорит он. – В последнее время у него плохой аппетит, но колбасу-то он съест с удовольствием.
– Вы и о себе не забывайте, – мягко напоминаю я. – Вам тоже нужно питаться.
– Конечно. – Он виновато улыбается. – Я ем как лошадь. Честное слово. – Смотрит тревожно. – Правда, сейчас Великий пост. Но ведь животным не обязательно поститься, как вы считаете?
В его лице смятение; я качаю головой. Черты лица у него мелкие, тонкие. Он из тех людей, кто разламывает печенье надвое и оставляет половинку на потом.
– По-моему, вам обоим надо лучше о себе заботиться.
Гийом чешет у Чарли за ухом. Пес вялый, толком не глядит на пакет из мясной лавки в корзине, которая стоит рядом.
– Мы справляемся. – Улыбка машинальна, как и ложь. – Правда, справляемся. – Он допивает chocolat espresso. – Отличный шоколад, – как всегда, говорит он. – Мои комплименты, мадам Роше.
Я уже давно не настаиваю на том, чтобы он обращался ко мне по имени. Его представления о приличиях не допускают фамильярности. Он оставляет деньги на прилавке, легонько касается шляпы на прощание и открывает дверь. Чарли неуклюже поднимается и, чуть кренясь, ковыляет за хозяином. Дверь за ними затворяется, и Гийом тут же наклоняется и берет пса на руки.
В обед в шоколадную зашла еще одна посетительница. На ней бесформенное мужское пальто, но я все равно мгновенно ее признала. Под черной соломенной шляпой – умное лицо, сморщенное, как зимнее яблоко; из-под длинной черной юбки выглядывали тяжелые башмаки.
– Мадам Вуазен! Пришли, как и обещали? Позвольте, я налью вам что-нибудь.
Блестящие глаза внимательно рассматривали шоколадную, замечали каждую деталь. Она остановила взгляд на меню, творении Анук.
Горячий шоколад – 10 франков
Шоколад-эспрессо – 15 франков
Шоколадный капуччино – 12 франков
Мокко – 12 франков
Старушка одобрительно кивнула.
– Сто лет ничего подобного не видела. Уже и забыла, что существуют такие заведения. – Голос звучный, движения энергичные, что никак не вяжется с возрастом. Губы насмешливо изогнуты, как у моей матери. – Когда-то я любила шоколад, – призналась она.
Пока я наливала мокко в высокий бокал и добавляла в пену «Калуа», она подозрительно разглядывала табуреты у прилавка.
– Надеюсь, ты не заставишь меня лезть на этот стул?
Я рассмеялась.
– Если б я знала, что вы придете, припасла бы лестницу. Подождите минутку. – Я вытащила из кухни старое оранжевое кресло Пуату. – Попробуйте-ка сюда.
Арманда тяжело опустилась в кресло и обеими руками взяла бокал. Глаза у нее горели нетерпением и восторгом, как у ребенка.
– Мммм. – Это больше, чем восторг. Почти благоговение. – Мммммм.
Она закрыла глаза, смакуя. Я едва ли не со страхом созерцала ее блаженство.
– Настоящий шоколад, да? – Она помолчала, блестящие глаза задумчивы под полуопущенными веками. – Сливки, корица, наверное, и… что еще? «Тиа Мария»?
– Почти угадали.
– Запретный плод всегда сладок, – сказала Арманда, с удовлетворением вытирая со рта пену. – Но это… – Она опять с жадностью глотнула. – Ничего вкуснее не пробовала, даже в детстве. Держу пари, здесь тысяч десять калорий. А то и больше.
– Да почему же запретный? – полюбопытствовала я.
Маленькая и круглая, как куропатка, она, в отличие от своей дочери, не производила впечатления женщины, которая озабочена своей фигурой.
– А, это врачи так думают, – отмахнулась Арманда. – Сама понимаешь. Что угодно скажут. – Она опять втянула через соломинку шоколад. – Ох как вкусно. Здорово! Каро уже который год пытается упрятать меня в какой-нибудь приют. Не нравится ей, что я живу по соседству. Не любит вспоминать, откуда сама взялась. – Она смачно хмыкнула. – Говорит, я больна. Не способна заботиться о себе. Присылает ко мне своего докторишку, и тот давай мне прописывать: это можно, то нельзя. Можно подумать, они хотят, чтобы я жила вечно.
Я улыбнулась.
– Я уверена, Каролина вас очень любит.
Арманда бросила на меня насмешливый взгляд.
– Прямо-таки уверена? – Она вульгарно закудахтала. – Не рассказывай мне сказки, девушка. Ты прекрасно знаешь, что моя дочь любит только себя.
Я ведь не дура. – Ее сияющие глаза пристально сощурились на меня. – Я по мальчику скучаю.
– По мальчику?
– Его зовут Люк. Мой внук. В апреле ему исполнится четырнадцать. Ты, наверное, видела его на площади.
Мне смутно припомнился бесцветный мальчик в отглаженных фланелевых брюках и твидовой куртке. У него неестественно прямая осанка и холодные серо-зеленые глаза в обрамлении длинных ресниц. Я кивнула.
– Я завещала ему все свое состояние, – говорит Арманда. – Полмиллиона франков. Он их получит, когда ему исполнится восемнадцать лет; до тех пор деньги будут находиться в доверительной собственности. – Она пожала плечами. – Мы с ним не видимся, – обронила она. – Каро не разрешает.
Теперь я вспомнила, что видела их вместе: они шли в церковь, мальчик поддерживал мать под локоть. Он единственный из всех детей в Ланскне никогда не покупает шоколад в «Миндале», хотя, по-моему, я пару раз замечала, как он смотрел на мою витрину.
– Последний раз он навещал меня, когда ему было десять. – Голос у Арманды необычно блеклый. – По его меркам, лет сто назад. – Она допила шоколад и со стуком поставила бокал на прилавок. – Насколько я помню, это был день его рождения. Я подарила ему томик Рембо. Он держался со мной очень… вежливо. – В ее тоне горечь. – Конечно, с тех пор я встречала его несколько раз на улице. Да я и не жалуюсь.
– А почему вы сами к ним не зайдете? – удивилась я. – Пошли бы с ним погуляли, поговорили, узнали бы его лучше.
Арманда покачала головой.
– Мы с Каро не общаемся. – Теперь она брюзжала. Иллюзия молодости испарилась вместе с улыбкой, и Арманда вдруг стала невообразимо дряхлой. – Она меня стыдится. Одному богу известно, что она говорит обо мне мальчику. – Арманда тряхнула головой. – Нет. Теперь уже слишком поздно. Я это вижу по его лицу. Он весь такой учтивый. Присылает мне на Рождество вежливые бессодержательные открытки. На редкость воспитанный мальчик. – Она невесело рассмеялась. – Вежливый, воспитанный мальчик. – Она лучезарно и храбро мне улыбнулась. – Если б знать, чем он занимается, – продолжала она, – что читает, за какую команду болеет, кто его друзья, как он учится в школе. Если б знать…
– Если?
– Можно было бы убедить себя…
Я видела, что она вот-вот расплачется. Последовала короткая пауза, пока она боролась со слезами.
– А знаешь, пожалуй, я не отказалась бы повторить. Нальешь мне этого твоего фирменного?
Она храбрилась, но ее бравада восхищала меня. Даже в горести она с успехом изображала мятежницу; отхлебывая из бокала, облокотилась на прилавок с неким подобием щегольства.
– Прямо-таки Содом и Гоморра через соломинку. Мммм… Как будто я умерла и вознеслась на небеса. Ну, насколько смогу к ним приблизиться.
– Я могла бы узнать что-нибудь о Люке, если хотите. И передать вам.
Арманда задумалась. Я видела, что она наблюдает за мной из-под опущенных век. Оценивает.
– Все мальчики любят сладости, верно? – наконец промолвила она как бы вскользь. Я согласилась. – Полагаю, его друзья тоже здесь бывают?
Я сказала, что не знаю, с кем он дружит, но почти все дети регулярно наведываются в шоколадную, это правда.
– Пожалуй, я тоже как-нибудь еще зайду, – решила Арманда. – Мне нравится твой шоколад, хотя стулья у тебя ужасные. Может, даже и в завсегдатаи запишусь.
– Я вам буду рада.
Арманда опять замолчала. Я догадывалась, что она привыкла все делать, как хочет и когда хочет, и не терпит, чтобы ее торопили или давали ей советы. Пускай поразмыслит.
– Вот. Держи.
Решение принято. Не колеблясь, она выкладывает на прилавок стофранковую купюру.
– Ноя…
– Если увидишь его, купи ему коробку сладостей. Какую он пожелает. Только не говори, что от меня.
Я взяла деньги.
– И не поддавайся его матери. Она уже зуб заточила наверняка, сплетничает, злословит. Кто бы мог подумать, что мое единственное дитя станет одной из сестер Армии спасения Рейно? – Она озорно прищурилась, на круглых щеках образовались морщинистые ямочки. – О тебе уже слухи всякие ходят. Наверное, догадываешься какие. А будешь якшаться со мной, только подольешь масла в огонь.
Я рассмеялась.
– Как-нибудь справлюсь.
– Не сомневаюсь. – Она вдруг уставилась на меня, усмешка исчезла из ее голоса. – Что-то есть в тебе такое, – тихо произнесла она. – Что-то знакомое. Но все-таки, наверное, до Марода мы не встречались, да?
Лиссабон, Париж, Флоренция, Рим. Столько людей. Столько жизней скрещивались с нашими, мимолетно пересекались, пролетали по касательной к утку и основе наших маршрутов. Но нет, ее я раньше не видела.
– И этот запах. Как будто что-то горит. Как будто в летнюю грозу десять секунд назад ударила молния. Запах июльских гроз и пшеничных полей под дождем. – Ее лицо светилось восторгом, взгляд испытующий. – Это ведь правда? То, что я говорила? О том, кто ты есть?
Ну вот, опять.
Арманда весело рассмеялась и взяла меня за руку. Кожа у нее прохладная – листва, а не плоть. Перевернула мою руку, взглянула на ладонь.
– Так и знала! – Она провела пальцем по линии жизни, по линии сердца. – Поняла, как только тебя увидела! – Нагнув голову, она забормотала себе под нос, голос – не громче дыхания, что обдавало мою руку. – Я знала это. Знала. Но подумать не могла, что когда-нибудь встречу тебя здесь, в этом городе.—
Внезапно взгляд пронзительный, тревожный. – А Рейно знает?
– Не могу сказать.
Это правда: я понятия не имела, о чем она говорит. Но я тоже что-то чуяла – ветер перемен, дух откровения. Далекий запах пожара и озона. Скрежет застоявшихся механизмов, запустивших адскую машину мистической взаимосвязи. Или все-таки Жозефина права и Арманда чокнутая? В конце концов, разглядела же она Пантуфля.
– Постарайся от него скрыть, – сказала она с безумным блеском в серьезных глазах. – Ты ведь знаешь, кто он такой, а?
Я смотрела на нее. Должно быть, ее следующую фразу я просто вообразила. Или, может, в одну из ночей, когда мы находились в бегах, наши сны соприкоснулись на мгновение.
– Он и есть Черный Человек.
Рейно. Как плохая карта. Вновь и вновь. Смех из-за кулис.
Анук давно спит, и я достаю карты матери – впервые после ее смерти. Я храню их в шкатулке из сандалового дерева. Мягкие, они пахнут воспоминаниями о ней. Я едва не кладу их на место, ошеломленная наплывом воспоминаний, вызванных этим запахом. Нью-Йорк, дымящиеся лотки с горячими сосисками. «Кафе де ля Пэ», безупречные официанты. Монахиня с мороженым у собора Парижской Богоматери. Гостиничные номера на одну ночь, неприветливые привратники, подозрительные жандармы, любопытные туристы. И над всем этим тень Чего-то – безымянного и безжалостного, от которого мы убегали.
Я – не моя мать. Я – не беглянка. И все же потребность видеть, знать столь велика, что я помимо своей воли достаю карты из шкатулки и начинаю раскладывать, как она, на краю кровати. Гляжу через плечо: Анук по-прежнему спит. Я не хочу, чтобы она почувствовала мою тревогу. Тасую, снимаю, тасую, снимаю, пока на руках не остается четыре карты. «Десятка мечей, смерть. Тройка мечей, смерть. Двойка мечей, смерть. Колесница. Смерть».
Отшельник. Башня. Колесница. Смерть.
Это карты моей матери. Я тут ни при чем, убеждаю я себя, хотя не трудно догадаться, кто скрывается под Отшельником. Но Башня? И Колесница? И Смерть?
Карта «Смерть», говорит мне внутренний голос – голос матери, не всегда предвещает физическую смерть. Она может символизировать завершение определенного образа жизни. Некий перелом. Смену ветров. Может, это и предсказали мне карты?
Я не верю в гадание. Если и верю, то по-другому, не так, как моя мать, по картам вычерчивавшая беспорядочный узор траектории нашей жизни. Я не ищу в картах оправдания бездействию, не ищу поддержки, когда становится тяжело, или разумного объяснения внутреннему хаосу. Сейчас я слышу ее голос – такой же, как на корабле, когда вся ее сила духа обратилась в обычное упрямство, а чувство юмора – в безысходное отчаяние.
«А Диснейленд посмотрим? Как ты думаешь? И Флорида-Кис? И Эверглейдс? В Новом Свете столько интересного, столько чудес, о которых мы и мечтать не могли. Думаешь, это оно? Это и предсказывают карты?» К тому времени каждая выпавшая карта означала Смерть. Смерть и Черного Человека, который теперь означал то же самое. Мы бежали от него, а он следовал за нами в шкатулке из сандалового дерева.
В качестве противоядия я прочитала Юнга и Германа Гессе и узнала о «коллективном бессознательном». Гадание – всего лишь способ открыть то, что тебе уже известно. То, чего боишься. Демонов не существует. Есть совокупность архетипов, общих для всех цивилизаций. Боязнь потери – Смерть. Боязнь перемен – Башня. Боязнь быстротечности – Колесница.
И все же мама умерла.
Я бережно убрала карты в душистую шкатулку. Прощай, мама. Здесь конец нашему путешествию. Мы останемся и встретим лицом к лицу все, что бы ни принес нам ветер. Гадать на картах я больше не буду.
13
23 февраля, воскресенье
Благослови меня, отец, ибо грешен я. Я знаю, ты слышишь меня, mon père, a никому больше я не желал бы исповедаться. Уж точно не епископу, что отгородился от забот и тревог в далекой епархии Бордо. А в церкви так пустынно. И я чувствую себя идиотом, стоя на коленях у алтаря и глядя на страждущего Господа нашего в позолоте, поблекшей от свечного дыма. Из-за темных пятен он кажется замкнутым и коварным, и молитва, прежде срывавшаяся с моих уст благодарностью, источником радости, ныне вязнет на языке, звучит словно крик на горном склоне, где в любую минуту на меня может сойти лавина.
Неужели я теряю веру, mon père? Это безмолвие во мне, отсутствие смирения, неспособность молиться, очиститься от скверны… это по моей вине? Эта церковь – средоточие всей моей жизни, и, оглядываясь вокруг, я пытаюсь пробудить в себе любовь к ней. Хочу любить так же сильно, как ты любил, эти статуи – святого Иеронима с щербатым носом, улыбающуюся Мадонну, Жанну д'Арк с хоругвью, святого Франциска с раскрашенными голубями. Сам я птиц не люблю. Возможно, я грешу против моего тезки, но ничего поделать с собой не могу. Клекочут, гадят – даже у входа в церковь; зеленоватым пометом загадили беленые стены храма, пронзительно кричат во время службы… Я потравил крыс – они портили в ризнице облачения и утварь. Разве не следует потравить и голубей, что мешают церковной службе? Я пытался избавиться от них, mon père, но без толку. Наверное, их охраняет святой Франциск.
Я хотел бы жить достойнее. Собственная никчемность вселяет в меня страх. Я – умный человек, гораздо умнее и образованнее любого из своей паствы, но какая польза от моего ума, если он лишь подчеркивает, сколь слаба и ничтожна бренная оболочка, в которую Господь облек своего слугу. Неужели это и есть мое предназначение? Я мечтал о великих свершениях, о самопожертвовании и мученичестве. А вместо этого растрачиваю себя на пустые тревоги, не достойные ни меня самого, ни тебя.
Суетность – мой грех, mon père. Вот почему Господь безмолвствует в своем доме. Я это понимаю, но не знаю, как излечиться. Я стал поститься строже, не даю себе поблажки даже в те дни, когда дозволено расслабиться. Сегодня, например, я вылил на гортензии свою воскресную дозу возлияния и тотчас же воспрял духом. Отныне я намерен потреблять за трапезой только воду и кофе – черный, без сахара, дабы в полной мере ощущать его горечь. Сегодня пищей мне служили морковный салат и оливки – корни и ягоды в пустыне. Слегка кружится голова, это правда, но я не тревожусь, и мне совестно оттого, что я нахожу удовольствие даже в собственных лишениях. Потому я буду подвергать себя искушению. Я намерен пять минут простоять у витрины лавки, где торгуют жареным мясом, глядя, как подрумяниваются на вертелах цыплята, и если Арнольд начнет поддразнивать меня, тем лучше. В любом случае лучше бы ему закрыть лавку на время Великого поста.
Что касается Вианн Роше… Я почти не вспоминаю о ней в последние дни. Даже взглядом не удостаиваю ее лавку, проходя мимо. Как ни странно, она вполне преуспевает, несмотря на неурочную для торговли пору и осуждение благомыслящих элементов Ланскне, – видимо, дело в новизне заведения. Но прелесть новизны постепенно исчезнет. Прихожанам едва хватает денег на насущное. Они не смогут постоянно субсидировать роскошную лавку, которая была бы уместнее в большом городе.
«Небесный миндаль». Одно название – преднамеренное оскорбление. Наверно, я съезжу на автобусе в Ажен, в агентство недвижимости, и выскажу свое недовольство. С ней вообще нельзя было заключать договор на это помещение. Оно в самом центре города, отчего и процветает ее магазин, торгующий соблазнами. И епископа должно поставить в известность. Он обладает большей властью, чем я, и, возможно, сумеет повлиять. Сегодня же ему напишу.
Иногда я вижу ее на улице. В желтом плаще с зелеными маргаритками – девчоночий наряд, даром что длинный, и на взрослой женщине смотрится несколько непристойно. Голову она не прикрывает даже в дождь, и мокрые волосы блестят, как тюленья кожа.
Заходя под навес, она отжимает их, выкручивает. Под навесом ее лавки часто толпятся люди. Пережидая нескончаемый дождь, рассматривают витрину. Теперь у нее в шоколадной электрокамин, не далеко и не близко от прилавка: обогревает помещение, но товара не портит. Табуреты, пирожные и пироги под стеклянными колпаками, серебряные кувшины с шоколадом на полочке в печи. Не магазин, а самое настоящее кафе. Бывает, я вижу там человек по десять, а то и больше, они беседуют – кто стоя, кто облокотившись на прилавок. По воскресеньям и средам после обеда влажный воздух пропитывается запахом выпечки, а она сама стоит в дверях, руки по локоть в муке, и бойко заговаривает с прохожими.
Просто удивительно, скольких горожан она уже знает по имени. Сам я целых полгода знакомился с паствой. А у нее всегда наготове вопрос или замечание про их житейские заботы, их проблемы. У Блэро спросит про артрит, у Ламбера – про сына-солдата, у Нарсисса – про его знаменитые орхидеи. Она даже знает кличку пса Дюплесси. О, она коварна. Ее нельзя не заметить. Если не ответишь, покажешься грубияном. Даже я… даже я вынужден улыбнуться или кивнуть ей, хотя внутри у меня все кипит. Ее дочь – вся в мать, носится как угорелая в Мароде с оравой ребятишек, и все они старше – кому восемь лет, кому девять. И они ее любят, опекают, как младшую сестренку, как талисман. Всегда вместе – бегают, кричат, изображают руками бомбардировщики и обстреливают друг друга со свистом и гудением. И Жан Дру с ними, вопреки запретам матери. Пару раз она пыталась не пустить его гулять, но он день ото дня непокорнее, сбегает через окно, если она запирает его в комнате.
Однако у меня появились заботы посерьезнее, mon père, и в сравнении с ними ослушание нескольких своенравных сопляков – сущие пустяки. Сегодня, проходя мимо Марода перед службой, я увидел пришвартованный у берега Танна плавучий дом – мы с тобой на такие насмотрелись. Отвратительное сооружение: зеленая краска нещадно лупится, из жестяной трубы вырываются клубы черного ядовитого дыма, гофрированная крыша, как на картонных лачугах в марсельских трущобах. Мы с тобой знаем, что это означает. Чем грозит. Первые весенние одуванчики показали свои головки из сырого дерна по обочинам. Каждый год они испытывают наше терпение, приплывая по реке из больших городов, бидонвилей или, того хуже, из далеких краев – из Алжира и Марокко. Ищут работу. Ищут, где осесть, расплодиться… Утром я выступил с проповедью против них, но знаю: все равно многие прихожане – Нарсисс в том числе – окажут им радушный прием, в пику мне.
Эти люди – бродяги. Непочтительные, беспринципные. Речные цыгане, разносчики болезней, воры, лжецы, даже убийцы – если им удается остаться безнаказанными. Позволь им осесть, и они испоганят все наши труды, père. Испортят воспитание. Их дети станут носиться по городу с нашими, отвращая наших детей от нас. Развращая их умы. Научат их ненависти и неуважению к церкви. Приучат к лени и безответственности. Сделают из них преступников и наркоманов. Неужто люди забыли то лето? Или настолько глупы, что полагают, будто подобное не повторится?
После обеда я ходил к плавучему дому. Рядом уже швартовались еще два – красный и черный. Дождь прекратился, и между двумя последними была натянута бельевая веревка, на которой болтались детские тряпки. На палубе черного судна спиной ко мне сидел мужчина, удил рыбу. Длинные рыжие волосы перетянуты лоскутом, голые руки до самых плеч разрисованы красно-коричневой татуировкой. Я смотрел на плавучие дома, дивясь на их мерзость и вопиющую бедность. На что эти люди обрекают себя? Мы – процветающая страна. Европейская держава. Наверняка для таких людей есть работа, полезная работа, приличное жилье… Почему они пристойной жизни предпочитают бродяжничество, безделье, невзгоды? Или они настолько ленивы? Рыжий на палубе черного судна выкинул вилкой пальцы в мою сторону, как бы защищаясь, и вновь принялся рыбачить.
– Здесь нельзя находиться! – крикнул я. – Это частное владение. Плывите отсюда.
С лодок мне отвечали смехом и презрительным свистом. У меня от гнева застучало в висках, но я не утратил самообладания.
– Давайте поговорим! – вновь крикнул я. – Я священник. Мы наверняка сумеем найти какое-то решение.
В окнах и дверях всех трех плавучих домов появились лица. Я заметил четверых детей, молодую женщину с младенцем и трех-четырех человек постарше. Все в каком-то сером бесцветном рванье – ничего другого эти люди не носят; лица у всех настороженные и подозрительные. Они смотрели на рыжего, ожидая, что тот ответит за всех, и тогда я обратился к нему:
– Эй, ты!
Его поза – воплощение предупредительности и насмешливого почтения.
– Иди сюда, поговорим. Мне легче объяснить, когда я не кричу на всю реку, – сказал я.
– Валяй объясняй. Я отлично тебя слышу.
У него сильный марсельский акцент, так что я едва разобрал слова. Его люди на других судах захихикали, подталкивая друг друга локтями. Я терпеливо ждал, пока они успокоятся.
– Это частное владение, – повторил я. – Боюсь, вам здесь нельзя оставаться. Тут живут люди.
Я показал на прибрежные дома вдоль Болотной улицы. Верно, многие теперь пустуют, разваливаются от сырости и небрежения, но некоторые по-прежнему заселены.
Рыжий наградил меня презрительным взглядом.
– Это тоже люди, – сказал он, кивая на обитателей плавучих домов.
– Я понимаю, и тем не менее…
– Не волнуйтесь, – перебил он меня. – Мы надолго не задержимся. – Тон у него категоричный. – Нам нужно починиться, кое-что подкупить. В чистом поле мы это не можем. Пробудем недели две, может, три. Переживете, э?
– Возможно, в городе покрупнее… – Его наглость бесила меня, но я сохранял спокойствие. – В Ажене, например…
– Не пойдет. Мы только что оттуда.
Разумеется. В Ажене с бродягами разговор короткий. Шаль, что у нас в Ланскне нет своей полиции.
– У меня барахлит мотор. И так уже всю реку маслом залил. Пока не починю, не смогу плыть дальше.
Я приосанился.
– Вряд ли вы здесь найдете то, что ищете.
– Каждый волен думать, как хочет. – Он дает мне понять, что разговор окончен. И почти забавляется. Одна старуха насмешливо фыркнула. – Даже священник.
Теперь и другие засмеялись.
Я не срываюсь. Эти люди недостойны моего гнева. Отворачиваюсь.
– Ба, никак сам мсье кюре пожаловал. – Голос раздался у меня за спиной, и я от неожиданности вздрогнул. Арманда Вуазен каркнула – это она так смеется. – Дергаешься, э? – ехидничает она. – И правильно делаешь. Здесь-то ведь не твоя территория, верно? Что на этот раз тебя привело? Язычников обращаешь?
– Мадам. – Несмотря на оскорбительные речи, я приветствую ее учтивым кивком. – Надеюсь, вы в добром здравии?
– Прямо-таки надеешься? – Ее черные глаза искрятся смехом. – А у меня-то сложилось впечатление, что тебе не терпится проводить меня в последний путь.
– Вовсе нет, – холодно, с достоинством отвечаю я.
– Вот и хорошо. Потому как эта старая овечка в лоно церкви не вернется, – заявляет она. – Как бы то ни было, этот орешек не по твоим зубам. Помнится, твоя мать говорила…
– Боюсь, сегодня я не располагаю временем для праздных бесед, – резче, нежели намеревался, обрываю я. – Эти люди… – я показываю на речных цыган, – с этими людьми должно срочно разобраться, пока ситуация не вышла из-под контроля. Мой долг – оберегать интересы вверенной мне паствы.
– Ох и пустозвон же ты стал, – лениво бросает Арманда. – Интересы вверенной тебе паствы! Я ведь помню тебя мальчишкой, помню, как ты играл в индейцев в Мароде. Чему тебя учили в большом городе, кроме напыщенности и самолюбования?
Я сердито смотрю на нее. Она единственная во всем Ланскне всякий раз стремится мне напомнить о том, что уже давно забыто. Когда она умрет, понимаю я, вместе с ней умрет и память о тех давно минувших днях, и я этому почти рад.
– Может, вы спите и видите, как Марод отдадут на откуп бродягам, – огрызаюсь я. – Однако другие горожане – в том числе ваша дочь, между прочим, – понимают, что, если пустить их на порог…
Арманда фыркает.
– Она даже говорит как ты. Сыплет штампами из проповедей и пошлостями националистов. Эти люди никому не причиняют вреда. Зачем идти на них крестовым походом, когда они и сами скоро уйдут?
Я пожимаю плечами. Говорю строго:
– Мне очевидно, что вы даже не хотите понимать всей серьезности положения.
– Вообще-то я уже сказала Ру… – она незаметно указала на мужчину с черного судна, – сказала, что он и его друзья могут оставаться здесь, пока он не починит свой мотор и не запасется провизией. – Само коварство и торжество. – Так что ничего они не нарушили. Они здесь, перед моим домом, с моего благословения. – Последнее слово она выделила голосом, словно поддразнивая меня. – И их друзья, когда прибудут, тоже станут желанными гостями. – Она бросила на меня дерзкий взгляд. – Все их друзья.
Что ж, этого следовало ожидать. Она поступила так лишь из желания досадить мне. Ей нравится, что у нее скандальная репутация: она знает, что ей, самой старой жительнице города, позволительны определенные вольности. Спорить с ней бесполезно, mon père. Мы в этом уже не раз убеждались. Споры ее вдохновляют не меньше, чем общение с бродягами, их байки и рассказы о приключениях. Неудивительно, что она уже успела с ними познакомиться, узнала, как кого зовут. Я не стану перед ней унижаться, не доставлю ей такого удовольствия. Улажу дело иначе.
По крайней мере, одно я выяснил у Арманды наверняка. Будут и другие. Поживем – увидим сколько. Но этого я и боялся. Три судна сегодня. Сколько же ждать завтра?
По дороге сюда я зашел к Клермону. Он проинформирует жителей. Некоторые, я полагаю, воспротивятся – у Арманды еще остались друзья. Нарсисса, возможно, придется убеждать. Но в целом я надеюсь на поддержку горожан. В конце концов, со мной пока считаются, и мое мнение что-то да значит. Муската я тоже повидал. К нему в кафе заходит много народу. Он – глава городского совета. Да, у него есть свои недостатки, но он здравомыслящий человек, добрый прихожанин. И если возникнет необходимость в суровых мерах – разумеется, не хотелось бы прибегать к насилию, но с этими людьми и такой возможности нельзя исключать, – я убежден, Мускат не откажет в содействии.
Арманда назвала это крестовым походом. Знаю, она хотела меня оскорбить, и тем не менее… При мысли об этом конфликте меня охватывает возбуждение. Возможно ли, что я действую по велению Господа?
Вот зачем я приехал в Ланскне, mon père. Чтобы защитить свой народ. Спасти его от искушения. И когда Вианн Роше увидит, сколь велика власть церкви – сколь велико мое влияние в городе, где каждая душа покорна мне, – она поймет, что проиграла. На что бы она ни надеялась, к чему бы ни стремилась. Она поймет, что ей нельзя здесь оставаться. У нее нет шансов на победу.
Я восторжествую.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































