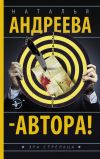Текст книги "Улики"

Автор книги: Джон Бэнвилл
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Джон БЭНВИЛЛ
УЛИКИ
От переводчика
По некоторым чисто формальным признакам роман Джона Бэнвилла, на сегодняшний день, пожалуй, самого крупного и авторитетного (наряду с Уильямом Тревором) ирландского прозаика, известного русскому читателю лишь по повести 1973 года «Берчвуд», вполне можно отнести к детективному жанру. Однако «Улики» – факт литературы серьезной, никак не развлекательной, роман Бэнвилла – вклад, и значительный, в богатейшую исповедальную литературу XX века. У Фредди Монтгомери, эгоиста и сластолюбца, философа и аморалиста, сына века, – целая галерея знаменитых предшественников; достаточно назвать хотя бы набоковского Гумберта Гумберта, Мерсо из «Постороннего» Камю. Наследников Ницше и Достоевского роднит презрение к человечеству и как следствие – вседозволенность, родовая черта всех «лишних людей» двадцатого столетия. В своей исповеди герой Бэнвилла пытается объяснить самому себе, суду и читателю, почему он совершил убийство: «Я лишил ее жизни, – говорит он, – ибо она никогда не была для меня полноценным живым существом». В этой фразе – мироощущение, приведшее к величайшим трагедиям XX века.
Не лишен герой Бэнвилла и национальных черт. Фредди отличает чисто ирландское умение покатываться со смеху, забавлять читателя и забавляться самому в самые, казалось бы, неподходящие трагические минуты. Он шутит, когда Раскольникову, Гумберту или Мерсо было бы не до смеха. Трагикомическая диалектика, столь свойственная О'Кейси и Биэну, О'Флаэрти и Джеймсу Стивенсу, дает себя знать и в «Уликах»: у героя Бэнвилла и в этом смысле полная вседозволенность; в лучших традициях ирландской литературы он ерничает и каламбурит, походя рассуждая на темы, для легкомысленного отношения «заповедные». Искусством «смеяться на собственных похоронах» Фредди Монтгомери, при всем своем нарочито презрительном отношении к соотечественникам, владеет, надо отдать ему должное, с чисто ирландским блеском и непринужденностью.
Так что теперь, благодаря Джону Бэнвиллу, и в ирландской литературе появился «лишний человек»: циничный и сентиментальный, непосредственный и желчный. Сосредоточенный на самом себе и к себе безжалостный. Неприкаянный и несчастный. Ирландский Раскольников.
Часть I
Милорд, в связи с вашей просьбой сообщить суду все, как было, своими словами, могу сказать следующее. Здесь меня держат взаперти, словно какое-то экзотическое животное, так, будто я – последний, чудом выживший экземпляр давно вымершего вида. Такого зверя, пожирателя невинных девушек, хищника жестокого и коварного, что разгуливает по клетке и мечет за прутья ослепительные зеленые молнии, надо бы показывать людям, чтобы потом, когда они уютно свернутся клубочком в своих постелях, им было о чем вспомнить. Когда я попался, они отталкивали друг друга, чтобы взглянуть на меня хоть краешком глаза. Если бы за это с них брали деньги, они бы, думаю, с удовольствием раскошелились. Они выкрикивали оскорбления, грозили мне кулаками, злобно скалились. В этой толпе, вызывающей и ужас и смех одновременно, было что-то ненастоящее: по тротуару, словно статисты в массовке, топтались парни в дешевых плащах, женщины с кошелками, были тут и два-три каких-то траченых нервных типа – эти стояли молча, поедая меня голодными, завистливыми глазами. Когда охранник набросил мне на голову одеяло и затолкал в патрульную машину, я рассмеялся: в том, что в жизни, пошлой по обыкновению, осуществлялись самые мои мрачные фантазии, было что-то невыразимо смешное.
Кстати об одеяле. Интересно, они его в тот раз специально захватили, или оно у них всегда лежит в багажнике, наготове? Сейчас такие вещи почему-то меня занимают, я над ними постоянно размышляю. Пресмешно я, должно быть, выглядел, сидя, точно манекен, на заднем сиденье, когда машина, гудя из важности, неслась по мокрым, залитым солнцем улицам.
Так я попал сюда. Больше всего, помню, поразил меня шум. Несусветный грохот, истошные вопли, свист, взрывы смеха, ругань, рыдания. Иногда, правда, и здесь воцаряется тишина, как будто все мы одновременно немеем от внезапно охватившего нас то ли великого страха, то ли великой тоски. В эти минуты воздух в тюремных коридорах неподвижен, точно стоячая вода; ноздри улавливают едва слышный запах карболки – чем не покойницкая! Поначалу казалось, что этот запах принадлежит мне, что его сюда принес я. Может, так оно и есть? Необычен здесь не только воздух, но и дневной свет, даже снаружи, во дворе, – как будто с ним что-то стряслось, как будто с ним, прежде чем он дошел до нас, что-то сделали. У него здесь какой-то едкий, лимонный оттенок, и потом, он разной насыщенности: то его не хватает, а то он, наоборот, слепит глаза. О темноте, о том, что она здесь тоже бывает разная, я, пожалуй, распространяться не буду.
Моя камера. Камера как камера. Чего о ней говорить.
Подследственным достаются лучшие камеры. И правильно: кто знает, меня ведь могут и оправдать. Господи, как же больно смеяться! Что-то сразу начинает давить на сердце – чувство вины, не иначе. Здесь у меня есть стол и нечто вроде кресла. Есть даже телевизор, хотя теперь, когда дело мое sub judice (Передано в суд (лат. )) и в новостях обо мне ни слова, смотрю я его редко. Водопровод и канализация оставляют желать лучшего. Подтекают – как и я. Надо бы завести себе мальчика. Мальчика с пальчик. А вернее, с пальчиком. Какого-нибудь юнца – шустрого, покладистого и не больно привередливого. Думаю, это не так уж сложно. Да и толковый словарь раздобыть тоже не мешает.
Хуже всего то, что всюду пахнет спермой. Не продохнуть.
Должен признаться, что свое пребывание здесь я рисовал в романтическом свете. Я-то воображал, что со мной будут носиться, поместят в особое крыло, отдельно от других заключенных, что посещать меня будут суровые, важные особы, что я буду рассуждать на злобу дня, вызывая зависть у мужчин и очаровывая дам. "Какая, однако, проницательность! – поразятся они. – Какая эрудиция! А нам-то рассказывали, что вы зверь, жестокий, бесчеловечный, – но теперь, когда мы увидели вас, услышали, что вы говорите… " Я живо представлял себе, как встаю в позу, как мой аскетичный профиль смотрится на фоне зарешеченного окна, как тереблю в нервных пальцах надушенный носовой платок и загадочно улыбаюсь – чем не Жан-Жак, эстет и убийца в одном лице.
Все вышло иначе, совсем иначе. Впрочем, и других крайностей не было тоже: ни известных всем нам по «голубому экрану» тюремных бунтов или массовых побегов, ни групповых изнасилований, ни убийств, когда одни во время прогулки втихаря «мочат наседку», а другие, двое рыжих с квадратными челюстями, затевают для отвода глаз между собой драку. Ничего этого здесь нет. Здесь вообще то же самое, что и там, на воле, только всего больше. Удобств, например. Камеры отапливаются так, что чувствуешь себя, точно в инкубаторе, а между тем заключенные постоянно жалуются на сквозняки, говорят, что по ночам их знобит, что у них стынут ноги. Еде тут тоже придается большое значение: беря в руки тарелку с супом, мы вздыхаем и принюхиваемся, как истинные гурманы. Когда же кто-то получает передачу, об этом мгновенно узнает вся тюрьма. «Слыхали? Она прислала ему слоеный пирог. Домашней выпечки!» Прямо как в школе: то же сочетание невзгод и уюта, та же потаенная тоска, тот же шум – и везде, всегда этот особый, густой, тошнотворный запах нечистой мужской плоти.
Говорят, что, когда здесь сидели политические, все было по-другому. Они гуськом ходили вверх-вниз по лестницам и громко переругивались на скверном ирландском, чем немало веселили уголовников. Но затем политические устроили то ли голодовку, то ли еще что-то, их перевели в отдельную тюрьму, и жизнь вновь пошла своим чередом.
Интересно, почему все мы такие вялые, податливые? Не из-за того ли порошка, который, по слухам, нам подсыпают в чай, чтобы заглушить похоть? А может, дело в наркотиках? Ваша честь, я знаю, доносчиков не любит никто, даже прокурор, но я считаю своим долгом поставить суд в известность: там, где я нахожусь, идет бойкая торговля запрещенным товаром. Есть несколько вертухаев, то бишь надзирателей, которые в этом деле замешаны, – могу назвать их, если, конечно, вы меня не выдадите. Достать здесь можно любую отраву: амфетамины и барбитураты, героин и кокаин, транквили, сонники, травку – на любой вкус… Поймите меня правильно, ваша честь, я вовсе не думаю, что вам знаком весь этот тюремный жаргон, я и сам-то узнал его совсем недавно, только когда попал сюда. Само собой, интересуется этим делом в основном молодежь. Доходяг этих сразу видно: спотыкаясь, семенят по проходам, словно сомнамбулы, взгляд отрешенный, на губах тоскливая улыбочка. Есть, правда, среди них и такие, которые не улыбаются – и, похоже, не улыбнутся больше никогда. Люди это конченые. Стоят себе и тупо, напряженно смотрят куда-то в сторону: так, без единого звука, отворачиваются от нас раненые звери, как будто мы для них лишь призраки, как будто боль они испытывают совсем в другом мире…
Но дело не только в наркотиках. Мы тут лишились чего-то очень важного, нам выбили почву из-под ног. Старые рецидивисты, отпетые негодяи, совершившие невиданные по жестокости преступления, переваливаясь, точно старые вдовы, бродят по тюрьме – бледные, изнеженные, обрюзгшие, толстозадые. Они прилежно роются в библиотечных книгах, а некоторые даже вяжут. Есть хобби и у молодых: эти робко, бочком подходят ко мне в комнате отдыха и с блеском в телячьих глазах, краснея от смущения, демонстрируют свою очередную поделку. Кажется, покажи они мне еще один парусник в бутылке– и я не выдержу. И в то же время у кровопийц этих, у насильников, у истязателей такой грустный, такой забитый вид. Когда я думаю о них, то почему-то (сам не знаю почему) перед моим мысленным взором предстает узкая полоска жухлой травы и деревце, которые можно увидеть из окна моей камеры, если прижаться щекой к решетке и, скосив глаза, посмотреть вниз, по диагонали, через стену с колючей проволокой.
Встаньте, пожалуйста, положите руку вот сюда, отчетливо произнесите ваше имя. Фредерик Чарльз Сент-Джон Вандервельд Монтгомери. Клянетесь ли вы говорить правду, одну только правду, ничего, кроме правды? Не смешите меня. Я хочу сразу же пригласить моего первого свидетеля. Мою жену. Дафну. Да, именно так ее звали – и зовут. Почему-то имя это обычно вызывает улыбочку. А по-моему, оно как нельзя лучше подходит к ее меланхоличной смуглой близорукой красоте. Я вижу, как она, мое лавровое деревце (Согласно греческому мифу, нимфа Дафна, преследуемая влюбленным в нее Аполлоном, была превращена богами в лавровое дерево.), полулежит на залитой солнцем поляне и, слегка нахмурившись, недовольно поджав. губки, смотрит куда-то вдаль, а рядом с ней, с камышовой трубкой, самодовольно приплясывает и резвится какой-то влюбленный в нее божок, принявший обличье фавна. Этот отвлеченный, чуть-чуть недовольный взгляд и привлек к ней мое внимание. В ней не было ничего запоминающегося, ничего особенно хорошего. Просто она мне подходила. Быть может, уже тогда я думал о том времени, когда мне понадобится, чтобы меня кто-то – все равно кто – простил, а ведь на такое способен лишь мне подобный.
Когда я говорю, что в ней не было ничего особенно хорошего, я вовсе не имею в виду, что она была порочна или развратна. Шероховатости ее натуры не шли ни в какое сравнение с глубокими расселинами, бороздившими мою душу. Если ее и можно было в чем-то обвинить, то разве что в нравственной лени. Были вещи, на которые ее попросту не хватало, какими бы важными они ни представлялись ее пресыщенному вниманию. Она, например, совершенно не занималась нашим сыном, хотя, пусть по-своему, и любила его; просто заботы, связанные с ребенком, ее, по существу, не занимали. Я не раз видел, как она смотрела на него с отсутствующим выражением, будто пытаясь припомнить, кто он, какое он, собственно, имеет к ней отношение, как он сюда попал и почему катается по полу у ее ног. «Дафна! —бубнил я. – Ради Бога, очнись!» – и тогда, причем довольно часто, она и на меня смотрела точно так же, тем же пустым, бессмысленным взглядом.
Ловлю себя на том, что не могу не говорить о ней в прошедшем времени. Что ж, так, наверно, и должно быть. А между тем она часто навещает меня в тюрьме. Придя в первый раз, она поинтересовалась, как мне здесь живется. «Как?! Шумно! Людно!» – ответил я, и она, слегка кивнув головой и слабо улыбнувшись, стала разглядывать других посетителей. Мы хорошо понимаем друг друга, этого у нас не отнимешь.
Под лучами южного солнца леность ее преображалась в сладострастную истому. Почему-то мне запомнилась раскаленная от полуденного средиземноморского зноя комнатка с зелеными ставнями на окнах, узкой кроватью и стулом, как на картине Ван Гога. Где это было? Ивиса? Искья? Может, Миконос? Всегда остров – пожалуйста, клерк, зафиксируйте эту деталь; возможно, она еще нам пригодится. Раздеваться Дафна умела, надо сказать, поразительно быстро; каким-то неуловимым движением плеч она выскальзывала одновременно из юбки, блузки, трусиков, как будто все это было одним предметом туалета. Дафна – крупная женщина, но не толстая, не полная даже; хотя и грузная, но хорошо сложенная. Всякий раз, когда я видел ее обнаженной, мне хотелось погладить ее, как гладят скульптуру, ощупывая ладонью изгиб за изгибом, проводя большим пальцем по длинным плавным линиям, ощущая прохладную бархатистость камня. Возьмите на заметку последнее предложение, клерк, в нем, может быть, заложен глубокий смысл.
Жгучий полдень в этой комнате – и в бессчетном числе других, точно таких же… Господи, сейчас от одной мысли об этом начинает бить дрожь. Я не мог устоять перед ее простодушной обнаженностью, перед тяжестью и цельностью этой смуглой плоти. Она неподвижно, как в нирване, лежала рядом и не сводила глаз с темного потолка или же с полоски пробивавшегося сквозь ставни раскаленного белого света, пока наконец мне не удавалось – каким образом, непонятно —потревожить в ней какой-то тайный нерв, и тогда она тяжело и в то же время проворно поворачивалась и с протяжным стоном, словно падая с высоты, тесно прижималась ко мне, впивалась мне в горло и начинала на ощупь, точно слепая, шарить пальцами по моей спине. Она никогда не закрывала глаза, в ее тусклых нежных серых зрачках таилось что-то беспомощное, особенно когда она слегка щурилась от саднящей боли, которую я ей причинял. Не могу передать, как это возбуждало меня, как возбуждал этот страдальческий, беззащитный взгляд, столь ей не свойственный в любое другое время. Когда мы ложились в постель, я пытался заставить ее остаться в очках, чтобы вид у нее был еще более потерянный, еще более беззащитный, но это мне, к каким бы уловкам я ни прибегал, не удавалось ни разу. Попросить же прямо я, разумеется, не мог. А потом она – так, словно ничего не произошло, – вставала и, подхватив рукой рассыпающиеся волосы, неторопливо шла в ванную, а я лежал, бессильно раскинувшись на влажных простынях, и судорожно ловил губами воздух, как будто только что перенес тяжелый сердечный приступ… Что ж, было отчего.
Думаю, Дафна даже не подозревала, какое волнение я испытывал. Я старался скрывать свои чувства. Не подумайте только, что делал я это потому, что боялся оказаться в ее власти. Просто для наших отношений подобные эмоции были бы, скажем так, неуместны. Между нами с самого начала установилась молчаливая договоренность вести себя сдержанно, не давать воли чувствам. Да, мы понимали друг друга, но это ведь вовсе не значит, что мы друг друга знали или стремились узнать. Как бы мы, подумайте сами, сохранили столь важную для нас обоих естественную уважительность к партнеру, если б с утра до ночи изливали друг другу душу?
А как приятно было, дождавшись послеобеденной прохлады, встать с постели и спуститься в гавань по узким улочкам, расчерченным солнцем и тенью на строгие геометрические фигуры. Я любил наблюдать за Дафной, которая всегда шла впереди: сильные плечи, крутые бедра, в сложном ритме они плавно покачивались в такт шагам под светлым летним платьем. Любил я наблюдать и за аборигенами, которые, согнувшись над бокалами пастиса и наперстками крепчайшего, мутного кофе, постоянно косились на нее своими рачьими глазами. Что, ублюдки, хочется? Перехочется.
В гавани имелось непременное кафе, всегда одно и то же, независимо от острова: несколько столиков на открытом воздухе, пластмассовые стулья, покосившиеся зонтики от солнца с рекламой «Стеллы» или «Перно» и смуглый толстяк хозяин – стоит, прислонившись к дверному косяку, и ковыряет во рту зубочисткой. Одинаковые были и завсегдатаи: какие-то тощие подозрительные типы в выцветших от времени бумажных костюмах, неприступного вида женщины с задубевшей от солнца кожей, тучный старик с седеющими бакенбардами, в теннисной кепке с длинным козырьком и – как без них? – два-три гомика с браслетами на запястьях и в фасонных сандалиях. Из этих людей и состояло наше общество, наш круг, наша компания. Обычно мы не знали, кого как зовут, и называли друг друга «приятель», «старик», «шеф», «дорогая». Мы пили бренди или анисовую водку, всегда выбирая из местного ассортимента что-то подешевле, громко судачили об общих знакомых, о посетителях других кафе, на других островах, и при этом поглядывали друг на друга; мы широко улыбались собеседнику и украдкой – сами не зная зачем – за ним следили; быть может, чтобы не упустить момент, когда он расслабится, и укусить побольней. Господа присяжные, вы же наверняка нас видели в толпе аборигенов, когда туристами рыскали в поисках достопримечательностей: вы бросали на нас проникновенные взгляды, а мы не обращали на вас никакого внимания.
Мы, Дафна и я, всегда находились в центре внимания и принимали почести с величественной бесстрастностью низложенных короля и королевы, что ежедневно ждут вестей о начале контрреволюции, не оставляя надежды вернуться обратно во дворец. Я замечал, что местные жители в большинстве своем относятся к нам с опаской: время от времени я ловил на себе или испуганный, подобострастный, собачий какой-то взгляд или же злобный блеск, вороватый и угрюмый. Я немало думал над этим явлением, мне оно представляется существенным. Что было в нас – а вернее, в нашем поведении – такого, что производило на них впечатление? Да, оба мы крупные, хорошо сложенные, красивые люди – но дело, скорее всего, было все же не только в этом. Нет, в результате длительных размышлений я пришел к выводу, что в нас они чувствовали какую-то цельность, органичность, естественность, которой им самим так не хватало и которая, как они полагали, была им недоступна. В их глазах мы были… ну да, мы были героями.
Все это, конечно же, было в высшей степени нелепо. Нет, постойте, я же дал слово говорить правду – на самом деле мне это доставляло удовольствие. Мне доставляло удовольствие нежиться на солнце в обществе неподражаемой и пользующейся сомнительной репутацией спутницы жизни, равнодушно принимая дань восхищения от своей разношерстной свиты. На губах у меня играла легкая улыбочка – хладнокровная, терпимая, чуть-чуть презрительная, адресованная в основном тем, кто поглупее, кто выделывал перед нами антраша в шутовском колпаке с колокольчиками, кто проказничал, хохмил и сам же от души хохотал. Я смотрел им в глаза и видел там свой возвышенный образ, а потому на мгновение забывал, что я собой представляю в действительности: такое же, как и они, жалкое ничтожество, терзаемое любовью и ненавистью, одиночеством и страхом, мучимое сомнениями и идущее навстречу смерти.
В результате я попал в лапы, проходимцев: почему-то я убедил себя в своей непогрешимости. Говорю это, милорд, вовсе не для того, чтобы оправдать свои поступки, а лишь затем, чтобы объяснить их. Кочевая жизнь, которую мы вели, переезды с острова на остров порождали иллюзии. Солнце, соленый воздух вытравливали значимость из происходящего, лишали истинного его смысла. Мои инстинкты, инстинкты нашего племени, эти тугие пружины, закаленные в темных лесах севера, там, на юге, растянулись, да, ваша честь, растянулись. В самом деле, как опасность, порок могли сочетаться с этим нежным, лазоревым, акварельным климатом? А потом, плохое никогда ведь не случается с нами, плохие люди никогда не бывают нашими знакомыми. Американец, к примеру, казался мне ничуть не хуже всех тех, с кем мы тогда общались. Откровенно говоря, он казался мне ничуть не хуже меня самого – верней, не хуже человека, каким я сам себя тогда представлял, ведь было это, разумеется, раньше, чем я обнаружил, на что способен.
Американцем я называю его потому, что не знал или забыл его имя, – вполне возможно, он вообще не был американцем. Говорил он по-американски в нос привычка, почерпнутая, видимо, из кино – и имел обыкновение, разговаривая, щуриться, чем очень напоминал мне какого-то киноактера. Всерьез я его при всем желании воспринимать не мог и презабавно его изображал (я всегда был отличным имитатором), вызывая у пораженных слушателей громкий смех узнавания. Сначала я решил было, что он еще очень молод, но Дафна, улыбнувшись, посоветовала мне обратить внимание на его руки. (Такие вещи она подмечала. ) Он был долговяз, мускулист, лицо у него было скуластое, а волосы – коротко, по-мальчишески, стриженные. Ходил он в обтягивающих джинсах, в сапогах на высоких каблуках и подпоясывался кожаным ремнем с огромной пряжкой. То, что он работает под ковбоя, чувствовалось сразу. Назову я его… постойте, назову-ка я его, пожалуй, Рэндольфом. Дафна ему явно приглянулась. Я с интересом следил за тем, как он, засунув руки в оттопыренные карманы, медленно приближался к ней и – с уверенностью и в то же время с некоторой опаской, как и многие другие до него, – начинал ее обнюхивать; о его намерениях, как и о намерениях всех остальных, свидетельствовала какая-то напряженная белизна между глаз. Со мной же он держался настороженно-вежливо, называя меня «другом» и даже – надо же придумать такое! – «коллегой». Хорошо помню, как он первый раз подсел к нам: локти положил на стол, а своими паучьими ножками обвился вокруг стула. Казалось, он извлечет сейчас из кармана кисет и прямо у нас на глазах, лениво, одной рукой скрутит себе сигаретку. Официант, Пако или Пабло, юный мозгляк с горящими глазами и аристократическими замашками, принес нам по ошибке не то, что мы заказывали, и Рэндольф, воспользовавшись этим, сурово его отчитал. Бедный парень стоял втянув голову в плечи под градом оскорблений и в этот момент больше чем когда-либо похож был на деревенского увальня. Когда же он поплелся прочь, Рэндольф победоносно взглянул на Дафну и усмехнулся, продемонстрировав длинные желтые зубы, и я подумал, что он очень смахивает на верного пса, который необычайно гордится тем, что принес к ногам своей хозяйки дохлую крысу. «Черномазое отродье», – небрежно процедил он, презрительно прищелкнув языком. «Подавись, сукин ты сын!» – в сердцах закричал я и одним движением перевернул на него заставленный бутылками столик. Нет, нет, разумеется, я ничего подобного не сделал. Как бы мне ни хотелось вывалить разбитые бокалы на его нелепо раздутую промежность, я себе такого не позволил бы – в то время, во всяком случае. Вдобавок мне тоже доставляло удовольствие, и немалое, видеть, как получил по заслугам Пабло или Пако, этот прохвост с проникновенным взглядом, нежными ручками и сальными, кустистыми, точно волосы на лобке, усиками.
Рэндольф любил разыгрывать из себя человека бывалого, отчаянного. В разговорах с нами он то и дело намекал на какие-то темные делишки, которые он якобы проворачивал в никому не известном Стейтсайде. Я же, со своей стороны, всячески поощрял рассказы о его героических подвигах, втайне получая удовольствие от всех этих «я ему все начистоту выложил», «и не с такими разбирались», «меня не проведешь». Было что-то необычайно смешное в том, как этот проходимец хитро косится, как в самых рискованных местах – якобы из скромности – запинается, какой у него при этом победительный вид, как он, точно цветок, раскрывается под солнечными лучами моих поощрительных кивков и исполненных благоговейного ужаса Восклицаний. Я вообще всегда испытывал удовлетворение от мелких грешков своих ближних. Обходиться с дураком и лжецом так, будто во всем мире нет его умней и честней, делать вид, что веришь каждому его слову, любым его ужимкам, доставляет мне какое-то особое, ни с чем не сравнимое наслаждение. Поначалу Рэндольф уверял, что он художник, но, после того как я задал ему несколько нехитрых вопросов, он, и глазом не моргнув, стал писателем. В действительности же (о чем он поведал мне как-то ночью, выпив лишнего) жил он тем, что сбывал местным нуворишам наркотики. Я, сами понимаете, изобразил полнейшее недоумение, однако рассказ его запомнил и в дальнейшем, когда…
Нет, хватит, надо бы поскорей покончить с этим. Короче, я попросил его одолжить мне денег, Он отказал. Тогда я напомнил ему, что он мне рассказывал, напившись, и заметил, что guardia (Полиция (исп., шпал. ).) этой историей наверняка заинтересуется. Он не поверил своим ушам. Подумав, он сказал, что у него самого таких денег нет, придется их для меня доставать – есть люди, к которым он может обратиться. И. замолчав, прикусил нижнюю губу. Я ответил, что меня это устраивает, что мне абсолютно безразлично, откуда он возьмет эти деньги. К своему удивлению и, не скрою, радости, я оказался неплохим шантажистом. По правде говоря, я не рассчитывал, что Рэндольф воспримет мои слова всерьез, но, судя по всему, я недооценил его малодушие. Он раздобыл деньги, и пару месяцев мы с Дафной жили припеваючи, ни в чем себе не отказывая; все шло великолепно, вот только Рэндольф ходил за мной по пятам. Такие слова, как «одолжить» и «расплатиться», он воспринимал до обидного буквально. Я же не выдал его гнусный секрет, внушал я ему, разве этого мало? Это люди серьезные, возражал он, изо всех сил пытаясь изобразить на лице улыбку, их вокруг пальца не обведешь. Вот и прекрасно, не унимался я. приятно слышать, что имеешь дело, пусть и не напрямую, с профессионалами. Тогда он пригрозил, что назовет им мое имя. Я расхохотался ему в лицо и ушел. Его слова, что бы он там ни говорил, я по-прежнему всерьез не воспринимал. Однако спустя несколько дней по почте пришел небольшой сверток, на котором я с трудом разобрал собственный адрес: писавший был явно с грамотой не в ладах. Дафна, что было с ее стороны опрометчиво,. сама развернула посылку и обнаружила внутри металлическую коробку из-под трубочного табака «Балкан собране» (ни вашим, ни нашим – я это так расценил), а на выложенном ватой дне – странной формы хрящевидный, покрытый корочкой запекшейся крови кусок мяса, в котором я – правда, далеко не сразу – узнал человеческое ухо. Судя по неровному срезу, операция стоила немалых усилий и делалась чем-то вроде хлебного ножа. Чтоб побольней. Это наверняка входило в их планы. Помню, у меня даже мелькнула мысль: а ведь правильно, что ухо, – это же как-никак страна тореадоров. Забавно, ничего не скажешь.
Я отправился на поиски Рэндольфа. На левом виске, под волосами, у него была повязка из корпии, а сверху – не первой свежести бинт. С Диким Западом он у меня больше не ассоциировался. Теперь словно судьба решила все же подтвердить его притязания на право называться художником – он стал поразительно похож на несчастного безумца Винсента, каким после любовной драмы тот изобразил себя на знаменитом автопортрете. Казалось, при виде меня он вот-вот заплачет – так ему было себя жалко, так он негодовал. Теперь, сказал он, сам с ними разбирайся, ты должен им, а не мне, я-то уже расплатился и он с угрюмым видом провел рукой по своей забинтованной голове. Затем обозвал меня нехорошим словом и скрылся. Несмотря на полуденный зной, по спине у меня, точно рябь по воде, пробежал легкий озноб. Я задумался. Мимо, приветливо кивнув, проехал старик на ослике. Где-то невдалеке гулко зазвонил церковный колокол. Почему, допытывался я у себя, почему я так живу?Не сомневаюсь, на этот вопрос суд бы тоже хотел получить ответ. С моим-то происхождением, образованием, с моей… да. с моей культурой, как мог я жить такой жизнью, общаться с такими людьми, попадать в такие истории?! Вы хотите ответа на такой вопрос? Я не знаю ответа. Вернее, знаю, но он слишком сложен, слишком запутан, давать его здесь не стоит. В свое время я, как и все, верил, что определяю ход своей жизни собственными решениями, однако постепенно, по мере того как прошлое копилось у меня за спиной, стало понятно: я делал то, что делал, лишь потому, что не мог иначе. Только, пожалуйста, не подумайте, милорд, что я пытаюсь каким-то образом оправдать себя, тем более – защитить. Я целиком отвечаю за свои поступки – в конечном счете, это ведь то единственное, что я вправе назвать своим, – и заранее заявляю, что приму без возражений решение суда, каким бы оно ни было. Позволю себе, однако, при всем уважении к суду задать один-единственный вопрос: уместно ли придерживаться принципа моральной виновности, коль скоро не существует более такого понятия, как свобода воли? Это ведь, уверяю вас, штука очень непростая, из тех, о которых мы – от нечего делать – так любим порассуждать поздним вечером, попивая какао и покуривая.
Повторюсь: я вовсе не всегда считал жизнь тюрьмой, где все наши действия зависят от прихоти некоей неведомой и бесчувственной силы. Напротив, в молодости я воображал себя зодчим, который в один прекрасный день воздвигнет над собой потрясающее здание, нечто вроде огромного павильона, просторного и светлого; павильон этот, мечтал я, вместит меня целиком, и в то же время я буду ощущать в нем полную свободу. Смотрите, скажут люди, увидев издалека это великолепие, смотрите, какая стройность, какая прочность, да, это он, в этом нет никаких сомнений, это он, тот самый человек. Однако все это было делом будущего, пока же я ощущал себя незащищенным и одновременно невидимым. Как бы описать это странное ощущение какой-то легковесности, неустойчивости, призрачности? Другие люди, казалось, обладают телесностью, материальностью, чего так не хватало мне. Среди них, этих больших беззаботных существ, я чувствовал себя ребенком в окружении взрослых. Я наблюдал за ними широко раскрытыми глазами, недоумевая, как в этом непостижимом и абсурдном мире им удается сохранить хладнокровие, уверенность в себе. Только поймите меня правильно: я вовсе не был увядшей лилией, я смеялся, веселился и куражился вместе с лучшими из них – вот только внутри, в той зловещей, погруженной во мрак галерее, что я зову своим сердцем, я стоял, неуверенно переступая с ноги на ногу и приложив ко рту руку, – молчаливый, завистливый, в себе неуверенный. Они понимали – или, по крайней мере, принимали реальность; у них была своя, взвешенная, продуманная точка зрения, были убеждения. Этих людей отличал широкий взгляд на вещи – как будто они не понимали, что все в мире распадается на бесчисленные мелочи. Они рассуждали о причине и следствии так, словно считали возможным отделить одно событие от других и подвергнуть его тщательному анализу в чистом, вневременном пространстве, вне безумного водоворота происходящего. О целых народах они позволяли себе судить как об одном человеке; мне же судить, хотя бы с малой долей ответственности, даже об одном человеке-представлялось в высшей степени опрометчивым. Они, эти люди, не ведали границ.