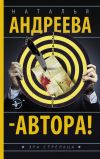Текст книги "Улики"

Автор книги: Джон Бэнвилл
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]
Знаю, Чарли настаивает на том, что в пабе Уэлли мы не встречались, что он вообще ни разу там не был. Что ж, я могу ошибаться: возможно, мы увиделись в пабе и не в первый день моего приезда – но увиделись именно там, в этом нет никаких сомнений. Хорошо помню этот момент: гомики о чем-то громко шепчутся в углу, Уэлли – привычным, неподражаемо презрительным движением запястья – протирает бокал, а я сижу за стойкой, в кулаке у меня зажат стакан с джином, а между ног – старый, видавший виды чемодан из свиной кожи. И тут в дверях, в мятом полосатом костюме и в стоптанных туфлях, возникает мой забывчивый Эвмей (свинопас, один из немногих слуг, сохранивших верность Одиссею во время его странствий.); на лице у него смущенная улыбка, а в глазах неясная еще догадка. Впрочем, очень может быть, что в памяти у меня действительно смешались два совершенно разных события. Очень может быть. Что еще сказать? Надеюсь, Чарльз, эта оговорка хоть немного сгладит ту боль, которую я вам причинил.
Меня называют бессердечным, но это не так. Я очень сочувствую Чарли Френчу. Я причинил ему немало страданий, тут двух мнений быть не может. Я ославил его на весь свет. Такой человек, как Чарли, должен был перенести это очень тяжело. Он же повел себя хорошо. Просто превосходно. В последнюю минуту, минуту страшную, страшную до смешного, когда меня уводили в наручниках, он смотрел на меня не укоризненно, а как-то печально. Он почти улыбался. И я ему за это благодарен. Сейчас он вызывает у меня чувство вины и досады, но он был моим другом и…
Он был моим другом. Какая простая и в то же время трогательная фраза. Мне кажется, я произношу ее впервые. Записывая эти слова, я даже на мгновение замер… Что-то подкатило к горлу, так, словно я… словно я сейчас разрыдаюсь. Что же со мной происходит? Может, это и называется перевоспитанием? Может, я и в самом деле выйду отсюда совсем другим человеком?
Бедняга Чарли не сразу узнал меня, и ему явно стало не по себе оттого, что в таком заведении к нему обращается, да еще так фамильярно, совершенно незнакомый человек. Я же испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие невидимки. Я предложил ему выпить, но он, с подчеркнутой вежливостью, мое предложение отклонил. Он постарел. Ему было немногим больше шестидесяти, но выглядел он старше. Он сутулился, у него появилось маленькое, похожее на яйцо, брюшко, а пепельного цвета щеки покрыты были густой сеточкой лопнувших сосудов. Вместе с тем он производил впечатление человека уравновешенного, чего раньше не было. Казалось, что он, как бы это сказать… что он занял наконец подобающее ему место. Когда я с ним познакомился, он приторговывал картинами и антиквариатом, теперь же у него был солидный, я бы даже сказал, величественный вид, что особенно бросалось в глаза на фоне аляповатой обстановки паба. Да, у него сохранилось прежнее, одновременно озорное и застенчивое, выражение, но, чтобы это выражение заметить, надо было как следует приглядеться. Поначалу он косился на меня с опаской, криво улыбаясь, но затем углядел, вероятно, в моих глазах что-то знакомое и, узнав меня, облегченно вздохнул, громко, с придыханием рассмеялся и осмотрелся. Я хорошо запомнил этот взгляд: казалось, он обнаружил, что у него расстегнуты брюки, и испуганно озирается по сторонам – не заметил ли кто-нибудь еще? «Фредди! – воскликнул он. – Ну и. ну!» Слегка трясущимися пальцами он сунул в рот сигарету и выпустил в потолок густой клуб дыма. Я попытался вспомнить, когда же мы познакомились. Он приезжал к нам в Кулгрейндж еще при жизни отца и без дела слонялся по дому с каким-то загадочным, виноватым видом. С родителями он познакомился еще до войны, и нередко, сидя вместе за бутылкой, они вспоминали ежегодные балы для членов охотничьего клуба, поездки в Дублин на скачки и прочие развлечения. Я слушал все эти разговоры с безграничным презрением, издевательски поджимая губы с пробивающимся над ними подростковым пушком. В такие минуты они, все трое, особенно моя мать с ее маникюром, перманентом и низким – пропитым и прокуренным – голосом, похожи были на занятых в старомодной комедии провинциальных актеров. Надо, однако, отдать должное Чарльзу: не думаю, чтобы он всей душой отдавался ностальгическим воспоминаниям. Не мог же он не замечать, как громко, с надрывом, хохочет моя мать, как, едва заметно, истерически дрожит ее хриплый, надтреснутый голос; какие полные невыразимой ненависти взгляды украдкой бросает на нее отец – бледный, с прямой спиной, примостившийся на самом краешке стула, с неподвижными, выпученными, как у гончей, глазами. Когда между родителями начиналось такое, они забывали все на свете, своего единственного сына, своего лучшего друга, и сливались в каком-то макабрическом трансе. В результате нам с Чарли ничего не оставалось, как общаться друг с другом. Держался он при этом с некоторой осторожностью, словно я был чем-то, что могло в любой момент взорваться прямо у него в руках; в те дни я и впрямь был очень вспыльчив, весь кипел от нетерпения и раздражения. Пару мы собой являли, надо думать, презабавную, однако ладили – на каком-то глубинном уровне. Быть может, он видел во мне сына, которого у него никогда не будет, а я в нем – отца, которого у меня никогда не было. (И эту мысль тоже внушает мне мой адвокат. Интересно, что вы на это скажете, Maolseachlainn (Ваша честь (ирл. ).)? Так о чем я? Да, о Чарли. Однажды он взял меня, тогда еще совсем мальчишку, на скачки. Оделся Чарли, как положено: серый твидовый костюм, коричневые высокие башмаки и небольшая, лихо сдвинутая на глаза фетровая шляпа. Прихватил он с собой даже бинокль, однако настроить его, судя по всему, так толком и не. сумел. Смотрелся он отлично, вот только слишком уж пыжился; казалось, сейчас он покатится со смеху, издеваясь над самим собой и над своими притязаниями. Мне тогда было лет пятнадцать. В буфете он любезно осведомился, какое виски я буду пить, ирландское или шотландское, – и поздно вечером привез меня домой безобразно, бессовестно пьяным. Отец был в бешенстве, мать смеялась. Чарли же сохранял полную невозмутимость, делая вид, что ничего не произошло, и, когда я, качаясь, поплелся спать, незаметно сунул мне в карман пятерку.
Ах, Чарли, я виноват перед вами, в самом деле виноват.
Так вот, словно бы тоже вспомнив былое, он, в свою очередь, решил угостить меня и неодобрительно поджал губы, когда я заказал джин. Сам-то он предпочитал виски, которое было для него такой же личиной, как и полосатый костюм, стоптанные туфли ручной работы и пышная поседевшая теперь шевелюра, которая, как любила говорить моя мать, обрекала его на громкую славу. Чарли, однако, всегда удавалось каким-то образом славы избегать. Я поинтересовался, чем он занимается. «У меня картинная галерея», – ответил он и с рассеянной улыбкой обвел глазами паб, словно сам был удивлен этим обстоятельством. Я кивнул. Так вот почему он так приосанился, вот почему теперь у него такой самонадеянный вид. Я живо представил себе: пыльная комната в каком-то захолустье, по стенам развешано несколько мрачных, однотонных пейзажей; секретарша, старая дева с крашеными волосами, постоянно препирается с ним из-за каждого пенса представительских денег, зато на Рождество не забывает подарить ему галстук в папиросной бумаге. Бедный Чарли! Теперь он вынужден воспринимать себя всерьез, днем и ночью думать о коммерции и бегать от художников, которые требуют с него денег за свою мазню. «Нет, позвольте уж мне», – сказал я и, вытащив банкноту из быстро худеющей пачки, бросил ее на стойку.
Откровенно говоря, я подумывал о том, чтобы взять у него в долг. И знаете, что мне помешало? Уверен, вы будете смеяться, но я не занял у него денег, ибо счел это дурным вкусом. И дело тут вовсе не в моей щепетильности – в свое время, чтобы удержаться на плаву, я обращался к услугам людей, куда менее кредитоспособных, чем Чарли. Возможно, остановило меня и то, что мы с ним и в самом деле могли быть отцом и сыном – не моим отцом, конечно, и, уж разумеется, не его сыном, – которые по случайности встречаются в борделе (Аллюзия на «Улисса» Дж. Джойса, где в 15-м эпизоде происходит встреча Стивена
Дедала и Леопольда Блума в публичном доме.). Напряженные, угрюмые, чего-то стыдясь, мы хвастались и блефовали, мы чокались, мы пили за доброе старое время. Но продолжалось это недолго, вскоре мы оба запнулись и погрузились в молчание. И тут Чарли вдруг с какой-то чуть ли не болью посмотрел на меня и низким, бесстрастным голосом спросил: «Фредди, что ты с собой сделал?» А потом, устыдившись, отпрянул от меня, безнадежно улыбнулся и вновь выпустил изо рта густой клуб табачного дыма. В первый момент я пришел в бешенство, но затем скис. К таким вопросам я в тот день был не готов, а потому глянул на висевшие на стене, за стойкой, часы и, притворившись, что не понял его, сказал, да, он прав, у меня был тяжелый день, я перебрал, после чего допил джин, пожал Чарли руку, взял чемодан и вышел.
По сути дела, это был все тот же вопрос: почему, Фредди, почему ты так живешь? Ответ на этот вопрос я обдумывал наутро, по дороге в Кулгрейндж. Небо было под стать моему настроению: серое, низкое, тяжелое. Автобус подпрыгивал на ухабах узких сельских дорог с тем же глухим, надтреснутым гулом, с каким стучала у меня в висках кровь. Позади меня грудой обломков были свалены мириады моих случайных поступков. Была ли среди этого гигантского вороха случайностей хотя бы одна (одно принятое решение, один заранее избранный маршрут, один запланированный поворот), которая бы объяснила мне, как же я мог дойти до жизни такой? Нет, конечно, не было. Мой жизненный путь, как, кстати, жизненный путь любого человека, даже ваш, милорд, – это не принятые решения, не заранее избранные маршруты, а сплошные шатания, нечто вроде медленного падения, врастания в землю под постепенно растущим весом всего того, что не удалось сделать. И в то же время я понимал, что кому-нибудь вроде Чарли, тому, кто смотрит снизу, я, вероятно, казался каким-то сказочным существом, шагающим по заоблачным высям, подымающимся все выше и выше и, наконец, бросающимся с головокружительной высоты и совершающим непостижимый, искрометный полет с объятой пламенем головой. Но я не Эвфорион (в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, родившийся от союза
Ахилла с Еленой.). И даже не его отец.
Сам по себе вопрос неверен, вот в чем беда. Ведь он предполагает, что наши действия определяются волевыми решениями, логикой, тщательным взвешиванием фактов, то есть всем тем по-кукольному судорожным подергиванием, которое принято называть совестью. Я жил так, как жил, потому что жил так, как жил, – иного ответа быть не может. Когда я смотрю назад, как бы пристально я ни вглядывался, я не вижу отчетливой границы между разными жизненными этапами. Это сплошной поток – хотя поток, должно быть, слово тут недостаточно сильное. Скорее что-то вроде деятельного безделия, бега на месте. Впрочем, даже такой бег был для меня слишком быстрым, я всегда немного отставал, плелся, можно сказать, в хвосте собственной жизни. В Дублине я слыл провинциальным мальчишкой из Кулгрейнджа, в Америке – зеленым юнцом из Дублина, а на островах – кем-то вроде американца. И мне все время чего-то не хватало. Все было впереди, предвкушалось, ожидало своего часа. Застряв в прошлом, я все вглядывался в бескрайние просторы будущего. И вот теперь можно, мне кажется, сказать, что будущее наконец наступило.
Вся эта болтовня ничего не значит. Ничего путного. Просто забавляюсь, погружаюсь, теряюсь в хаосе слов. Ведь слова здесь – это роскошь, это чувственность, это все, что осталось у нас от богатого, щедрого мира; мира, которого нас лишили.
О Господь, о Христос, освободи меня отсюда.
О Кто-нибудь.
Я должен сделать паузу, опять болит голова. Головные боли последнее время участились. Не беспокойтесь, ваша честь, вызывать сержанта или пристава нет необходимости – это ведь всего лишь головная боль. Я не сойду с ума, не стану рвать на себе волосы и, горько рыдая, звать свою… Впрочем, вот и она, моя матушка. Собственной персоной. Твоя очередь давать свидетельские показания, мать.
До Кулгрейнджа я добрался в середине дня. Я сошел с автобуса, и тот, кокетливо вильнув мне на прощанье толстым своим задом, покатил, громыхая, дальше. Мотор стих вдали, и над полями вновь воцарилась гулкая летняя тишина. Небо было по-прежнему обложено тучами, но кое-где уже пробивались солнечные лучи, стало светлее, свинцовый цвет сменился на более мягкий, жемчужно-серый. Я неподвижно стоял на дороге и озирался по сторонам. Привычное всегда таит в себе неожиданности. Все было на месте, все ждало меня: и покосившиеся ворота, и аллея, и продолговатый луг, и дубовая роща – мой дом! Все было абсолютно таким же, как раньше, разве что чуть поменьше, чем мне запомнилось, не в натуральную величину. Я засмеялся. Впрочем, это был не столько смех, сколько вскрик, выражение удивления и узнавания. Всякий раз, когда я вижу такое – деревья, переливающиеся на солнце поля, мягкий, нежно льющийся свет, – я чувствую себя странником, который вот-вот покинет эти места. Но и приезжая куда-то, я все время словно бы отворачивался, бросал долгие взгляды вспять, на землю, которую потерял. Перекинув плащ через плечо и подняв с земли старенький чемодан, я двинулся по аллее в сторону дома – блудный сын, пусть и не умирающий с голоду, пусть и не первой молодости. Из-за изгороди мне навстречу выбежала собака. Она издала гортанный рык и злобно, по самые десны, оскалилась. Я остановился. Не люблю собак. Эта была черно-белая, с бегающими глазками, она припала животом к земле и, не переставая грозно рычать, заметалась вокруг меня. Прикрыв колени чемоданом, точно щитом, я стал ругать ее, как непослушного ребенка, но голос мой предательски сорвался на фальцет, и на какую-то долю секунды мне почудилось, что где-то в листве звучит приглушенный смех, как будто несколько человек спрятались за деревьями и за мной наблюдают. Но тут кто-то засвистел, и пес, заскулив, виновато поплелся к дому. На верхней ступеньке крыльца стояла мать. Она смеялась. И в тот же момент, словно некий знак свыше, из-за туч выглянуло солнце. «Господи, – сказала она, – это ты, а я уж решила, что у меня галлюцинации».
Я в нерешительности. Нет, не в том дело, что мне не хватает слов. Скорее наоборот. Сказать нужно столько, что не знаю, с чего начать. Я испытываю такое чувство, будто медленно, нетвердой походкой пячусь назад, держа на вытянутых руках огромный, громоздкий и в то же время невесомый груз. Она – это так много и одновременно – ничто. Сейчас надо быть очень осторожным, ведь почва у меня под ногами зыбкая. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что мои слова, что бы я ни сказал, вызовут лишь снисходительный смех у доморощенных психологов, которыми набит зал суда. Когда подымается материнская тема, простота не поощряется. И тем не менее попытаюсь говорить честно и просто. Ее имя Дороти, хотя все звали ее Долли – сам не знаю почему: ничего кукольного в ней никогда не было ((англ. ) – кукла). Напротив, она – крупная, сильная, с широким лицом и густыми, точно у жены лудильщика, волосами. Ничего неуважительного в этом описании нет: мать по-своему хороша собой, в ее облике есть что-то величавое и в то же время непосредственное. С детства она запомнилась мне своим постоянным, но отдаленным присутствием: похожа на изваяние с неподвижным взором, красива недоступной, древнеримской красотой – точно мраморная статуя в дальнем конце лужайки. С возрастом, правда, она потолстела: ноги оставались стройными, а вот бедра раздались – несоответствие, которое, в бытность мою подростком, болезненно интересующимся подобными вещами, наводило на мысль о том, какая же требуется сложная архитектура, чтобы такие красивые коленки переходили под юбкой в такую бесформенную талию. «Привет, мать», – сказал я и отвернулся, ища глазами что-нибудь постороннее. Я уже злился. Она всегда оказывала на меня подобное действие: стоило мне подойти к ней, как во мне просыпались раздражение и злоба. Я был удивлен. Я-то думал, что после десяти лет разлуки между нашей встречей и первым приступом сыновней изжоги пройдет хотя бы минута, так нет же: стиснув челюсти, я скосил злобный взгляд на пучок сорной травы, пробивавшейся из трещины в каменных ступеньках, на которых она стояла. Если она и изменилась, то незначительно: грудь, которую иначе как пышной не назовешь, теперь опала и покоилась аккурат на диафрагме; под носом пробивались едва заметные усики. На ней были мешковатые вельветовые брюки и длинная шерстяная кофта с отвисшими карманами. Она спустилась по ступенькам мне навстречу и вновь засмеялась. «Ты растолстел, Фредди, – сказала она, – у тебя появилось брюшко». И с этими словами она – вы не поверите! – двумя пальцами, большим и указательным, игриво оттянула мне кожу на животе. Эта женщина, эта женщина… что тут сказать? Меня, тридцативосьмилетнего джентльмена с неотразимым средиземноморским загаром, крупного ученого, мужа и отца, человека солидного и, судя по выражению лица, едва ли доброго, она – вы только представьте! – ущипнула за живот, да еще разразилась при этом хриплым смехом. Согласитесь, ничего удивительного, что сынок в конце концов угодил в тюрьму! Собака, почуяв, что хозяйка против меня ничего не имеет, робко подошла и попыталась лизнуть мне руку, чем я и воспользовался, сильно ударив ее ногой под ребра. От этого мне полегчало, но ненамного и ненадолго.
Есть ли на свете что-то, что воскрешало бы прожитое с такой силой и пронзительностью, как запах дома, в котором прошло детство? Я стараюсь, на что суд наверняка обратил уже внимание, избегать обобщений, но ведь всех нас без исключения охватывает непроизвольная судорога узнавания при первом же дуновении этого едва заметного, ничем не примечательного, простоватого запаха, который и запахом-то не назовешь, скорее эманацией, чем-то вроде вздоха, издаваемого тысячью известных, но невостребованных вещиц, которые в сумме своей и составляют то, что называется домом. Я вошел в прихожую и на мгновение испытал такое чувство, будто беззвучно переместился во времени. Я замер на месте и внутренне содрогнулся. Вешалка со сломанным зонтиком, на каменном полу по-прежнему отстает одна плитка. «Отвяжись, Пятнистый, черт бы тебя побрал!» – раздался за моей спиной голос матери, и собака взвизгнула. По какой-то необъяснимой причине я ощутил вкус яблок, и мне смутно почудилось, будто произошло что-то очень важное, будто все вокруг меня, словно по мановению волшебной палочки, разом исчезло и тут же, в одно мгновение, сменилось своей точной копией, точной до мельчайших, микроскопических подробностей. Я сделал шаг1 вперед, в этот подмененный мир, с бесстрастным, как положено в таких случаях, выражением лица, и мне показалось, что я слышу прерывистый облегченный вздох: удался сложный трюк и на сей раз.
Мы вошли в кухню, у которой был вид пещеры, где обитало какое-то громадное дурно пахнущее чудовище. «Господи, мать, – сказал я, – ты что, живешь здесь?» В кухонном шкафу посуда была свалена вперемешку с предметами женского туалета, какими-то запиханными по углам старушечьими обносками. Из-под буфета торчали три-четыре пары обуви, и казалось, будто их обладатели лежат на полу, тесно прижавшись друг к другу, – притаились и слушают. Здесь собралась мебель со всего дома: узкий, изящный секретер из отцовского кабинета, горка орехового дерева из гостиной, обтянутое бархатом кресло с откидной спинкой и полысевшими подлокотниками, в котором когда-то погожим воскресным днем, не издав ни единого звука, умерла моя двоюродная бабушка Алиса, крошечная мерзкая старушонка. Огромный допотопный радиоприемник, некогда главная достопримечательность холла, теперь, весь скособоченный, притулился на сушилке и что-то тихо мурлыкал себе под нос, подмигивая зеленым глазом. Чистой кухню нельзя было назвать, при всем желании. На столе лежала открытая амбарная книга, а рядом, среди тарелок с объедками и немытых чашек, валялись счета и квитанции. В этот день, по-видимому, мать занималась делами. У меня мелькнула было мысль сразу же изложить ей причину– корыстную – своего приезда, но, подумав с минуту, я от этой идеи отказался. Она же, словно сообразив, что у меня на уме, с улыбкой перевела взгляд с меня на разбросанные по столу бумаги и обратно. Я отвернулсяи посмотрел в окно. За домом какая-то приземистая девица в бриджах прогуливала нескольких коннемарских пони, и тут я припомнил, что в одном из своих редких и не вполне грамотных писем мать между делом сообщала мне о какой-то авантюре, связанной с лошадьми. Она тоже подошла к окну, и некоторое время мы вместе смотрели на понуро бредших по кругу лошадей. «Вот уроды, правда?» – весело сказала она, прервав молчание. К раздражению, которое я испытал по приезде, прибавилось теперь и ощущение бесполезности, тщетности всего происходящего. Ощущение это, впрочем, всегда было мне свойственно. Значение подобного состояния (а может, и побудительной силы) историки и философы, думается, недооценивают. Кажется, я сделал бы все, чтоб только избавиться от него, – все что угодно. Мать тем временем рассказывала мне о своих клиентах, в основном японцах и немцах. «Купили всю страну с потрохами, Фредди, уж ты мне поверь», – говорила она. Пони они приобретали для своего избалованного потомства и платили за них, о чем мать доверительно сообщила, расплывшись в счастливой улыбке, сумасшедшие деньги. «Психи, чего с них взять», – заключила она. Мы засмеялись, а потом опять погрузились в рассеянное молчание. Солнце падало теперь на лужайку, а огромное белое облако медленно раскрывалось над изнемогающими от жары буками. Я стоял и думал о том, как глупо хмуриться в такой день. Стоял измученный, раздраженный, руки в карманах, и где-то глубоко внутри капля за каплей копилась во мне тоска – нечто вроде серебристого ихора(в греческой мифологии жидкость, заменяющая кровь в жилах богов), чистого, прозрачного, невиданно драгоценного. Да, дом – это всегда неожиданность.
Мать настаивала, чтобы я походил по дому, «осмотрелся», как она выразилась. «В конце концов, мой мальчик, – сказала она, – наступит день, когда все это будет твоим». И хмыкнула – гортанно, по-своему. Что-то я не припоминаю, чтобы в прошлом ее так просто было развеселить. В ее смехе было что-то почти развязное, какая-то распущенность. Меня эта развязность несколько выбила из колеи, и я подумал, что мать могла бы вести себя и попристойнее. Она закурила и отправилась показывать мне дом; из ее левой клешни торчали пачка сигарет и коробок спичек, а за спиной, следуя в ее дымном фарватере, маячил я. Дом гнил на глазах. в отдельных местах так сильно и быстро, что даже я был потрясен. Мать говорила не закрывая рта, а я тупо кивал, глядя на сырые стены, на вздувшиеся полы и рассохшиеся оконные рамы. В моей бывшей комнате кровать была сломана, а из матраса что-то росло. Вид из окна – деревья, край покатого поля, красная крыша сарая – был знаком до боли, как галлюцинация. Вот сервант, который я сам соорудил, – и я тут же увидел самого себя, маленького мальчика с деловито нахмуренным лбом, с тупой пилой в руке, склонившегося над листом фанеры, и мое тоскующее сердце дрогнуло, как будто я вспоминал не себя, а своего сына, любимого и незащищенного, навсегда потерянного для меня в моем же собственном прошлом. Когда я обернулся, матери не было. Я обнаружил ее на лестнице с каким-то странным выражением глаз. Увидев меня, она снова заторопилась и сказала, что я обязательно должен увидеть окрестности: конюшню, дубовую рощу. Она преисполнилась решимости показать мне все, все.
Когда я вышел из дому, настроение у меня немного поднялось. Какой же здесь все-таки свежий воздух. Я слишком долго жил под жгучим южным небом. А деревья, могучие деревья, эти терпеливые, стойкие страдальцы, неподвижно застывшие, словно в смущении, и прячущие от нас полный тоски взгляд. Тараща свои безумные глаза и неловко поеживаясь, появился Пятнистый (мне от этой твари, я вижу, ни за что не отделаться) и медленно пересек вслед за нами лужайку. При нашем приближении девушка из конюшни покосилась на нас с таким видом, будто вот-вот пустится наутек. Звали ее то ли Джоан, то ли Джин – не помню. Большая задница, большая грудь – бесспорно, у матери она вызывала родственные чувства. Когда я заговорил с ней, бедняжка побагровела от смущения и нехотя, будто боялась, что я не отпущу, протянула мне маленькую мозолистую ладошку. Я одарил ее своей коронной ленивой улыбочкой и посмотрел на себя ее глазами: высокий загорелый хлыщ в летнем костюме, стою на лужайке, слегка подавшись вперед, и бормочу нечто несуразное. «Цыган! – внезапно крикнула она. – Ну-ка перестань!» Шедшая впереди лошадь, мелкая, низкорослая, со злыми, пытливыми глазами, вдруг подалась вбок и с очень характерным для них тупым, решительным видом двинулась на меня. Чтобы оттолкнуть ее, я положил руку ей на холку и был потрясен жесткостью,материальностью этого животного, его грубой, сухой шкурой, тугой, неподдающейся плотью, теплой кровью. Теперь я казался сам себе уже не загорелым красавчиком, а чем-то бледным, дряблым, податливым. В эту минуту мои пальцы ног, задний проход, влажная промежность вызывали у меня гадливое, тошнотворное чувство. И стыд. Не могу объяснить почему. Вернее, могу, но не хочу. Но тут опять, бросившись под копыта пони, залаяла собака, лошадь захрапела, мотнула мордой и оскалилась. Мать пнула собаку ногой, а девица схватила пони за голову и отвернула ее в сторону. Собака завыла, лошади отпрянули и тревожно заржали. Шум стоял страшный. Все всегда кончается фарсом. И тут только я сообразил, что самое время опохмелиться.
И я опохмелился: сначала выпил джина, потом какого-то пакостного хереса, потом бутылку превосходного бордо из коллекции моего покойного отца – увы, последнюю. Я был уже под сильным градусом, когда спустился в винный погреб за сухим красным вином и присел на край клети, глубоко вдыхая 'затхлый воздух сумрачного погреба и выдыхая пылающими ноздрями пары джина. Низкое, затянутое паутиной окошко у меня над головой пронзил припорошенный пылью луч солнца. В темноте вокруг меня громоздились давно забытые предметы (потрепанная лошадь-качалка, старый велосипед с высокой рамой, связка допотопных теннисных ракеток), их неясные, стершиеся очертания едва проступали во мраке, и казалось, что винный погреб – это своего рода полустанок, где прошлое ненадолго задержалось на пути в небытие. Я засмеялся. «Старый прохиндей!» – произнес я вслух, и от этих слов тишина лопнула, как оконное стекло. В последние месяцы перед смертью он постоянно бывал здесь. Он, который всю жизнь отличался деловитостью, неуемной энергией, стал вдруг бездельником. Обычно мать посылала меня сюда посмотреть, что он делает; «мало ли что с ним может случиться», – уклончиво говорила она мне. Я шел в погреб и неизменно заставал его там; то он, забившись в угол, что-то бесцельно вертел в руках, а то без всякого дела, застыв в неестественной позе, молча пялился в темноту. Когда в такие минуты я обращался к нему, он обычно вздрагивал и сердито, надсадным голосом отчитывал меня, точно его застали за чем-то постыдным. Впрочем, подобные сцены долго не продолжались, проходила минута-другая, и он вновь куда-то пропадал. Казалось даже, что умирает он не потому, что заболел, а потому, что его что-то отвлекло от жизни: будто в один прекрасный день, в разгар кипучей деятельности, что-то завладело его вниманием, поманило из темноты, и, потрясенный, он повернулся и покорно направился на зов – с болезненной, озадаченной, как у лунатика, сосредоточенностью. Сколько же мне тогда было? Двадцать два. Или двадцать три? Длительный процесс умирания в равной мере и утомлял, и злил меня. Понятное дело, я жалел его, но, как мне кажется, жалость для меня – это вообще лишь внешнее, благопристойное проявление тайного желания взять слабого за шиворот и хорошенько встряхнуть. Он осунулся, весь как-то съежился. Вдруг выяснилось, что воротнички сорочек слишком велики для этой вихляющей черепашьей шеи с двумя похожими на плохо натянутые струны арфы морщинами. Все сделалось ему вдруг велико, одежда болталась на нем, как на вешалке. Глаза стали большие и затравленные, уже с поволокой. Тогда тоже было лето. Солнечный свет больше был ему не нужен, и он предпочитал отсиживаться здесь, в мшистой полутьме, среди сгущающихся теней.
Я с трудом встал, сунул под мышку несколько пыльных бутылок и начал подыматься по сырым каменным ступеням.
И все же умер он наверху, в большой передней спальне, самой просторной в доме комнате. Всю ту неделю стояла невыносимая жара. Балконную дверь открыли и выдвинули кровать изножьем на балкон. Он лежал, откинув одеяло и обнажив свою высохшую грудь. Он отдавал себя солнцу, бескрайнему небу, он таял в голубом в золоте летнем свете. Его руки… Его быстрое, учащенное дыхание. Его…
Хватит. Я же говорил о матери.
Я поставил бутылки на стол и только начал стирать с них пыль и паутину, как мать сообщила мне, что больше не пьет. Я удивился: в прежние времена она пила наравне с самыми стойкими мужчинами. Я посмотрел на нее, она пожала плечами и отвернулась. «Врачи запретили», – сказала она. Я присмотрелся. У нее действительно слегка запал левый глаз и немного перекосило рот. Я припомнил, каким странным, неестественным движением она зажала в левой руке сигареты и спички, когда повела меня осматривать дом. Мать вновь пожала плечами. «Небольшой удар, – пояснила она. – В прошлом году». «Небольшой удар» – какое странное выражение,. подумалось мне. Как будто какая-то в целом доброжелательная, но нерасчетливая сила нанесла ей легкий, дружеский удар и, по чистой случайности, причинила боль. Теперь она смотрела на меня искоса, с искательной, по-детски грустной улыбочкой. С такой улыбочкой признаются обычно в каком-нибудь грешке, самом тривиальном, но мешающем жить. «Очень тебе сочувствую, старушка», – сказал я и стал ее уговаривать послать всех врачей к чертовой матери и пропустить стаканчик. Мать молчала; казалось, она не слышит моих слов. И тут произошла поразительная вещь. Эта девица, Джоан или Джин – пойду на компромисс и буду называть ее Джейн, – вдруг вскочила со своего места и, в порыве сострадания, неловким, похожим на борцовский прием движением обняла мать и положила руку ей на лоб. Я ожидал, что мать оттолкнет ее, поставит на место, но нет, она сидела неподвижно, ничего, по-видимому, не имея против того, что эта деревенщина ее ^ обнимает; на лице у нее застыла все та же искательная улыбочка. Я не сводил с нее глаз, держа бутылку навесу, над своим бокалом. Невероятно. Огромное бедро девицы прижималось к плечу матери, и мне тут же вспомнился круп лошади, которая теснила меня на лужайке с таким же точно упрямым, тупым видом. Некоторое время в комнате стояла тишина, но гут толстуха – Джейн, я имею в виду – поймала на себе мой взгляд, побледнела, убрала руку с головы матери и поспешно вернулась на свое место. Возникает вопрос: если человек это больное животное, безумное животное (а у меня есть все основания так думать), то как, спрашивается, объяснить эти едва заметные, непроизвольные жесты доброты и заботы? Не кажется ли вам, милорд, что люди, подобные нам с вами (уж простите, милорд, что я позволил себе к вам приобщиться), что-то упустили, упустили нечто универсальное, некий общий принцип, который так прост, так очевиден, что никому и в голову не приходило рассказать нам о нем. А между тем все они, эти люди, знают, о чем идет речь, и знание это, мой ученый друг, является эмблемой их братства. Их тысячи и тысячи – молчаливых, печальных, посвященных в тайну людей. Они смотрят на нас из зала суда и ничего не говорят, только едва заметно улыбаются, и в их улыбке, как и в улыбке матери, сквозят сострадание и мягкая ирония. Мать подалась вперед, погладила девицу по руке и сказала, чтобы та не обращала на меня внимания. Я не верил своим глазам. Что ж я такого сделал? Девушка сидела, вперившись в тарелку, и шарила по столу в поисках ножа и вилки. Щеки ее горели; казалось, слышно было, как они потрескивают на огне. И все оттого, что я так посмотрел на нее? Бедный ты бедный великан-людоед. Я вздохнул и отправил в рот картофелину. Безвкусную, недоваренную. Как бумага. Надо бы еще выпить.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!