Текст книги "Мой дальний родственник"
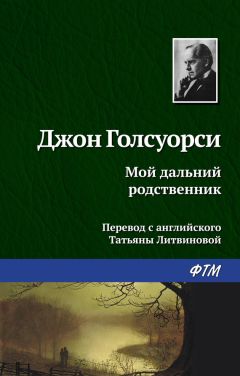
Автор книги: Джон Голсуорси
Жанр: Литература 20 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Джон Голсуорси
Мой дальний родственник
Я не видел своего дальнего родственника много лет, собственно, с тех самых пор, как провалилась его затея на острове Ванкувер, и, однако, я его тотчас узнал, когда, склонив голову набок и высоко, словно для благословения, подняв руку с чашкой, он крикнул мне через весь курительный зал нашего клуба:
– И вы здесь?
Худой, как щепка, и такой же легкий, высокий, прямой, с бледным лицом, светлыми глазами и светлой бородой, он походил на бесплотную тень. Такое впечатление он производил и прежде. Когда он открывал рот и говорил что-нибудь своим тонким, немного гнусавым, подчеркнуто бесстрастным голосом резонера, казалось, что из его бледных уст вылетает бледное облачко оптимизма. Костюм его тоже не утратил своей поразительно бесцветной элегантности и по-прежнему храбро смотрел в лицо дневному свету.
– Что вы делаете в городе? – спросил я. – Я думал, что вы в Йоркшире, у тетушки.
На его круглые светлые глаза, устремленные в какую-то точку за окном, быстро, два раза кряду опустились веки – так подергиваются пленкой глаза у попугая.
– Мне обещано место, – сказал он, – и надо быть здесь.
Мне вдруг показалось, будто я уже прежде когда то слышал от него эти самые слова.
– Понимаю, – сказал я, – и что же, вы надеетесь, что вам посчастливится?
Мне тут же стало совестно за свой вопрос. Я вспомнил, сколько раз он в свое время так вот охотился за какой-нибудь должностью и как часто, едва успев добиться ее, снова оставался без работы.
– Да, конечно, – ответил он. – Они непременно должны предоставить мне это место. – И тут же, неожиданно прибавил: – Впрочем, кто их знает! Люди иной раз оказываются такими чудаками!
Скрестив свои тонкие ноги, он с поразительным бесстрастием принялся рассказывать о тех многочисленных случаях, когда люди оказывались чудаками и не давали ему работы.
– Видите ли, – сказал он в заключение. – Страна наша дошла до такого состояния… ведь каждый день из нее вывозят капитал… Предприимчивость убивается на каждом шагу. Рассчитывать-то, собственно, не на что.
– Вот как! – сказал я. – По-вашему, выходит, что стало хуже, чем прежде?
Он улыбнулся с оттенком снисхождения.
– Мы катимся вниз по наклонной плоскости с ужасающей быстротой. Английский национальный характер утратил всю свою твердость. И неудивительно, – ведь как у нас стали нянчиться с народом!
– Ну уж и нянчиться, – пробормотал я. – Мне кажется, вы преувеличиваете.
– Да вы присмотритесь: все только для них и делается! От былой их независимости не осталось и тени! Рабочий люд теряет чувство собственного достоинства с поразительной быстротой!
– Вы так полагаете?
– Уверен в этом! Да вот, к примеру…
И он принялся перечислять явные признаки вырождения, которые подметил в работниках его тетки и братьев, Клода и Алана.
– Они никогда ничего не делают сверх того, что с них требуется, сказал он в заключение. – Ведь они знают, что у них за спиной их союзы, пенсии и эта самая, понимаете ли, страховка…
Чувствовалось, что вопрос этот его глубоко волнует.
– Да, – повторил он, – народ разложился.
Я был изумлен тем, что общегосударственные дела волнуют его гораздо больше, чем его собственные. Голос его стал звучен, во взгляде появилось воодушевление. Он с живостью наклонился ко мне, и его длинная, прямая спина показалась мне еще длиннее и прямее. Он уже не казался больше тенью человека. Легкий румянец проступил на его бледном лице, и он энергично жестикулировал своими холеными руками.
– Да, да, – сказал он. – Страна катится в пропасть, это факт; а они не хотят этого понять и продолжают вовсю подтачивать дух независимости в народе. Если в работника вселяют уверенность, что кто-то его обеспечит, как бы он ни работал, все равно, – то, скажите на милость, что останется от его энергии, дальновидности и упорства?
Он говорил, все более возвышая голос, и к его изысканному выговору человека «из общества» примешивалась пикантная гнусавость, которой, насколько я помню, он был обязан тому, что ему в свое время не удалили аденоиды.
– Помяните мое слово, – продолжал он. – Пока мы не изменим своей линии поведения, мы не добьемся ничего. Мы пренебрегаем законом эволюции. Говорят, будто Дарвин устарел. А я скажу, что для меня он еще годится. Конкуренция вот единственный двигатель прогресса!
– Да, но конкуренция – очень жестокая вещь, – возразил я. – Не всякий в состоянии ее выдержать. – Тут я посмотрел на него в упор. – Неужели вы против оказания помощи тем, кому эта конкуренция не под силу?
– Эх, – сказал он и, как бы щадя мою наивность, понизил голос. – Тут дело коварное: только начни – конца не будет! Чем больше им дают, тем больше они требуют. А между тем они из-за этого теряют свой запал. Я довольно много об этом думал. Близорукая политика. Нет, нет, никуда это не годится!
– Но не хотите же вы, чтобы люди погибали от преждевременной дряхлости, от случайной болезни, от превратностей торговли и промышленности? – возразил я.
– Нет, зачем же, – сказал он, – я вовсе не против благотворительности. Тетя Эмма у нас по этой части молодчина. Клод тоже. Да я и сам стараюсь вносить свою лепту.
Странное, чуть ли не виноватое выражение мелькнуло в его взгляде, и я вдруг почувствовал к нему прилив симпатии: «А он, собственно, славный малый», – подумал я.
– Я только лишь хочу сказать, – продолжал он, – что считаю порочным самый принцип, когда люди приучаются рассчитывать на какие-то блага, которые сваливаются на них независимо от их собственных усилий. – Тут он повысил голос, и взгляд его снова стал неподвижным. – Я убежден, что вся эта помощь, вся эта возня со слабыми – вредный и ненужный вздор. Самая элементарная логика говорит нам об этом.
В своем негодовании на «порочный принцип» он даже вскочил и, казалось, позабыл о моем присутствии. Он стоял у самого окна, и резкий, безжалостный свет подчеркивал все убожество этой бесцветной фигуры, его бледного, длинного, узкого лица, вялость его холеных белых рук, – все, что делало его не человеком, а тенью человека. Зато его гнусавый, не допускавший возражений голос забирал все выше и выше.
– Нет, тут нужна решимость! Надо раз навсегда прекратить все виды государственной помощи; надо приучить людей рассчитывать на самих себя. А этак мы только разведем паразитизм в народе.
Я вдруг испугался, как бы не лопнула одна из голубых жилок, пересекающих его белый лоб, – уж очень он разгорячился! – и поспешил переменить тему разговора.
– Как вам нравится в деревне, у тетушки? – спросил я. – Не скучаете?
Он встрепенулся, словно я внезапно разбудил его своим вопросом.
– О! Так ведь это только временно, – ответил он, – пока не получу место, о котором вам говорил.
– Постойте… Сколько же лет прошло с тех пор, как?..
– Четыре года. Тетушка, разумеется, очень рада, что я живу у нее…
– Ну, а как ваш брат, Клод?
– Да он ничего, спасибо. Хлопоты, конечно, одолевают. Папаша, как вы знаете, оставил имение в довольно запущенном состоянии.
– Да, да, конечно. А чем еще он занимается?
– Он-то? Да в приходе всегда, знаете, дела найдутся.
– А как поживает Ричард?
– Ничего. Как раз вернулся в этом году. Кое-как сводит концы с концами благодаря пенсии. Накопить-то он, конечно, ничего не сумел.
– А Вилли? Прихварывает по-прежнему?
– Да.
– Бедняга!
– Ну, у него нетрудная работа. И даже, если здоровье вдруг откажет, приятели по колледжу – у него их много – подыщут ему синекуру. Его все любят, старину Вилли!
– А что Алан? Я о нем не слышал с тех пор, как лопнуло их предприятие в Перу. Говорят, он женился?
– Как же! На одной из дочерей Берли. Хорошая девушка и богатая наследница. У них много земли в Хемпшире. Все хлопоты по имению теперь на Алане.
– И, верно, у него уже ни на что другое времени не остается?
– Отчего же? Возится со своими коллекциями, как и прежде.
Больше расспрашивать было не о ком.
Но тут он, должно быть, решил, что сведения о процветании его родственников, которые я у него выудил, некоторым образом умаляют его собственные достижения, и разразился следующей тирадой:
– Если бы тогда, когда я разводил фруктовый сад, туда подвели железную дорогу, как это было задумано, мои дела сейчас были бы совсем неплохи.
– Конечно, – согласился я. – Вам просто не повезло. Ну, да вы скоро получите место, а покуда можете спокойно жить себе у тетушки.
– Конечно, – буркнул он в ответ.
Я поднялся.
– Что ж, – сказал я, прощаясь. – Очень приятно было узнать, как вы все живете.
Он проводил меня до дверей.
– Рад, рад, старина, – сказал он, – мы славно поболтали. А то я было приуныл. Не особенно весело сидеть да гадать: примут или не примут?
Он вышел со мной на крыльцо, затем на улицу. Возле дверцы ожидавшего меня кэба стоял какой-то бродяга, высокий оборванец, с бледным лицом и бесцветной бородой. Мой дальний родственник оттеснил его в сторону и, когда я уже сел в карету, сунул голову в окошко и шепнул:
– Ужас, сколько нынче развелось этих бездельников!
Я не мог удержаться и пристально, в упор, посмотрел на него. Однако на его лице я не заметил и тени смущения: ничего-то он не понял!
– Ну что ж, до свидания! – крикнул он. – Вы меня очень поддержали, спасибо!
Карета тронулась. Я оглянулся. Я видел, что между моим дальним родственником и бродягой происходил какой-то разговор, блеснула монета, но из-за своей близорукости не мог разобрать, кто кому дает деньги, – оба были издали похожи, высокие, светлые, бородатые. И вдруг по какому-то капризу воображения я представил себе страшную картину: будто все мы – я, мой дальний родственник и его братья – Клод, Ричард, Вилли и Алан – брошены на произвол судьбы. Я даже платок вынул, чтобы отереть им лоб! Но тут меня поразила другая мысль, и я спрятал платок в карман. Возможно ли, чтобы я и мои дальние родственники, и дальние родственники моих дальних родственников, и так далее до бесконечности, чтобы мы, родившиеся с готовым общественным положением, мы, которых провидение возвысило над прочей частью человечества, даровав наследственный капитал и доходы с него, предоставив образование, которое дает возможность избрать то или иное привилегированное занятие, поселив нас в надежных домах, снабдив нас надежными родственниками, возможно ли, чтобы кто-либо из нас когда-либо очутился в таком положении, при котором его благополучие зависело бы исключительно от его собственных усилий? Я размышлял над этим вопросом несколько минут, и в конце концов пришел к выводу, что это невозможно, разве что мы совершим преступление или нас чудом забросит на необитаемый остров. Как бы мы ни старались, никогда, ни при каких обстоятельствах ни один из нас не мог бы очутиться на месте тех, кому мой дальний родственник с таким жаром пророчил неминуемую пауперизацию. Для нас этот процесс начался уже давно. Того из нас, кто находится на государственной службе, ожидает пенсия. Тот, кто унаследовал земельную собственность, знает, что никто ее у него отнять не может. Кто принимает священный сан – пусть у него даже и нет никакого призвания к этому, – может рассчитывать на свою должность пожизненно. А кто избирает себе более рискованное поприще – адвоката, врача, художника или дельца-предпринимателя, – уверен, что на худой конец в случае неудачи ему все же найдется место где-нибудь в теплом гнездышке у близких, у друзей. Нет, нет! Так быть не может, чтобы мы вдруг очутились без всякой поддержки! Пауперизация нам не грозит: для нас она уже наступила!
Я внезапно прозрел: так вот отчего так горячился мой дальний родственник! Ну, конечно же, он потому и принимает все это так близко к сердцу, что лучше кого бы то ни было сознает, как тяжело было бы этим беднягам из рабочего сословия, если бы закон поставил их в то унизительное положение, в котором пребываем мы, в то ужасное положение, когда человек чувствует, что ему есть на что опереться и что он может рассчитывать на какие-то средства, не являющиеся прямым вознаграждением за его труды. Теперь мне было ясно все. Тайная гордость гложет его – оттого-то он и приходит в такую ярость всякий раз, как разговор коснется этой темы. Конечно же, он дни и ночи напролет мечтает о том, как было бы хорошо, если б отец его не имел земельных угодий, если б тетушка не получила в свое время наследства, которое позволяло ей предложить ему кров, пищу и возможность спокойно ожидать, когда подвернется подходящее место. Он, вероятно, глубоко чувствует всю унизительность положения своих братьев – Клода, которому достались земли отца; Ричарда, обеспеченного пенсией до конца своих дней за то лишь, что он прослужил определенное количество лет на государственной службе в Индии; болезненного Вилли, которому, как только его покинут силы, дружки по колледжу подыщут синекуру; Алана, который благодаря своему обаянию хорошо воспитанного человека завоевал руку и сердце богатой наследницы и теперь управляет ее имениями.
Всех-то их безжалостное провидение лишило энергии, дальновидности и упорства! Так вот что тайно мучит его, вот рана, которую воспитание не позволяет ему обнажать перед людьми! Теперь, когда я понял, какие он претерпевает муки, я исполнился к нему живейшего участия. Я понял, что честь обязывает его всеми силами противиться тому, чтобы другие оказались в его плачевном положении. Вместе с тем я должен был признаться себе, что сам я сейчас никоим образом не разделял гордых чувств своего дальнего родственника и не замечал, чтобы мое положение имело на меня тлетворное влияние. Я даже испытывал смутное чувство благодарности при мысли, что если к тому времени, как силы меня покинут, я не успею ничего скопить, я все же не буду брошен на произвол судьбы и что на старости лет мне не грозит унылая нищета. Должно быть, по малодушию, я не без удовлетворения думал о том, что в наше время кое-какая относительная обеспеченность впервые стала уделом людей, принадлежащих к низшим классам общества. Вместе с тем я понимал, что человеку более сильному и гордому духом, должно быть, в самом деле нелегко мириться с сознанием своей обеспеченности и еще тяжелее видеть, как эта обеспеченность, ведущая к неминуемому паразитизму, надвигается все ближе и ближе на других; ведь благородные души чужую беду чувствуют острее, нежели свою собственную. Несомненно, думал я, мой дальний родственник сгорает от желания поменяться местами с этим бродягой, который открывал мне дверцу кареты; несомненно, он не хуже меня понимает, что он сам, сброшенный со счетов царящей в мире конкуренцией, был бы вынужден так вот открывать дверцы карет, если б не то грустное обстоятельство, что благодаря своему происхождению он никогда не докатится до этого!
«Да, – сказал я себе, – сегодняшний день научил тебя кое-чему. Теперь ты видишь, что нельзя опрометчиво, не разобравшись, осуждать дальних родственников, разглагольствующих о пауперизации и о том, что мы слишком нянчимся с низшими классами! Нет, нет, тут нужно смотреть глубже! Надо быть снисходительней и шире!»
С этим я остановил кэб и вышел. Мне не хватало воздуха.









































