Текст книги "Чайльд Гарольд"
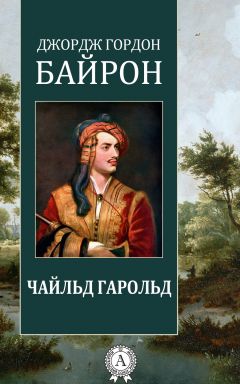
Автор книги: Джордж Байрон
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
ИНЕСЕ[64]64
Эти стансы, которыми заменены первоначально написанные стансы «К девушке из Кадикса» помечены 25 января 1810 г. В этот день Байрон и Гобгоуз посетили Марафон. Стихи относятся, по всей вероятности, к «афинской деве» Терезе Макри, или к какой-нибудь случайной возлюбленной, но не к «Флоренсе» (г-жа Спенсер Смит). которой Байрон незадолго перед тем (16 января) «дал отставку в стихотворениях «Волшебство исчезло» (см. дальше стр. 185). Неделю спустя (10 февр.) Гобгоуз в сопровождении албанца Василия и афинянина Димитрия уехал на Негропонт, а Байрон был неожиданно чем-то задержан в Афинах.
[Закрыть]
1.
Полны тоски мои мечты;
Мне не дари улыбки страстной;
Дай Бог, чтоб слез не знала ты,
Чтоб ты не плакала напрасно.
2.
Немая скорбь, во цвете лет,
На век мое сгубила счастье;
Увы! помочь мне средства нет;
Бессильно и твое участье.
3.
Поверь, не ненависть, не страсть,
Не честолюбья злое жало
Меня заставили проклясть
Все то, что встарь меня пленяло.
4.
Я пресыщенья яд вкусил;
Всегда я полон дум унылых;
Мне красоты рассвет не мил;
Меня пленить и ты не в силах.
5.
Страдаю я, как вечный жид,
Что несся в даль, тоской убитый;
Мне только смерть покой сулит,
Ее ж от смертных тайны скрыты…
6.
7.
Меж тем других проходят дни
В веселье; счастье – сновиденье;
Пусть не изведают они,
Как я, весь ужас пробужденья.
8.
Не мало я изъездил свет,
Но мне забвения он не дал;
Я не страшуся новых бед, —
Уж я все худшее изведал.
9.
Оставь меня! Не узнавай,
Какая скорбь мне душу точит;
Нет, с сердца маски не срывай, —
Под нею целый ад клокочет!
LXXXV.
Прости, прелестный Кадикс! Долго стены[66]66
«Намек на поведение и смерть Солано, губернатора Кадикса, в мае 1808 г.». (Прим. Байрона).
Маркиз Солано, главнокомандующий войсками в Кадиксе, был убит народом. Севильская «Верховная Хунта» приказала ему аттаковать францусский флот, стоявший на якоре у Кадикса, и английский адмирал Первис, по соглашению с генералом Спенсером, предлагал ему свое содействие; но Солано не желал получать приказания от «самовольно водворившейся власти» и опасался вовлечь свою родину в войну с державой, сила которой ему была известна лучше, чем характер его соотечественников» (Нэпир).
Кадикс был отнят у мавров Алонсо эль-Савио, в 1262 году. В январе-феврале 1810 г. он чуть не попал в осаду. В 1812 г., 16 мая, Сульт начал «серьезную бомбардировку» города; но через три месяца, 24 августа, осаде была снята.
[Закрыть]
Ты защищал свои, и горд и смел;
Хоть вкруг тебя дышало все изменой,
Свои права ты отстоять сумел.
Геройский город – первым ты свободу
Стяжал, последним пав! Ты умертвил
Вождя, что изменить хотел народу.
Тогда как чернь дралась, – врагу в угоду
Оружье клала знать, лишась от страха сил.
LXXXVI.
Не странно ль, что за чуждую им волю
Испанцы умирают, что за трон
Без короля им выпало на долю
Сражаться,[67]67
Карл IV отрекся от престола 19 марта 1808 г., в пользу своего сына, Фердинанда VII; в следующем же мае Карл снова отрекся от престола за себя лично, а Фердинад – за себя и своих наследников, – в пользу Наполеона. С тех пор Карл находился в изгнании, а Фердинанд, – в плену в Валансэ, и Испания, с точки зрения Бурбонской династии, оставалась «без короля» до тех пор, пока Фердинанд по политическим соображениям, не был освобожден. Он воцарился снова 22 марта 1814. г.
[Закрыть] хоть давно расшатан он?
Стране, что только жизнь им даровала.
Они верны. В вельможе дышит страх,
Но не смутил дурной пример вассала:
Ему путь к воле гордость указала,
И будет драться он хотя бы на ножах.[68]68
«Война до ножей!» – ответ Палафокса францусскому генералу при осаде Сарогоссы». (Прим. Байрона).
Во время первой осады Сарогоссы, в августе 1S0S г., маршал Лефевр потребовал у Палафокса сдачи крепости. Ответ был: «Guerra al euchillo!» (Война до ножей!). Позднее, в декабре того же года, когда Мовсэ снова потребовал сдачи, Палафокс обратился к жителям Мадрида с прокламацией, в которой говорил, что осаждающия его собаки не дают ему времени вычистить меч от их крови, но все же найдут себе в Сарогоссе могилу. Соути замечает, что прокламации Палафокса сочинялись в приподнятом тоне, отчасти под влиянием испанских народных романсов, и отвечали характеру тех, к кому он обращался. С своей стороны, Нэпир объясняет снятие осады дурной дисциплиной французов и системой террора, усвоенной испанскими вождями. Вдохновителями прокламаций о «войне до ножей» были, по его словам, Хорье Иборт и Тио Мурин, а вовсе не Палафокс, который ничего не смыслил в военном деле и в большинстве случаев заботился прежде всего о собственной безопасности.
[Закрыть]
LXXXVII.
Кто хочет изучить испанцев нравы,
Пусть тот их войн историю прочтет;
Чтоб мстить врагу кровавою расправой,
Они пускали даже пытки в ход…
Вооружась ножом иль ятаганом,
Чтоб жен спасать, сестер и дочерей,
Они боролись на смерть с вражьим станом;
Струилась кровь врагов ручьем багряным; —
Так следует встречать непрошенных гостей.
LXXXVIII.
Ужель печальных жертв борьбы тяжелой[69]69
Строфы LXXXVIII – ХСIII, в которых Байрон вспоминает о сражениях при Бароссе (5 марта 1811 г.) и Альбуэре (16 мая 1811 г.) и о смерти своего школьного товарища Уингфильда (14 мая 1811 г.), были написаны в Ньюстиде, в августе 1811 г., взамен четырех выпущенных строф.
[Закрыть]
Слезой мы не почтим? Разорены
Нещадною войной поля и села
И кровью руки жен обагрены.
Пускай лежат, где пали, жертвы злости,
Кормя голодных псов и хищных птиц;
Им лучше там лежать, чем на погосте:
Глядя на их белеющие кости,
Пред храбростью отцов склонятся дети ниц.
LXXXIX.
Нельзя конца предвидеть обороны;
В Испанию, спустившись с Пиреней,
Все новые несутся легионы…
Не сводит мир в цепях с нее очей:
Коль свергнет рабства гнет она защитой,
Немало стран сроднятся с волей вновь…
Как странно: край, Колумбом встарь открытый,
Те муки, что узнали дети Квиты,[70]70
Франсиско Пизарро (1480–1511) с своими братьями Эрнандо, Хуаном Гонзало и Мартином де-Алькантара, вернувшись в Испанию, снова отплыл в Панаму в 1530 г. Идя к югу от Панамы, он взял остров Пуну, принадлежавший к провинции Ки(ви)то. В 1532 г., близ города Кахамарки, в Пене, он разбил и изменнически захватил в плен короля Кито, Атуахальпу, младшего брата последнего инки Хуаскара. Слабость Испании во время наполеоновских войн послужила для ее колоний благоприятным поводом к восстанию. В августе 1810 г. вспыхнула революция в Квито, столице Экуадора, в том же году Мексика и Ла-Плата начали свою борьбу за независимость.
[Закрыть]
Врачует счастием, отчизны ж льется кровь!
XC.
Вся кровь, что пролилася в Талавере,
Прославивший войска Баросский бой,
Блестящий ряд атак при Албуэре —
Испании свободу и покой
Не даровали. Тяжкие невзгоды
Простятся ль скоро с нею? Хищный галл
В своих когтях ее продержит годы.
Когда ж, средь мира, дерево свободы
Появится в краю, что воли не знавал?[71]71
Во время американской войны за независимость (1775—83) и позднее, во время францусской революции, возник обычай сажать деревья, как «символы растущей свободы». Во Франции эти деревья украшались «шапками свободы» (фригийскими колпаками). В Испании таких деревьев иногда не сажали.
[Закрыть]
ХСІ.
Погиб и ты, мой друг![72]72
«Джон Уингфильд, офицер гвардии, умерший от лихорадки в Коимбре (14 мая 1811 г.). Я знал его десять лет, в лучшую пору его жизни и в наиболее счастливое для меня время. В короткий промежуток одного только месяца я лишился той, которая дала мне жизнь, и большинства людей, которые делали эту жизнь сносною. Для меня – не вымысел эти стихи Юнга:
О, старец ненасытный! Иль мало одной тебе жертвы? Трижды пустил ты стрелу – и трижды убил мою радость Прежде, чем трижды луна свой рог наполнить успела! (Ночи, жалоба; ночь I).
«Мне следовало бы также посвятить хоть один стих памяти покойного Чарльза Скиннера Мэтьюза, члена Даунинг-Колледжа, если бы этот человек не стоял гораздо выше всяких моих похвал. Его умственные силы, обнаружившияся в получении высших отличий в ряду наиболее способных кандидатов Кембриджа, достаточно упрочили его репутацию в том кругу, в котором она была приобретена; а его приятные личные качества живут в памяти друзей, которые так его любили, что не могли завидовать его превосходству». (Прим. Байрона).
Уингфильду Байрон посвятил несколько строк в одном из своих школьных стихотворений, под заглавием: «Детския воспоминания». Мэтьюз, самый любимый из школьных друзей поэта, утонул, купаясь в реке, 2 августа 1811 г. Следующия строки из письма Байрона из Ньюстэда к своему другу Скрону Дэвису, написанные непосредственно вслед за этим событием, отражают в себе сильное впечатление утраты:
«Милейший Дэвис, какое-то проклятие тяготеет надо мной и над близкими ко мне людьми. В моем доме лежит мертвое тело моей матери; один из лучших моих друзей утонул в канаве. Что мне говорить, что думать, что делать? Третьяго дня я получил от него письмо. Дорогой Скроп, если можешь урвать минутку, приезжай ко мне: мне нужен друг. Последнее письмо Метьюза написано в пятницу, – а в субботу его уже не стало. Кто мог равняться с Мэтьюзом по способностям? Как все мы ему уступали! Правду ты говорил, что мне следовало рисковать моим жалким существованием ради сохранения его жизни. Сегодня вечером я собирался написать ему, пригласить его к себе, как приглашаю тебя, любезный друг. Как чувствует себя наш бедный Гобгоуз? Его письма наполнены только Мэтьюзом. Приезжай же ко мне, Скроп, – я почти в отчаянии, ведь я остался почти один на свете!» (7 августа).
Примечание Байрона к строфе ХСІ вызвало возражение со стороны Далласа: «Меня поразило», писал он, «что похвала Мэтьюзу сделана отчасти на счет Уингфильда и других, о ком вы вспоминали. Мне казалось бы совершенно достаточным сказать, что его умственные силы и способности были выше всякой похвалы, не подчеркивая того, что оне были выше способностей Музы, громко восхваляющей остальных». Байрон отвечал (27 авг. 1811 г.): «В своем примечании о покойном Чарльзе Мэтьюзе я говорил так искренно и чувствую себя до такой степени неспособным воздать должное его талантам, что это примечание должно быть сохранено в силу тех самых доводов, которые вы приводите против него. В сравнении с этим человеком все люди, которых я когда-либо знал, были пигмеями. Это был умственный гигант. Правда, Уингфильда я любил больше: это был самый старый и самый милый мой друг, один из немногих, в любви к которым никогда не раскаешься; но что касается способностей, – ах! Вы знали Мэтьюза!» В другом письме к тому же лицу (7 сент. 1811 г.) Байрон снова вспоминает о своих умерших друзьях: «В лице Мэтьюза я лишился вождя, философа и друга; в лице Уингфильда только друга, но такого, которому я хотел бы предшествовать в его последнем странствовании. Мэтьюз был действительно необыкновенный человек… На всем, что он говорил и делал, лежала печать бессмертия…»
[Закрыть] Объят тоскою,
Под рокот струн я слезы лью, скорбя;
Когда б в бою ты пал, гордясь тобою,
Не смела б и приязнь жалеть тебя;
Но ты почил бесславно, храбрый воин!
Ты пал, забытый всеми, лишь не мной:
Лаврового венка ты был достоин.
За что же твой конец был так сложен.
Судьбой безжалостно развенчанный герой?
XCII.
Друг детства дней, всех больше мной любимый,
Во сне ко мне являйся! Я зову
Тебя, тяжелой горестью томимый;
Довольно слез пролью я наяву…
Мечтой к твоей могиле одинокой
Всегда, везде стремиться буду я,
Пока того, кто кончил жизнь до срока,
И друга, что скорбел о нем глубоко,
Не сблизит навсегда покой небытия.
ХСІІІ.
Здесь песнь кончаю я, но еще много
Вам сцен и описаний дать готов,
Коль критик, относясь к поэме строго,
Не разгромит написанных мной строф.
Героя своего не оставляя,
О Греции я поведу рассказ
И дней коснусь, когда, оков не зная,
Она цвела, искусство прославляя,
Под игом варваров бесславно не томясь.
ПЕСНЬ ВТОРАЯ
I.
Хоть не бывал поэт тебе послушен,
На зов певца, Минерва, дай ответ!
Здесь храм твой возвышался; он разрушен
Пожарами, войной[73]73
Часть Акрополя была разрушена взрывом порохового склада во время осады Афин венецианцами». (Прим. Байрона).
Венецианцы, в 1687 г., поставили на самом высоком месте Ликаветта четыре мортиры и шесть пушек и начали бомбардировать Акрополь. Одна из бомб разрушила скульптурные украшения западного фасада Парфенона. «В 1667 году», говорит Гобгоуз, «все древности, от которых теперь в Акрополе не осталось и следа, находились еще в достаточно сохранившемся виде. В ту пору этот огромный храм мог еще быть назван целым. Ранее он был христианскою церковью, а затем – прекраснейшей в мире мечетью. В настоящее время от него осталось только 29 дорических колонн, из которых иные уже лишены карнизов, и часть левой стены. Колонны северного фасада, кроме угловых, все разрушены. Остающаяся часть развалин не может не вызывать даже у равнодушного зрителя чувства удивления и уважения; подобные же чувства проявляются при виде огромного количества мраморных обломков, разбросанных на месте храма. Эти обломки скоро будут единственными остатками храма Минервы».
Еще раньше венецианской осады, в 1656 г., часть Пропилеев была разрушена взрывом порохового склада от удара молнии. В 1684 г., когда Афинам грозил венецианский флот, турки снесли храм Победы и выстроили из этого материала бастион.
[Закрыть] и гнетом лет,
Тебя повергших в прах; но хуже брани,
Пожаров и веков рука людей,[74]74
«Мы все можем чувствовать или представить себе сожаление при виде развалил городов, бывших некогда столицами царств; вызываемые подобным зрелищем размышления слишком общеизвестно и не нуждаются в повторении. Но ничтожество человека и суетность наилучших его добродетелей, каковы восторженная любовь к родине и мужество при ея защите, никогда не обнаруживаются с такою очевидностью, как при воспоминании о том, чем были Афины и что представляют оне теперь. Эта арена споров между могущественными партиями, борьбы ораторов, возвышения и низложения тиранов, триумфа и казни полководцев, сделалась теперь местом мелких интриг и постоянных раздоров между спорящими агентами известной части британской знати и дворянства. «Шакалы, совы и змеи в развалинах Вавилона», наверное, менее позорны, чем подобные обитатели. Для турок-завоевателей находится оправдание в их деспотизме, а греки были только жертвою военной неудачи, которая может постигнуть даже самых храбрых; но насколько низко упали сильные люди, если двое живописцев оспаривают друг у друга привилегию грабить Парфенон и торжествуют поочередно, смотря по содержанию следующих друг за другом султанских фирманов! Сулла мог только наказать Афины, Филипп – завоевать их, Ксеркс – предать огню; а жалким антиквариям и их презренным агентам суждено было сделать Афины заслуживающими такого же презрения, как они сами и их искания. Парфенон до его разрушения во время венецианской осады был храмом, церковью, мечетью {Парфенон был обращен в церковь в VI столетии Юстинианом и посвящен Премудрости Божией. Около 1160 г. церковь обращена была в мечеть. После осады 1087 г. турки построили в прежней ограде мечеть меньшего размера.}. В каждой из этих стадий он был предметом уважения; его поклонники менялись, но он не переставал быть местом поклонения; он трижды был посвящен божеству и его осквернение есть тройное святотатство. Но —
…. гордый человек, Облекшись незначительною властью, Так начинает вольничать пред Небом, Что ангелы готовы плакать. Шекспир, Мера за меру, II, 2)».
(Прим. Байрона).
[Закрыть]
Которые не чтут воспоминаний,
Которым дела нет до тех преданий,
Что обессмертили дела минувших дней.
II.
Афины, где эпохи величавой
Герои и вожди? – их больше нет.
Они, покрыв себя бессмертной славой,
Прошли как сон; погиб их даже след.
Деянья их мы изучали в школе,
Твердя о них уроки целый день;
Былых времен следов не видно боле;
Над башнями, что годы побороли,
Величья прошлого витает только тень.
III.
Минутный гость земли! на вид унылый[75]75
В рукописи находится следующее примечание Байрона к этой и пяти дальнейшим строфам, приготовленное для печати, но затем отброшенное – «из опасения», говорит поэт, «как бы оно не показалось скорее нападением на религию, чем ее защитою».
«В нынешний святошеский век, когда пуританин и священник поменялись местами, и злополучному католику приходится нести на себе «грехи отцов» даже в поколениях, далеко выходящих за указанные Писанием пределы, мнения, высказанные в этих строфах, будут, конечно, встречены презрительным осуждением. Но следует иметь в виду, что эти мысли внушены грустным, а не насмешливым скептицизмом; тот, кто видел, как греческие и мусульманские суеверия борются между собою за господство над прежними святилищами многобожия, тот, кто наблюдал собственных фарисеев, благодарящих Бога за то, что они не похожи на мытарей и грешников, и фарисеев испанских, которые ненавидят еретиков, пришедших к ним на помощь в нужде, вот окажется в довольно затруднительном положении и поневоле начнет думать, что так как правым может быть только один из них, то, значит, большинство неправо. Что касается нравственности и влияния религии на человечество, то по всем историческим свидетельствам оказывается, что влияние это выразилось не столько усилением любви к ближнему, сколько распространением сердечной христианской ненависти к сектантам и схизматикам. Турки и квакеры отличаются наибольшею терпимостью: если только «неверный» платит турку дань, – то он может молиться, как, когда и где угодно; мягкие правила и благочестивое поведение квакеров делают их жизнь лучшим комментарием к Нагорной Проповеди».
[Закрыть]
Руин взгляни, щадя следы веков;
Здесь нации исчезнувшей могилы,
Обломки храмов попранных богов.
Религии сменяет дней теченье;
Юпитер пал; явился Магомет;
Меняться будут веры и воззренья,
Пока исчадья смерти и сомненья
Не убедятся в том, что их надежды – бред.
IV.
Они в цепях, а небеса им милы.
Свой крест нести ужель здесь мало вам?
Сладка ль так жизнь, что даже за могилой
Хотите жить, стремяся к небесам?
Зачем вам знать, могил немые плиты
Блаженство или муки вам сулят?
Зачем вам в край стремиться не открытый?
Вы взвесьте прах под плитами зарытый;
Красноречивей он, чем проповедей ряд.
V.
На мавзолей героя бросьте взоры.
На берегу пустынном он почил.[76]76
«Греки не всегда сожигали своих покойников; в частности старший Аякс был похоронен в неприкосновенном виде. Почти все вожди после своей смерти становились божествами, и тот из них находился в пренебрежении, у могилы которого не было ежегодных игр или празднеств, устраиваемых в его честь его соотечественниками. Такие торжества бывали в честь Ахилла, Бразида и др. и, наконец, даже в честь Антиноя, смерть которого была столь же славною, насколько его жизнь была недостойна героя». (Прим. Байрона).
[Закрыть]
К гробнице той, лишившейся опоры,
Народ, стекаясь в горе, слезы лил.
В стране полубогов где ж та дорога,
Что к мавзолею воина ведет?
Вот череп здесь, – как смотрит он убого!
Ужели это храм, достойный бога?
Теперь и жалкий червь в нем больше не живет.
VI.
А, между тем, в нем честолюбье жило;
Он стал пещерой ветхою, но встарь
Он храмом был, где ярко мысль светила,
Где для души воздвигнут был алтарь.
Где впадины зияют, там когда-то
В живых очах несдержанная страсть
Читалась; там была ума палата;
Дать снова жизнь тому, что смертью взято,
Софист иль праведник, имеете ли власть?
VII.
Ты прав, Сократ, сказав: «мы только знаем,
Что смертным недоступен знанья свет!»
Влача земную цепь, мы все страдаем;
Как скрыться нам от неизбежных бед?
Зачем страдать от грез воображенья?
Все лучшее, что рок дает, возьмем,
Нам берег Ахерона даст забвенье.
Там сытый гость под гнетом принужденья
Не явится на пир: покой им куплен сном.
VIII.
Но если бы, наперекор безверью,
Как думают святые, край такой
Нашелся бы, где за могилы дверью
Нас к жизни призывали бы иной,
Там Бога мы б усердно прославляли,
Сродняясь вновь с друзьями, что не раз
Нас утешать старались в дни печали;
Вкушая сладость встреч, что мы не ждали,
И чествуя мужей, добру учивших нас.
IX.
Мой друг! любя расстался ты с землею…[77]77
По мнению Далласа, эта строфа написана была под впечатлением полученного Байроном известия о смерти его кембриджского друга Эддльстона. «Это был», говорит Байрон, «в течение четырех месяцев шестой из числа друзей и родных, утраченных мною с мая по конец августа». Однако же, в письме к Далласу от 14 октября 1811 г., посылая эту строфу, Байрон заметил: «Считаю уместным сказать, что здесь заключается намек на одно событие, случившееся после моего приезда сюда (в Ньюстэд), а не на смерть одного из моих друзей мужского пола». При другом письме к тому же Далласу, от 31 октября 1811, поэт приложил «несколько куплетов» (вероятно – стихотворение «К Тирзе»), помеченных 11-м октября, и прибавил, что «они касаются смерти одной особы, имя которой вам чуждо, а следовательно и не может быт интересно… Они относятся к тому же лицу, о котором я упомянул во II песне и в заключение моей поэмы». Таким образом, по указанию самого Байрона, строфа IX находится в связи с ХСV и ХСVІ, и все эти строфы имеют связь с группою стихотворений, посвященных «Тирзе». Более определенных сведений об этом предмете в литературе не имеется.
[Закрыть]
В том мире смерть соединила б нас!
Когда моя душа полна тобою,
Мне верить ли, что ты навек угас?
В осиротелом сердце образ милый
Носить я буду; светлые мечты
И память о былом дают мне силы
Надеяться на встречу за могилой…
Возликовал бы я, узнав, что счастлив ты.
X.
Здесь, у руин колонны величавой,
Сижу я одиноко. Зевса храм
Когда-то тут стоял в сияньи славы;[78]78
«Храм Юпитера Олимпийского, от которого осталось еще 10 колонн из цельного мрамора. Первоначально этих колонн было 150. Впрочем, некоторые предполагают, что они принадлежали Пантеону. (Прим. Байрона).
Олипмпиэйон или храм Зевса Олимпийского, на юго-восточной стороне Акрополя, на высоте около 500 ярдов от подошвы утеса, на котором он стоял, был начат Лизистратом, а закончен семьсот лет спустя императором Адрианом. Это был один из трех или четырех величайших храмов древнего мира. Самый храм был украшен с боковых сторон двумя рядами колонн, по 20 в каждом, а спереди и сзади – тремя рядами по 8 колонн, так что общее число колонн составляло 104: в 1810 г. оставалось только 16 «высоких коринфских колонн».
[Закрыть]
Но как теперь о нем понятье дам?
Что временем разрушено, то снова
Не воссоздаст мечтою человек.
Лишь камни те хранят следы былого…
Для турка в них нет смысла никакого,
И с пеньем возле них проходит жалкий грек.
XI.
С тех пор, как потеряв свои богатства,[79]79
Строфы XI–XIV направлены против шотландского лорда Эльджина (1701–1841), собирателя древностей увезшего парфенонские и другие мраморы в Англию. Об Эльджине см. в III т. «Проклятие Минервы», где нападки на Эльджина еще яростнее.
Увы, обломки храма с грустью скрытой, Бушуя, волны в даль с собою унесли. «Корабль потерпел крушение в Архипелаге». (Прим. Байрона).
Корабль «Ментор», нанятый Эльджином для доставки в Англию груза, состоявшего из двенадцати ящиков с древностями, разбился у острова Чериго, в 1803 году. Секретарь Эльджина, Гамильтон, с большими усилиями спас 4 ящика; остальные были отысканы только в 1805 году.
[Закрыть]
С Палладой Зевс лишился алтарей,
Кто совершил всех хуже святотатство
В том храме? Каледония, красней!
То был твой сын. Я радуюсь, что бритты
Так поступить позорно не могли.
Свобода от свободных ждет защиты.
Увы! обломки храма с грустью скрытой,
Бушуя, волны в даль с собою унесли!
XII.
Потомок пиктов, ряд свершив насилий,
Разрушил то, что годы сберегли,
Что вандалы[80]80
В подлиннике не «вандалы», а готы:
But most the modern Pict's ignoble boast To rive what Goth, and Turk, and Time has spared. Спутник Байрона Гобгоуз сообщает:
«На оштукатуренной стене капеллы Пандроса, примыкающей к Эрехтейону, были глубоко вырезаны следующие слова:
Quod non feccrunt Gothi Hoc fecerunt Scoti. Шотландцы также находились среди волонтеров, которые вместе с ганноверскими наемниками участвовали в венецианском нашествии на Грецию в 1686 году.
[Закрыть] и турки пощадили…
Тот холоднее гор родной земли,
Бесплоден, как скалистые вершины,
Кто беззащитный трогает народ!
Бороться не могли с врагом Афины…
Прошедших бед им вспомнились годины;
Как показался им ужасен рабства гнет![81]81
«Не могу не воспользоваться позволением моего друга д-ра Кларка, имя которого не нуждается в рекомендации и авторитет которого сделает мое свидетельство в десять раз более веским: приведу из его весьма любезного письма ко мне следующий отрывок, могущий служить объяснением этих строк: «Когда последняя метопа взята была из Партепона и когда, снимая ее, рабочие лорда Эльджина разбили большую часть верхнего строения с одним из триглифов, тогда диздар, увидев разрушение здания, вынул изо рта трубку, залился слезами, и жалобным голосом сказал Лузиери: Τέλος! (конец!). Я сам при этом был». Этот диздар был отцом нынешнего диздара. (Прим. Байрона).
«Диздар – смотритель замка или форта. Это происшествие подробнее рассказано Кларком в его «Путешествиях по разным странам Европы, Азии и Африки» (1810—14, ч. II, стр. 483).
[Закрыть]
XIII.
Британия, ужели ты довольна,
Что плачет грек, который слаб и сир?
В хищениях таких признаться больно.
Ты за себя краснеть заставишь мир!
Владычица морей, страна свободы,
Ножом пронзила ты Эллады грудь…
Ты защищаешь слабые народы,
А забрала, что пощадили годы,
На что и деспоты не смели посягнуть.
XIV.
С Эгидой что ж ты не пришла, Паллада?
Аларих был тобою побежден;
Где ж был Пелея сын? Из бездны ада[82]82
«По словам Зосимы, Минерва и Ахилл отогнали Алариха от Акрополя; другие же писатели говорят, что готский король вел себя здесь так же злонамеренно, как и шотландский лорд. Смотри Чэндлера». (Прим. Байрона).
Зосима – византийский историк. В действительности, вестготский король Аларих в 895 г. занял Афины без сопротивления и вывез из города все движимые сокровища, но не разрушал ни зданий, ни произведений искусства.
[Закрыть]
В те дни с копьем на бой явился он.
Ужель не захотел Плутон суровый
Его из ада выпустить опять,
Чтоб в прах низвергнуть хищника другого?
Увы! Ахилл не появился снова,
Покинув Стикс, как встарь, чтоб город защищать!
XV.
Без горя на тебя глядеть нет мочи,
О, Греция! Прах милый схож с тобой!
Чьи горьких слез не проливают очи,
Глядя на искаженный образ твой?
Будь проклят час, когда для разграбленья
Твоих святынь явился Альбион,
Когда он разгромил твои владенья,
И плачущих богов без сожаленья
На север мертвенный унес с собою он.[83]83
Афиняне верили, или притворялись, что верят, будто мраморные статуи кричали от стыда и тоски, когда их выносили из древних святилищ.
[Закрыть]
XVI.
Вернуться к моему герою время.
Где ж Чайльд-Гарольд, мой мрачный пилигрим?
Его людских скорбей не давит бремя;
Притворных слез любовница пред ним
Не льет и друг с протянутой рукою
Нейдет к нему в отъезда грустный час.
Теперь он чужд любви и тверд душою;
И вот без слез расстался он с страною
Войны и темных дел, где кровь рекой лилась.
XVII.
Красив фрегат, что мчится на просторе,
Лес мачт он оставляет за собой;
Здесь шпицы колоколен тонут в море,
Там светится песок береговой,
А впереди, равниною безбрежной
Сверкая, серебрятся гребни волн…
Корабль средь них, что лебедь белоснежный;
Когда же киль в борьбе с волной мятежной,
Плохой корабль, и тот как будто жизни полн.
XVIII.
Любуйтесь обстановкою фрегата:
Здесь сеть видна,[84]84
Собственно навес (Canopy).
«Чтобы камни и осколки не падали во время боя на палубу». (Прим. Байрона).
[Закрыть] там пушек ряд блестит;
Звучит команда; рвением объята,
Толпа матросов ей внимать спешит;
Здесь боцмана свисток порой в движенье
Корабль приводит; мичман молодой
Там делает свои распоряженья,
Им придавая важное значенье;
Он юн, а властвовать умеет над толпой.
XIX.
На палубе нет пятнышка. Сурово
По ней шагает строгий капитан;
Он проронить боится даром слово;
Кто страхом перед ним не обуян?
Он предан дисциплине, что заране
Сулит успех; кто чтит ее закон,
Тот верх всегда берет на поле брани;
Ей гордые покорны англичане;
Закон – святыня их, как строг бы ни был он.
XX.
Попутный ветер, дуй, с волной играя,
Пока закат не сгинет в лоне вод.
Отставшую флотилью поджидая,[85]85
«Еще добавочное «бедствие человеческой жизни» – лежать в дрейфе при заходе солнца, в ожидании, пока самое заднее судно станет самым передним. Заметьте: хороший фрегат и хороший ветер, который, может быть, к утру переменится, но пока достаточен для десяти узлов!» (Прим. Байрона в рукописи).
[Закрыть]
Корабль вождя тогда умерит ход.
Ленивых мы поносим без пощады;
По их вине мы тратим время зря,
Невольно мы сгораем от досады,
Бросая в даль задумчивые взгляды, —
Не мало надо ждать, пока сверкнет заря.
XXI.
Луна блестит; как эта ночь прекрасна!
Испещрено лучами лоно вод;
Там юноша в любви клянется страстной,
И, веря, дева сердце отдает;
Дай Бог и нам дела вести успешно
На берегу. Вот новый Арион
Запел мотив любимый и поспешно
Матрос пустился в пляс, смеясь потешно,
Забыв, что уж давно покинул берег он.
XXII.
Пролив Кальпе так узок, что узоры
Двух берегов видны. Европа там
На берег Африки бросает взоры.
Дарит Геката луч свой тем местам,
Где властвуют испанки, что богаты
Красой лица, и тем, где мавр царит.
Но в час, когда под факелом Гекаты
Блестят испанских гор леса и скаты,
Как Мавритании уныл и мрачен вид!
XXIII.
Когда сияет ночь, душа невольно
Мечтает о любви, что скрылась в даль,
О дружбе прежних дней. Без дружбы больно
Влачить свой век, – с ней быть в разлуке жаль.
Кто ж долгой жизни рад, когда увяла,
Нам изменив, в дни юности любовь?
Для смерти остается дела мало,
Когда нам страсть «прости» навек сказала…
Дни счастья пережить кто не желал бы вновь!
XXIV.
Глядя на волн безбрежную пустыню,
Где отражен Дианы бледный свет,
Забыв и упованья, и гордыню,
Мы преданы мечтам минувших лет;
Какие б мы ни ведали страданья,
На дне души у всякого из нас
Отрадное блестит воспоминанье;
Как больно нам, когда о нем мечтанье
Слезу невольную из наших вырвет глаз!
XXV.
Кто на вершинах скал сидит, внимая
Журчанью вод, несущихся с стремнин;
Кто, общества людского избегая,
В тени лесов скитается один;
Кто на утес взбирается высокий,
Где стаду пастуха не слышен зов;
Кто любит и ущелья, и потоки, —
Тот разве в мире путник одинокий?
Нет, тот с природою в общеньи жить готов.
XXVI.
Кто ж носится, скучая, в вихре света
И осужден, усталый, дни влачить,
Любви не слыша теплого привета,
Среди толпы, где некого любить,
Где павшему в борьбе звучат проклятья,
Где даже не почтят ваш прах слезой,
Кто дружеской руки не ждет пожатья,
Встречая лишь льстецов одних объятья, —
Тот одинок вполне; тот в мире всем чужой.
XXVII.
Счастливее сто раз монах Афона.[86]86
Одним из любимых удовольствий Байрона было, как он сам говорит в одном из своих дневников, – выкупавшись где-нибудь в укромном месте, сесть на высоком утесе над морем и по целым часам смотреть на небо и на волны. «В жизни, как и в своих песнях, он был истинным поэтом», говорит сэр Эджертон Бриджес. «Он мог спать, и – очень часто спал, завернувшись в свой грубый серый плащ, на жесткой палубной скамье, когда кругом со всех сторон шумел ветер и вздымались волны; он мог поддерживать свое существование коркой хлеба и кружкой воды»…
Можно принять за верное, что Байрон описывает только то, что сам видел. Однако ни в его собственных письмах с Востока, ни в записках Гобгоуза мы не находим упоминания о посещении им Афона. Эта гора «гигантской высоты» (6350 футов) в одиноком величии поднимается над морем в виде белого известкового конуса. Если смотреть с известного расстояния, то Афонский полуостров (южная часть которого достигает 2000 футов высоты) будет ниже горизонта, так что Афон кажется выходящим прямо из моря. Байрон, по всей вероятности, так его и видел.
[Закрыть]
Сродняется с ним вечно чудный вид:
Над ним лазурь сияет небосклона,
У ног его спокойно море спит.
Усталый путник, бывший в крае этом,
Завидует владельцам дивных мест,
Жалея, что не жил анахоретом;
Не может он мириться с хладным светом,
Где осужден, как встарь, нести тяжелый крест.
XXVIII.
Я длинный путь описывать не стану,
Где мертвый штиль идет за бурей вслед;
Не мало кораблей по океану
Несется, хоть средь волн следов их нет.
Пловцы знакомы с силой непогоды;
Как незавидна участь корабля,
Когда бушует шквал и стонут воды!
Пловцов тогда кончаются невзгоды,
Когда отрадный крик звучит: земля, земля!
XXIX.
Здесь острова Калипсо, теша взгляды,[87]87
«Говорят, островом Калипсо была Гоза». (Прим. Байрона).
Страбон говорит, что Аполлодор упрекал поэта Каллимаха за то, что тот оспаривал мнение, будто остров Гоудус (Гози) был Огигией, островом Калипсо, хотя, как ученый, и должен был бы это знать.
[Закрыть]
Как две сестры, блестят средь лона вод:
Там гавань есть, ей мореходы рады,
Хоть в ней давно Калипсо слез не льет
Об Одиссее, что, с богиней в ссоре,
Ей изменил для смертной. Вот утес,
Откуда Телемак скатился в море,
Гоним суровым Ментором; здесь в горе
Она от двух утрат лила не мало слез.[88]88
«Мудрый Ментор, толкнув Телемака, сидевшего на краю утеса, сбросил его в море и сам бросился вместе с ним… Неутешная Калипсо возвратилась в свою пещеру и наполнила ее своими стенаниями». (Фенелон, «Телемак»).
[Закрыть]
XXX.
О, юноши, хоть лик богиня скрыла,
Вас искушенье может в грех вовлечь.
Ее богиня смертная сменила, —
Вы с новою Калипсо бойтесь встреч!
О, Флоренс![89]89
«Новая Калипсо Байрона, г-жа Спенсер Смит (род. ок. 1785 г.), дочь барона Герберта, австрийского посла в Константинополе и вдова Спенсера Смита, английского резидента в Штутгарте. В 1805 г. она жила, для поправления здоровья, на морских купаньях в Вальданьо, близ Виченцы; когда в северной Италии появились наполеоновские войска, она вместе с своей сестрой, графиней Аттомс, уехала в Венецию. В 1800 г. генерал Лористон овладел этим городом, и вскоре затем г-жа Смит была арестована и в сопровождении жандармов отвезена на итальянскую границу, откуда ее хотели сослать в Валансьен. Об этом случайно узнал один сицилианский дворянин, маркиз де-Сальво, на которого красота пленницы произвела сильное впечатление. Он решился ее освободить. С его помощью и вместе с ним она бежала из Брешии; после разных приключений, беглецы благополучно прибыли в Грац, где жила другая сестра г-жи Смит, графиня Страссольдо.
История этого бегства подробно рассказана маркизом де-Сальво и герцогиней д'Абрантес. Байрон познакомился с Смит на Мальте и через нее послал своей матери, 15 сентября 1809 г., письмо, в котором сообщает некоторые подробности об этой «весьма необыкновенной женщине: «ее жизнь с самого начала так богата замечательными событиями, что в любом романе они показались бы невероятными… Она никогда не знала препятствий… возбудила ненависть Бонапарта участием в каком-то заговоре; много раз подвергала свою жизнь опасности, а ей нет еще и 25 лет… Со времени моего прибытия сюда я почти всегда находился в ее обществе. Я нашел в ней женщину очень красивую, очень воспитанную и крайне эксцентричную…».
Кроме XXX–XXXII строф II песни: «Чайльд-Гарольда», Байрон посвятил ей стихотворения: «К Флоренсе» и «Стансы, сочиненные во время грозы» (близ Цицы, в октябре 1809 г.). Мур высказывает мнение, что поэт был влюблен не столько в нее, сколько в свое воспоминание о ней. «У человека, одаренного таким сильным воображением, как Байрон, который, передавая в своих стихах многое из собственной жизни, в то же время примешивал к своей жизни много поэтического вымысла, – трудно, распутывая сложную ткань его чувств, провести границу между воображаемым и действительным. Так, например, здесь его слова о неподвижном и лишенном любви сердце, которое не поддается очарованию этой привлекательной особы, совершенно противоречат некоторым его письмам, а в особенности – стихотворению, сочиненному во время грозы». Говоря это, Мур забывает о разнице во времени: цитированное стихотворение написано всего месяц спустя после отъезда поэта с «острова Калипсо», а строфы «Чайльд-Гарольда» – весною уже 1810 г. По словам биографа Байрона, Гольта, поэт «выказывал к ней страсть, но только платонически. Впрочем, она выманила у него ценный перстень с желтым бриллиантом».
[Закрыть] Если б только сердце это
Могло поддаться чарам красоты,
Тобою грудь моя б была согрета;
Но лучшего достойна ты привета,
Твой храм не осквернят греховные мечты.
XXXI.
Так думал Чайльд-Гарольд, глядя без страсти
На чудное виденье. Светлый бог,
Над ним уж не имея прежней власти,
Героя моего пленить не мог.
Волнений чужд, он к цели шел упрямо,
Не признавая более любви;
Пред ним навек закрылись двери храма,
Где он курил не мало фимиама:
Амур разжечь не мог огонь в его крови.
XXXII.
Красавица себе не объясняла,
Как Чайльд-Гарольд мог устоять пред ней,
Когда толпа поклонников вздыхала
У ног ее, клянясь в любви своей.
Пленен ее волшебною красою,
Как мог Гарольд не пасть к ее ногам,
Признавшись, может быть, кривя душою,
Что стал ее рабом? Тщетны порою
Признанья, но гневить они не в силах дам.
XXXIII.
То сердце, что ей мраморным казалось,
Молчанью и гордыни предано,
С искусством обольщения сроднялось;
Легко в обман могло вводить оно.[90]90
Большинство комментаторов приводит «в опровержение» этих стихов слова Байрона в письме к Далласу: «Я не Иосиф и не Сципион, но смело могу утверждать, что никогда в жизни не соблазнил ни одной женщины». Мур замечает, что эти стихи один из многих примеров байроновской манеры выставлять себя в дурном свете: «Как бы ни была велика распущенность его жизни в коллегии, – такие выражения, как «искусство обольщения» и обман совершенно к нему не применимы».
[Закрыть]
Но Чайльд забыл, как расставляют сети,
И силой обольщений пренебрег;
Коль нет любви, напрасны средства эти,
Когда б лишь для любви он жил на свете,
С толпой вздыхателей смешаться бы не мог.
XXXIV.
Тот плохо знает женщин, кто уверен,
Что вздохами их можно победить;
Взяв сердце в плен, рабом, который верен
И предан им, зачем же дорожить?
Влюбленный поступает неумело,
Смирение раба пуская в ход;
Скрывая страсть, идите к цели смело;
Надежда на успех не портит дела;
Дразните их любовь – и вас победа ждет.
XXXV.
Об этой старой истине скорбели
Не раз и те, что чтут ее закон;
Счастливец, что достиг заветной цели,
Ничтожеством награды поражен.
Бесчестье, даром сгубленные силы —
Любви счастливой горькие плоды;
Когда ж расстались мы с надеждой милой,
Нас мучит сердца рана до могилы,
Хотя былой любви исчезли и следы.
XXXVI.
Но здесь покинем ряд мечтаний праздных.
Не мало мы увидим гор и вод,
Не мало мы картин увидим разных,
Не призраки – тоска нас поведет.
Нам быть в краях, каких игрой мышленья
Создать не в состояньи человек,
Каких нам не опишут те творенья,
Где людям расточают наставленья,
Как будто в них есть прок для нравственных калек.
XXXVII.
Природа-мать, что может быть чудесней
Твоих роскошных видов и картин?
Тобою полн, тебя встречает песней
Твой преданный, хоть не любимый сын.
Не восхищаться видами нет мочи,
Где без прикрас ты в дикости своей
Являешься. И днем, и в мраке ночи
Улыбками мои ты тешишь очи,
Но гнева полная ты мне всего милей.
XXXVIII.
Албания! отчизна Искендеров,[91]91
«Албания заключает в себе часть Македонии, Иллирию, Хаонию и Эпир. Искандер – турецкое имя Александра; в начале строфы содержится намек на знаменитого Скандербега («лорд Александр») {«Георгий Кастриота (1401–1467), Скандербег или Скандер-бей, младший сын одного албанского главаря, был послан, вместе с четырьмя своими братьями, заложником к султану Амурату II. После смерти отца, в 1432 году, он стал продолжать борьбу с турками и, в конце концов, достиг независимости Албании. «Его личная сила и ловкость были так велики, что его храбрость в сражении напоминала романтического рыцаря». Он умер в Лиссе, на Венецианском заливе, а когда этот остров был взят Магометом II, турки, говорят, вырыли его кости и повесили их себе на шею, как талисман против ран или амулет, внушающий храбрость.}. Я не знаю, правильно ли я сделал Скандербега земляком Александра, родившегося в Пелле, в Македонии; но так называет его Гиббон, который, говоря об его подвигах, вспоминает также Пирра».
[Закрыть]
Что удивляли подвигами свет,
Явив не мало доблестных примеров, —
О дикий край, я шлю тебе привет!
Где храмы возвышалися когда-то,
Пророка минареты там видны.
Не блещет крест, с церквей исламом снятый;
Средь кипарисных рощ страны богатой,
Близ городов твоих сияет рог луны.
XXXIX.
Вот бедный край, где Пенелопа в горе,
Глядя на волны, плакала не раз.[92]92
«Итака». (Прим. Байрона).
Байрон и Гобгоуз отплыли с Мальты на военном бриге Spider во вторник, 19 Сентября, 1809 г. (в письме к матери от 12 ноября Байрон указывает на 21 сентября) я прибыл в Патрас в ночь на воскресенье, 24 сентября. Во вторник, 20, в полдень, они снова пустились в путь, и вечером того же дня видели закат солнца в Мисолонги. На следующее утро, 27, они были в проливе между материком и Итакой; этот остров, принадлежавший тогда французам, остался от них влево. «Мы прошли очень близко», говорит Гобгоуз, «и видели несколько кустарников на бурой заросшей вереском земле, да два маленьких городка на холмах, выглядывавшие из-за деревьев». В этот день путешественники «мало подвинулись вперед». Обогнув мыс св. Андрея, южную оконечность Итаки, они прошли 28 сентября пролив между Итакой и Кефалонией, прошли мимо холма Этоса, на котором стоял так наз. «Замок Улисса», откуда Пенелопа смотрела на море в ожидании своего супруга. К концу того же дня они обогнули мыс Дукато («Левкадскую скалу» – место гибели Сафо) и, пройдя мимо «древней горы», где некогда стоял храм Аполлона, в 7 часов вечера стали на якорь в Превезе. Поэзия и проза не всегда согласны между собою. Если, как говорит Байрон, они «завидели в дали Левкадскую скалу» в осенний вечер, и если над нею, когда они приблизились, уже сияла вечерняя звезда, то они должны были плыть очень быстро, чтобы к семи часам вечера дойти до Превезы, – миль за 30 оттуда к северу. Может быть, впрочем, и Гобгоуз ошибся в обозначении времени.
[Закрыть]
А вот скала: здесь Сафо вверглась в море.
О, песнопенья бог, как ты не спас
От гибели поэзии кумира,
Когда огонь бессмертья в нем горел?
Погибла, Сафо, ты, но не для мира,
Коль может нам дарить бессмертье лира,
Тот рай, что лишь один мы вправе ждать в удел.
XL.
Левкадский мыс увидел Чайльд в волненьи[93]93
«Акциум и Трафальгар не нуждаются в объяснениях. Сражение при Лепанто, также кровопролитное, но менее известное, происходило в Патрасском заливе. Здесь автор «Дон-Кихота» лишился своей левой руки.» (Прим. Байрона).
[Закрыть]
В осенний вечер, полный светлых чар;
Затем он посетил поля сражений:
Вот Акциум, Лепант и Трафальгар.
Не тронули его преданья славы;
Рожден под невоинственной звездой,
Не восхищался он борьбой кровавой, —
Считал войну преступною забавой
И брани презирал, встречая их с враждой.
XLI.
Когда звезда, сияя в небе ясно,
Блеснула над Левкадскою скалой;[94]94
«Левкадия, теперь – Санта-Мавра. Говорят, с этого мыса Сафо бросилась в море («прыжок любовника»)». Прим. Байрона.
[Закрыть]
Когда пред ним приют любви несчастной
В последний раз мелькнул во мгле ночной,
Волненье Чайльд-Гарольда охватило;
В тени скалы он плыл, стремяся в даль,
И на нее, в тоске, глядел уныло;
Когда же мгла ее от взоров скрыла,
Его больной души рассеялась печаль.
XLII.
В сиянии зари пред ним блеснули
Зубчатые верхи Албанских гор:
Среди тумана вот утесы Сули,[95]95
«Утесы Сули» – горная область на юге Эпира. Сулийский округ в конце XVIII столетия образовал особую маленькую республику, оказавшую упорное сопротивление Али-паше. «Вершина Пинда», Монте-Мецово, часть хребта, отделяющого Эпир от Фессалии. С моря ее не видно.
[Закрыть]
Вдали ж вершина Пинда тешит взор;
Ее алеет снег, одет зарею;
Здесь рыщет волк, острит свой клюв орел.
Там хаты горцев, преданных разбою…
То царство гроз, что зимнею порою,
Зловещих сил полны, громят и лес, и дол.
XLIII.
Простившись с просвещеньем, в край далекий,
Что хвалят все, хоть жить боятся в нем,
Явился Чайльд. Как путник одинокий,
Бродил в краю он мрачном и глухом,
Где бед не знал, хотя, к борьбе готовый,
И не страшился их; тот край был дик,
За то его картины были новы.
Гарольд, мирясь с погодой то суровой,
То знойной, без труда к усталости привык.
XLIV.
Поруганный исламом, крест смиреньем
Гордыню заменил минувших дней…
Христианина здесь клеймят презреньем;
В загоне и служитель алтарей.
Как суеверья жалки проявленья!
Оно для духовенства лишь доход,
Сулящий прочим смертным разоренье;
Религию позорят лжеученья!
Кто золото ее от примесей спасет?
XLV.
Амбрации залив блестит пред нами.
За женщину здесь кровь лилася встарь,
Сражались под одними знаменами
И римский вождь, и азиатский царь.[96]96
«Говорят, что накануне сражения при Акциуме на приеме у Антония было тринадцать царей». (Прим. Байрона).
«Сегодня», писал Байрон матери 12 ноября 1809 г., «я видел остатки города Акциума, близ которого Антоний потерял мир, – в маленькой бухте, где едва ли могли бы маневрировать два фрегата. Единственный остаток древности – разрушенная стена. На другой стороне залива стоят развалины Никополя, построенного Августом в честь его победы».
[Закрыть]
Здесь Августа трофеи свет дивили.[97]97
Речь о Никополе, «городе побед», построенном Августом в воспоминание битвы при Акциуме, в 5 милях к северу от Превезы. «Никополь», развалины которого более обширны, находится в некотором расстоянии от Акциума, где сохранилось лишь несколько обломков стены ипподрома. Эти развалины представляют собою значительные массы кирпичного строения, в котором кирпичи были соединены между собой известью, в кусках такой же величины, как и самые кирпичи, и столь же прочных (Прим. Байрона).
[Закрыть]
Тот мир исчез и памятника нет.
Людская скорбь была плодом усилий
Монархов, что анархии служили…
Ужель был создан мир для грома их побед?
XLVI.
Долинами Иллирии дорога
Гарольда шла от грани гордых скал
Албании. Там мест он видел много,
Что ни один турист не описал.
Хоть Аттика роскошно разодета,
Хоть живописны Темпе и Парнас,
Невольно вдохновляющий поэта, —
Картинами страна богата эта,
Которые, как те, красой пленяют нас.
XLVII.
Он за собою снежный Пинд оставил
И, не успев в столицу заглянуть,
Чрез воды ахерусские направил[98]98
«По определению Пуквилля – Янинское озеро; но Пуквилль всегда ошибается» (Прим. Байрона).
Янинское озеро в древности называлось Памботис. При входе в Сулийское ущелье, где озеро внезапно замыкается, находилось болото Ахерузия, близ которого был оракул.
[Закрыть]
К властителю Албании свой путь.
Слова Али – законы.[99]99
«Знаменитый Али-паша. Об этом необыкновенном человеке есть неточный рассказ в Путешествии Пуквилля». (Прим. Байрона).
Али-паша (1741–1822), «магометанский Бонапарт», сделался верховным правителем Эпира и Албании, приобрел господство над Фессалийскими агами и продвинул свои войска до пределов древней Аттики. Беспощадный и ничем не стеснявшийся тиран, он был в то же время храбрым воином и искусным администратором. Интригуя то с Портою, то с Наполеоном, то с англичанами, натравливая друг на друга местных деспотов, он пользовался столкновениями враждебных интересов для собственного возвеличения. Венецианские владения на восточном побережье Адриатического моря, перешедшие в 1797 г. к Франции по Кампоформийскому трактату, были отняты у французов. Али-пашой: он разбил в 1798 г. генерала Ла-Сальсетта на равнинах Никополя и овладел, за исключением Порчи, всеми городами, которые и удержал за собою именем султана. Байрон говорит об его «почтенном старческом лице» в Чайльд-Гарольде (II. 47, 62) и об изящной руке в – Дон-Жуане (IV, 45); его отношение к Джафару-паше («в Аргирокастре или Скутари не помню наверно») дало материал для 14-й и 15-й строф 11 песни Абидосской Невесты. Он подробно описал Али-пашу в письме к матери из Превезы, от 12 ноября 1809: «Али считается человеком выдающихся способностей; он управляет всей Албанией (древний Иллирик), Эпиром и частью Македонии; его сын, Вели-паша, к которому он дал мне письмо, управляет Мореей и пользуется большим влиянием в Египте; словом, это один из самых могущественных людей в Оттоманской империи. Прибыв в Янину, я узнал, что Али-паша со своей армией находится в Иллирике… Он услышал, что в его владения приехал знатный англичанин, и приказал коменданту Янины отвести мне дом и снабдить меня всем необходимым бесплатно… Через девять дней я приехал в Теналин… и был представлен Али-паше. Я был в полной форме федерального штаба, с весьма великолепной саблей, и пр. Визирь принял меня в большой комнате с мраморным полом; посередине бил фонтан; вдоль стен стояли красные диваны. Он принял меня стоя, – удивительная любезность со стороны мусульманина, – и посадил меня по правую руку от себя… Его первый вопрос был: почему я, будучи в таком возрасте, покинул свою родину? Турки не имеют понятия о путешествии ради удовольствия). Затем он сказал, что английский резидент, капитан Лик, сообщил ему, что я принадлежу к знатной семье. Он прибавил, что он и не сомневается в моем благородном происхождении, потому что у меня маленькие уши и маленькие белые руки; моя фигура и костюм ему понравились. Он сказал, чтобы я, пока буду в Турции, смотрел на него, как на отца, и что он будет считать меня своим сыном. И в самом деле, он относился ко мне, как к ребенку, присылая мне раз по двадцати в день миндалю и шербету, фруктов и сладостей. Он просил меня посещать его чаще, и по вечерам, когда он был свободен… Его превосходительству 60 лет; он очень толст, невысок ростом, но у него красивое лицо, светло-голубые глаза и белая борода; он очень любезен и в то же время полон достоинства, которым турки вообще отличаются. Его внешность совершенно не отвечает его действительным свойствам, так как он безжалостный тиран, совершивший множество ужасных жестокостей; он очень храбр и такой хороший полководец, что его прозвали магометанским Бонапартом. Наполеон два раза предлагал ему сделать его эпирским королем, но он предпочитает английские интересы и ненавидит французов; он сам это мне сказал»…
[Закрыть] Кровь ручьями
Он в вечно непокорном льет краю,
Где горцы, защищенные скалами,
Порой вступают в бой с его войсками,[100]100
«Пять тысяч сулиотов, среди скал и в цитадели Сули, в течение восемнадцати лет оказывали сопротивление тридцати тысячам албанцев; наконец, цитадель была взята с помощью подкупа. В этой борьбе были отдельные эпизоды, достойные, пожалуй, лучших дней Греции» (Прим. Байрона).
[Закрыть]
Лишь перед золотом клоня главу свою.
XLVIII.
О, Зитца![101]101
«Монастырь и деревня З(Ц)ица находятся в четырехчасовом расстоянии от Янины, столицы пашалыка. В долине протекает река Каламас (древний Ахерон), образующая невдалеке от Цицы красивый водопад. Это, может быть, самое красивое место в Греции, хотя окрестности Дельвинахи и некоторые местности Акарнавии и Этолии и могут оспаривать пальму первенства. Дельфы, Парнасс, а в Аттике даже мыс Колонна и порт Рафти гораздо менее красивы, как и все виды Ионии или Троады; я мог бы, пожалуй, прибавить окрестности Константинополя; но, в виду их совершенно иного характера, сравнение едва ли уместно». (Прим. Байрона).
«Цица – деревня, населенная греческими крестьянами», говорит спутник поэта, Гобгоуз. «Может быть, во всем свете нет вида более романтического, чем тот, который открывается здесь с вершины холма. На переднем плане – легкая покатость, оканчивающаяся с обеих сторон зеленеющими холмами и долинами, в которых раскинулись виноградники и бродят многочисленные стада»…
Путешественники выехали из Превезы 1 октября и приехали в Янину 5-го. Оттуда они выехали 11 октября, к ночи прибыли в Цицу, 13-го уехали оттуда и 19-го были в Тепелени. Под вечер 11 октября, при приближении к Цице, Гобгоуз и албанец Василий поехали вперед, оставив Байрона с багажом позади. Стемнело. Как раз в то время, когда Гобгоузу удалось добраться до деревни, пошел проливной дождь. «Гром гремел, казалось, без перерыва; не успевало эхо прокатить в горах один удар, как над нашими головами уже разражался другой». Байрон со своим драгоманом и багажом находились всего в милях трех от Цицы, когда началась эта гроза. Они заблудились, и только после долгих странствований и разных приключений были приведены десятью провожатыми с факелами к какой-то хижине. Было уже 3 часа утра. Тут-то Байрон и написал «Стансы во время грозы».
[Закрыть] уголок земли священной,
Что полон чар. Добравшись до высот.
Где ты в тени стоишь уединенно,
Тебе привет плененный путник шлет!
Лазурь небес, сливаясь воедино
С деревьями, скалами и рекой,
Ласкает взор волшебною картиной;
Вдали каскад, несущийся с стремнины,
Хоть будит страх в душе, пленяет красотой.
XLIX.
Белеет одинокая обитель
Средь рощи, за которою грядой
Синеют цепи гор. Случайный зритель
Глядит на чудный вид, смутясь душой.
Радушен здесь монах.[102]102
В подлиннике не «монах», а caloyer – калугер.
«Так (калугер) называются греческие монахи». (Прим. Байрона).
Слово «Калугер» происходит от позднего греческого καλόγηρος,– «добрый старец».
«Мы вошли в монастырь, после некоторых переговоров с одним из монахов, через небольшую калитку, обитую железом, на которой очень заметны были следы сильных ударов и которую, действительно, прежде чем в этой местности водворено было спокойствие под могучим управлением Али, тщетно пытались разбивать шайки разбойников, постоянно появлявшихся то в том, то в другом округе. Настоятель, низенький, смирный человечек, угостил нас в теплой комнате виноградом и приятным белым вином, которое, до его словам, не вытоптано ногами, а выжато из гроздьев руками; и нам так понравилось все, нас окружавшее, что мы сговорились поселиться здесь по возвращении от визиря». (Гобгоуз).
[Закрыть] Благословляя,
Всегда он встретить путника готов,
И тот, пленен красой волшебной края,
Уходит, с сожаленьем покидая
Того монастыря гостеприимный кров.
L.
В тени дерев здесь отдыхать отрада;
В полдневный зной играет ветерок,
Больную грудь живит его прохлада;
Само здесь небо дышит: дол далек…
О, странник! коротай часы досуга
Средь благовонных рощ, где мрак ветвей
Спасает от жары и от недуга,
И наслаждайся здесь природой Юга,
Сиянием зари и прелестью ночей.
LI.
Амфитеатром мрачные громады
Хемариотских Альп вдали блестят;[103]103
В подлиннике «вулканическим» амфитеатром.
«Химариотския горы, по-видимому, были вулканическими». (Прим. Байрона).
«Байрон, вероятно, говорит о Керавнских горах, которые «до самой вершины покрыты лесом, но местами обнаруживают широкия пропасти среди красных утесов» (Гобоуз). Эти горы находятся к северу от Янины, между тем как Акрокеранские или собственно Химариотские горы тянутся с севера на юго-запад вдоль берега Мизии.
[Закрыть]
На их подножье путник бросив взгляды,
Богатую долину видеть рад.
Стада пасутся там, ключи, сверкая,
Журчат в тени дерев. То Ахерон,[104]104
«Теперь называется Каламас». (Прим. Байрона).
[Закрыть]
Где некогда царила смерть немая.
Коль это ад, то мне не нужно рая, —
В Элизиум попасть я не хочу, Плутон!
LII.
Кругом нет городов; Янина скрыта
Завесой мрачных гор. Ни сел, ни хат
В окраине не видно позабытой;
Бесплоден этот край и небогат.
В ущельях гор мелькают то и дело
Красивые стада бесстрашных коз;
Подпаски их ведут в одежде белой,[105]105
Албанский плащ. (Прим. Байрона).
[Закрыть]
То по горам за ними идут смело,
То под навесом скал скрываются от гроз.
LIII.
Додона, где ж твой лес? Где знаменитый[106]106
Положение древней Додоны у подошвы горы Томароса (гора Олоцика), в долине Чарковицы, было определено окончательно только в 1876 г. раскопками, произведенными Константином Карапаносом, уроженцем Арты. Сзади Додоны, на вершине цепи холмов, находятся дубовые поросли, может быть, происходящие от тех «говорящих дубов», которые возвещали волю Зевса О «пророческом источнике» комментатор Вергилия Сервий говорит, что «близ храма Зевса, по преданию, находился огромный дуб, из под корней которого вытекал ручей, передававший в своем журчании волю богов». Байрон и Гобгоуз, во время одной из своих экскурсий из Янины, рассматривали развалины амфитеатра и восхищались ими, не зная, что именно здесь-то и была Додона.
Мысль о том, что человек, прежде чем жаловаться на свою смертность, должен подумать о непрочности всего, что считается вечным и нерушимым, может быть, заимствована из знаменитого утешительного письма Сульпиция Севера к Цицерону, которое Байрон цитирует в примечании к строфе 44-й песни IV.
[Закрыть]
Тот дол, где эхо вторило словам
Юпитера? Оракул твой забытый
Умолк на век; где ж Громовержца храм?
О, люди! грех на то роптать сугубо,
Что смерть готовит вам свои дары.
Ведь с участью богов сродниться любо;
Уже ль вам дольше мрамора и дуба
На свете жить, тогда как рушатся миры?
LIV.
С Эпиром Чайльд расстался. Гор вершины
Томят своим однообразьем взор;
Их за собой оставив, он долины
Увидел вдруг чарующий простор.
Хорош и дол с рекою величавой,
Что отражает в зеркале своем
Густую зелень дремлющей дубравы,
Сиянье дня, заката луч кровавый
И бледный свет луны, когда все спит кругом.
LV.
Угас закат за гранью Томерита;[107]107
«В древности – гора Томарус». (Прим. Байрона).
[Закрыть]
Был грозен плеск Лаоссы бурных вод;[108]108
«Река Лаос была в полноводье в то время, когда автор переезжал ее. Выше Тепалина она кажется такою же широкою, как Темза у Вестминстера; таково, по крайней мере, мнение автора и его товарища по путешествию. Летом она должна быт гораздо уже. Это, без сомнения, самая красивая река европейского Востока; ни Ахелой, ни Алфей, ни Ахерон, ни Скамандр, ни Каистер не могут равняться с нею по ширине и красоте». (Прим. Бтирона).
[Закрыть]
Сгущалась тень; все было мглою скрыто.
Гарольд тропой прибрежной шел вперед.
Катилася река, покрыта пеной.
Вдали, как метеоры, в тьме ночной
Блестели минареты Тепалена.[109]109
«Во время праздников Рамазана галерея каждого минарета украшается маленькими лампочками. Издали каждый минарет кажется светлой точкой на темном фоне неба, – «метеором», а в большом городе, где их много, они представляются роем огненных мух». (Тозер).
[Закрыть]
А вот и форт; его белеют стены;
Там крики войск звучат; им вторит ветра вой.
LVI.
Пройдя гарем, где царствует молчанье,
Чрез ворота, Гарольд увидеть мог
Волшебно разукрашенное зданье —
Всесильного властителя чертог;
В нем евнухи снуют, рабы, солдаты;
Жилище, где проводит жизнь тиран —
Снаружи форт, внутри ж дворец богатый;
Пред деспотом все трепетом объяты;
Там сборище людей всех климатов и стран.
LVII.
Среди двора стоит, сверкая броней,
Всегда готовый к бою эскадрон;
Украшены роскошной сбруей кони;
Стекаются сюда со всех сторон
Войска паши, дворец оберегая.
Здесь группы греков, мавров, мусульман;
Там, пестрою одеждою сверкая,
Стоят, держа знамена, горцы края.
О том, что ночь пришла, вещает барабан.
LVIII.
В чалме, в расшитом золотом кафтане,
Держа в руке свой длинный карабин,
Стоит албанец; там, при ятагане,
Гарцует Дели, гор отважный сын;
Здесь македонец, шарф, надев кровавый,
Проходит с черным евнухом; а вот
Проныра грек, и шустрый и лукавый;
Там тоже виден турок величавый,
Что, на слова скупясь, приказы лишь дает.
LIX.
Те курят, наблюдая; те играют;[110]110
«Ночью мы не могли спать из-за постоянного шума на галерее, барабанного боя и громкого пения муэдзина» или певца, призывавшего турок на молитву с минарета мечети, находившейся рядом с дворцом. Этот певец был еще мальчик и пел свой гимн или «эраун» в тоне глубоко меланхолического речитатива. Первое восклицание он повторял четыре раза, все остальные слова – по два раза, и оканчивал свое исповедание веры, дважды выкрикивая, протяжно и пронзительно: «гу!» (Гобгоуз). Д'Осон приводит полный текст этого призыва: «Бог велик! (4 раза). Исповедую, что нет Бога, кроме Бога! Исповедую, что Магомет пророк Божий! Идите на молитву! Идите в храм спасения! Бог велик! Нет Бога, кроме Бога!»
[Закрыть]
Здесь турок совершает свой намаз;
Там группы горцев гордо выступают;
Болтливый грек пускает в ход рассказ.
Различных групп повсюду видно много…
Чу! с минарета муэзина глас
Вдруг прозвучал торжественно и строго.
Слова звучат: «Нет Бога, кроме Бога,
Один лишь Бог велик! Настал молитвы час!»
LX.
В то время пост тянулся Рамазана;
Все днем ему верны; когда ж закат,
Бледнея, угасает средь тумана,
Пророка сын разгавливаться рад.
В дворце Али, объятом суетою,
Роскошный стол для пира был накрыт.
Рабы сновали с блюдами, гурьбою.
Лишь галереи были скрыты тьмою,
Дворец же весь сиял, являя чудный вид.
LXI.
Здесь женского не слышно разговора, —
В гаремах дамы скрыты. Здесь жена,
Как жертва неусыпного надзора,
Душой и телом мужу предана.
Она в плену, но ей не снится воля;
Она любовь и власть супруга чтит;
Детей взрощать ее святая доля.
Они всегда при ней. Их нежно холя,
В душе порочных дум турчанка не таит.
LXII.
В роскошном павильоне, где от зноя
Спасал владыку брызгами фонтан,
Али полулежал; себя покоя,
Лениво он склонялся на диван.
Он вождь и кровожадный, и жестокий,
Но старика благочестивый лик
Не отражал его души пороки;
А пред собой он крови лил потоки
И совершать дела преступные привык.
LXIII.
Хотя Гафиз сказал, что увлеченья
Дней юности мирятся с сединой;
Хотя теосский бард того же мненья,
Но тот, кто глух к мольбам и черств душой,
Кого страданье ближняго не тронет,
Тот с тигром схож по лютости своей;
Кто пред собою кровь струею гонит,
Кто лил ее в дни младости, тот тонет
Среди кровавых волн на склоне мрачных дней.[111]111
Эти слова Байрона оказались пророчеством. 5 февраля 1822 г. произошло свидание между Али и Магометом-пашой. Когда последний встал, чтобы выйти из комнаты, Али пошел проводить его до дверей и, прощаясь, низко поклонился; в эту минуту Магомет выхватил кинжал и неожиданно поразил Али в сердце. Затем он спокойно вышел на галерею и сказал своей свите: «Али теналенский мертв». Голова Али была отослана в Константинополь. (Финлей. Ист. Греции).
[Закрыть]
LXIV.
Гарольд, разбитый дальнею дорогой,
В дворце Али-паши приют нашел,
Но скоро блеск восточного чертога,
Где роскоши воздвигнут был престол,
Ему наскучил. Пышности отравы
Веселья губят скромную среду;
Душевный мир тревожат эти нравы;
Не радуют условные забавы…
Веселье с пышностью не могут жить в ладу.
LXV.
Албанцы полудикие суровы,
Но к доблести им славный путь знаком:
Они труды войны нести готовы;
Когда ж они бежали пред врагом?
Их жизнь скромна; они не лицемерны;
Надежна дружба их, опасна месть;
Их подвиги и удаль беспримерны,
Когда с вождем любимым, долгу верны,
Торопятся они с врагами счеты свесть.
LXVI.
В дворце Али, где к бою все готово,
Гарольд увидел их; судьбой гоним,
Впоследствии он их увидел снова,
Когда случайно в плен попался к ним.
От злых людей, в беде, не жди защиты.
Ему же горец дал приют и кров,
Гостеприимства чтя закон забытый;
Порой не так гостеприимны бритты,[112]112
«Намек на потерпевших крушение корнваллийцев». (Прим. Байрона).
[Закрыть] —
Как редко нам ответ дают на сердца зов!
LXVII.
Случилось раз, что Чайльд-Гарольда судно[113]113
Путешественники выехали из Янины 3 ноября и прибыли 7-го в Превезу. В полдень 9 ноября они отплыли в Патрас на гальоте Али. Это было судно около 50 тонн вместимостью, с тремя невысокими мачтами и широким косым парусом. Вместо того чтобы обогнуть мыс Дукато, они были отнесены в море к северу и только в час ночи могли бросить якорь в порте Фанара на сулиотском берегу. Под вечер 10 ноября они поехали на ночлег в Волондорако, где были очень хорошо приняты местным албанским старшиной и расположенными там войсками визиря. Затем они уже не сели на гальот, а возвратились в Превезу сухим путем. Так как в области к северу от Артского залива было неспокойно, и по дорогам встречались многочисленные шайки разбойников, то путешественники окружили себя конвоем из 37 албанцев, наняли другой гальот и 13 ноября переправились через залив до крепости Воницы, где и остановились на ночь. На следующий день, в 4 часа пополудни они приехали в Лутраки, – «в глубине окруженной утесами бухты в юго-восточном углу Артского залива». Двор находившегося на берегу барака и был местом пляски паликаров, описанной в стр. LXXI. (Гобгоуз).
[Закрыть]
К скалам Сулийским буря принесла;
Бороться с морем было безрассудно,
Но и в стране, где царствовала мгла,
Быть может, смерть матросам угрожала.
Страшил их край коварных дикарей;
Все ж судно, наконец, к брегам пристало,
Где горцы иностранцев любят мало,
Встречая, как врагов, непрошенных гостей.
LXVIII.
И что ж? Их горцы встретили, как братья;
Чрез скалы и ущелья провели;
Зажгли огонь; их высушили платья;
Чтоб их согреть, вина им поднесли
И скромный приготовили им ужин;
Но, не скупяся, всякий дал, что мог;
Так поступает тот, кто с правдой дружен.
Такой пример для эгоистов нужен:
Краснеть заставит их тот нравственный урок.
LXIX.
Гарольд узнал, бросая эти горы,
Где встретил он и ласку, и привет,
Что по ущельям грабят мародеры
И путникам сулят не мало бед.
Проводников лихих, готовых к бою,
Он нанял и направился вперед…
Оставив лес дремучий за собою,
Простился с ними он, пленен красою
Долин Эттолии, где Ахелой течет.
LXX.
Пред ним залив, где дремлющие волны
Любовно отражают блеск небес;
Залив молчит; таинственности полный,
Глядится в нем вблизи растущий лес.
Едва скользя по волнам, ветер дышит
Той негою, которой Юг богат,
И в полумгле деревья чуть колышет.
Здесь Чайльд-Гарольд слова привета слышит:
Любуясь ночью той, волненьем он объят.
LXXI.
На берегу веселою ватагой
Сидели паликары.[114]114
«Паликар» – в сокращенном обращении к одному лицу, от Παλικαρι (παλληκάρι) – общее наименование солдат у греков и албанцев, говорящих по-ромейски (новогречески); собственно значит: «молодец». (Прим. Байрона).
[Закрыть] Вкруг огни
Бросали свет. Вина пурпурной влагой,[115]115
«Албанские мусульмане не воздерживаются от вина, – да и прочие редко». (Прим. Байрона),
[Закрыть]
Окончив ужин, тешились они.
До полночи, под ярким неба сводом,
Их пляска началась. Мечи сложив,
Они сомкнулись в круг и полным ходом
Пошли плясать; сливаясь с хороводом,
Их песни раздался воинственный мотив.
LXXII.
Гарольда не смущали эти нравы;
Невдалеке от горцев находясь,
Следил он за невинною забавой,
Что поражала грубостью подчас.
Движенья паликаров были дики;
До плеч спадали волны их кудрей;
Их взгляды были ярки, смуглы лики,
И походили более на крики,
Чем на мелодии, напевы дикарей.
1.
Гремят барабаны,[116]116
«Эти куплеты отчасти заимствованы из разных албанских песен, насколько я мог их усвоить в изложении албанца, говорившего по-ромейски и по-итальянски». (Прим. Байрона).
[Закрыть] сраженья суля,
Надеждою дух храбрецов веселя.
Услыша призыв, иллириец идет,
Химарец и мрачный лицом сулиот.
2.
Он в белом хитоне и бурке своей.
Кто в схватке с врагом сулиота храбрей?
Он волку и коршуну стадо дарит
И в дол, как поток со стремнины, бежит.
3.
Тот горец, что мстит за обиды друзьям,
Дарует ли жизнь побежденным врагам?
Пощады не будет; нам месть дорога;
Нет цели отрадней, чем сердце врага.
4.
Пещеру покинув, с охотой простясь,
Герой македонец нагрянет как раз.
Он в шарфе багряном, что станет алей
От крови, которой прольется ручей.
5.
Паргасских пиратов приют океан;
В рабов обратили они христиан;
И сходят теперь со своих кораблей,
Чтоб пленные с звоном сроднились цепей.
6.
Богатств мне не надо. Что деньги дарят
Бессильному, то заберет мой булат.
Не мало красавиц умчу за собой;
На плечи их косы спадают волной…
7.
Красою я юных любуюся дев;
Мне милы их ласки и сладок напев.
Я гусли им дам, чтобы пели оне
О том, как их пали отцы на войне!
8.
Превизы припомните штурм и резню![117]117
«Превиза» – вернее «Превеза» (славянское название, означающее «перевоз»).
«Превеза отнята была штурмом у французов в октябре 1798 г.» (Байрон).
Гарнизон города, состоявший из 300 французов и 160 греков, был окружен и уничтожен пятью тысячами албанцев на Никопольской равнине; победители вошли в город и опустошили его. «Албанцы очень гордились взятием Превезы, воспевали его в песнях, и между ними не было, кажется, ни одного, который не произносил бы имени Али-паши с особенно энергическим выражением» (Гобгоуз).
[Закрыть]
Все предали мы и мечу, и огню;
Добычу делили, победой гордясь;
Лишь юных красавиц там кровь не лилась.
9.
Со страхом и жалостью тот не знаком,
Кто в битву несется за храбрым вождем.
С тех пор, как пророка дни славы прошли,
Вождя мы не знали храбрей, чем Али!
10.
Мухтар, предводителя доблестный сын,
Идет во главе придунайских дружин.
Гяуров сомнет он в кровавом бою:
Им вновь не увидеть отчизну свою!
11.
Селиктор! вождю ты подай ятаган!
Суля нам сраженье, гремит барабан.
Мы в горы вернемся с победным венком,
Иль больше домой никогда не придем!
LXXIII.
Эллада, прежней доблести могила,[118]118
«Несколько мыслей об этом предмете находится в прилагаемых заметках». (Байрон).
[Закрыть]
Хоть пала ты, тебя бессмертье ждет;
Ты велика, хотя давно почила!
С твоих детей кто свергнет рабства гнет?
Не встанут те, что пали в Фермопилах,
Что храбро на смерть шли, свой край любя.
Где тот герой, что подражать им в силах?
Эллада! спят они в своих могилах.
Из царства вечной тьмы кто ж вызовет тебя?
LXXIV.
Могло ль тебе присниться, дух свободы,
Когда ты шел за Фразибулом вслед,[119]119
«Фразибул, прежде чем изгнать из Афин «Совет тридцати», взял Филэ, от которой еще остаются значительные развалины. С высоты этого укрепления открывается прекрасный виде на Афины». (Байрон).
С этого места Байрон и Гобгоуз впервые увидели Афины, 26 декабря 1809 г. Развалины, по сообщению Гобгоуза, называются теперь Бичла-Кастро, т. е. Часовая башня.
[Закрыть]
Что Аттики отважные народы
Дивить своим позором будут свет?
Не грозные тираны ими правят,
А каждый турок видит в них рабов.
Не сбросить им те цепи, что их давят,
Всю жизнь оковы рабства их бесславят,
И греки не разят, а лишь клянут врагов.
LXXV.
Они не те, хоть сохранили годы
Им прежний тип. Глядя на блеск их глаз,
Подумаешь, что светлый дух свободы,
Как в оны дни, в них, теплясь, не угас.
Иным все снится отблеск прежней славы,
Но ждут они, что их спасут от ран
И бедствий чужеземные державы,
А сами не стремятся в бой кровавый,
Чтоб вычеркнуть свой край из списка павших стран.
LXXVI.
Сыны рабов! не знаете вы, что ли,
Что пленные оковы сами рвут,
Когда их вдохновляет голос воли?
Ни Франция, ни Русь вас не спасут.
Пусть будет смят ваш враг, а все лучами
Свобода не порадует ваш взор.
Илотов тени! бросьтесь в сечу сами!
Ярмо свое меняя, с славы днями
Вы не сроднитесь вновь и ваш удел – позор!
LXXVII.
Быть может, вновь те области, где ныне
Царит Аллах, к гяурам перейдут;
Быть может, мусульманские твердыни
Пред мощью христиан, как встарь, падут;
Быть может, вагабиты с силой новой
Зальют рекой кровавою Восток,[120]120
«Мекка и Медина были захвачены, несколько лет тому назад, вагабитами, – сектой, с каждым годом расширяющейся». (Байрон).
Вагабиты, название которых происходит от имени арабского шейха Мохаммед-бен-Абдэль Вагаб, появились в центральной Аравии, в провинции Недж, около 1700 года Полусоциалисты, полупуритане, они требовали буквального исполнения предписаний Корана. В 1803—4 гг. они разграбили Мекку и Медину, а в 1808 г. вторглись в Сирию и овладели Дамаском. Во время пребывания Байрона на Востоке они находились на вершине своего могущества и казались угрожающими самому существованию Турецкой империи.
[Закрыть]
Но никогда свободы светоч снова
Не озарит страну, что рок суровый
На долю рабскую, из века в век, обрек.
LXXVIII.
Ликуют греки: близится то время,
Когда они, прощаяся со злом,
Готовятся грехов умалить бремя
Молитвой, покаяньем и постом.
Веселью предаются, без опаски,
Пред тем они, не зная грустных дум;
Тогда разрешены пиры и пляски;
Везде снуют в костюмах странных маски,
И карнавал царит, сливая с блеском шум.
LXXIX.
Хоть стал мечетью храм святой Софии
И Магомет святыни осквернил,
Стамбул, столица древней Византии,[121]121
Байрон провел в Константинополе два месяца, с 14 мая по 14 поля 1810 г. В одном из своих писем он говорит: «Я видел развалины Афин, Эфеса и Дельф; проехал большую часть Турции и много других стран Европы, а также некоторые местности Азии; но никогда не видел произведения природы или искусства, которое вызывало бы такое сильное впечатление, как вид в обе стороны от Семибашенного замка до конца Золотого Рога».
[Закрыть]
Веселья полн. Былое грек забыл
(Опять я грусти полн). Хоть никогда я
Такого оживленья не видал,
Как на Босфоре, все ж веселье края
Мне напускным казалось: слух лаская,
Былой свободы гимн там больше не звучал.
LXXX.
Как берег оживлен толпой шумливой!
Не умолкая, песни там звучат.
Ударам весел вторят их мотивы
И раздаются с плеском моря в лад.
Царицы волн сияет отблеск нежный;
Когда ж, скользя чуть слышно по волнам,
Рябит морскую гладь зефир прибрежный, —
Дробится лунный свет в волне мятежной,
Которая его уносит к берегам.
LXXXI.
Скользят по волнам лодки; пляшут девы
На берегу; отрадна и легка
Такая ночь. Как страстны их напевы!
Горят их очи; руку жмет рука…
В дни юности, в венки сплетая розы,
Любовь живит и сладко греет нас;
Ни циник, ни философ с силой грезы
Борьбу вести не могут; сушит слезы
И может нас с судьбой мирить блаженства час.
LXXXII.
Не все, однако ж, общим оживленьем
Довольны. Грусть на лицах их видна;
Не их ли бесполезным сожаленьям
Уныло вторит ропотом волна?
Им больно, что веселию объятья
Открыли греки; радости печать
На лицах граждан будит их проклятья;
Тоской убиты, праздничное платье
Хотели бы они на саван променять.
LXXXIII.
Так мыслит верный сын родного края
(А много ль их в Элладе мы начтем?)
Не станет патриот, к войне взывая,
Мечтать о мире, ползая рабом;
И, меч сменив на плуг, не станет шею
Под игом гнуть. Всех меньше любит тот
Отчизну, кто обласкан больше ею.
Вы жалки, греки! Славою своею
Вас длинный предков ряд позорит и гнетет.
LXXXIV.
Когда Эпаминонд родится новый,
Когда спартанцы встанут из могил,
Когда Афин блеснет венок лавровый
И граждан, полных доблести и сил,
Гречанки вскормят вновь, – тогда Эллада,
Но лишь тогда, воскреснет. Над страной,
Чтоб дать ей мощь, векам промчаться надо;
Ее ж мгновенье губит. Лишь плеяда
Столетий верх берет над гневною судьбой.
LXXXV.
А все прекрасна ты, хоть горем смята,
Страна богов и равных им мужей!
Ты зеленью роскошною богата;
Снег гор твоих от солнечных лучей
Не тает;[122]122
«На многих горах, и в частности – на Лиакуре, снег никогда не исчезает, несмотря на чрезвычайные летние жары; но в долинах я его никогда не видал, даже зимой». (Байрон).
[Закрыть] ты – любимица природы;
Но алтари и храмы прежних лет
Разрушены: их в прах повергли годы.
Так гибнет то, что создают народы;
Века лишь доблести стереть не могут след.
LXXXVI.
Кой-где стоит колонна одиноко;[123]123
«Мрамор для постройки афинских общественных зданий брался из горы Пентелика, которая теперь называется Мендели. Огромная пещера, образовавшаяся от каменоломни, существует до сих пор и будет существовать вечно». (Байрон).
[Закрыть]
Она судьбу своих сестер клянет;
Минервы храм, что пал по воле рока,
С Колоннских скал глядится в лоне вод.
На всем здесь отпечаток разрушенья;
Вот перед вами ряд могильных плит,
Что от веков спаслись, – не от забвенья.
Порою иностранец, полн волненья,
Оглядывая их, как я, им вздох дарит.
LXXXVII.
А все здесь небо сине; блещут нивы;
Дубравы негой полны; воздух чист;
Как в дни Минервы, зреют здесь оливы,
И пчел Гимета сладкий мед душист;
Уныл и дик, как прежде, вид ущелий,
Но Феб поля лучами золотит,
И белоснежен мрамор гор Мендели;
Искусство, воля, слава отлетели,
Природа лишь одна не изменила вид.
LXXXVIII.
В Элладе все светло и величаво,
И сказки муз для нас не сказки там,
Где каждый камень дышит прежней славой
И весть о ней передает векам.
Поля сражений, горы и долины
Смеются над теченьем грозных лет,
Что превращают храмины в руины;
Прошли века, разрушены Афины,
А Марафонский дол дивит, как прежде, свет.
LXXXIX.
Все тот же он, лишь пахарь изменился:
В ту землю он рабом вонзает плуг;
Как в дни былые, с нею лавр сроднился;
Ее, как встарь, лучами греет юг;
Но иностранца стала достоянье
Земля, где перед греками главу
Склонили персы; живы те преданья!
При слове: Марафон – воспоминанья[124]124
«Siste viator, – heroa calcas!» (Стой, путник, ты попираешь прах героя!) такова была эпитафия знаменитого графа Мерси {Франсуа Мерси де-Лоррэн, сражавшийся против протестантов во время Тридцатилетней войны, был смертельно ранен в сражении при Нордлингене, 3 августа 1645 г.}). Что же должны мы чувствовать, стоя на кургане двухсот греков, павших при Марафоне? Главная могила недавно была раскопана Фовелем; исследователем было найдено лишь немного остатков древности (ваз и т. д.). Мне предлагали купить Марафонскую равнину за 16 тыс. пиастров, – около 900 фунтов стерлингов. Увы! «Expende quot libras in duce summo – invenies!» (Взвесь – и узнаешь, сколько фунтов в главном вожде!) {Стих Ювенала (Expende Annibaltm, и пр.), взятый эпиграфом к оде Байрона) «К Наполеону Бонапарту» написанной 10 апреля 1814 г. См. выше, стр. 345.}. Неужели прах Мильтиада не стоил больше? Я едва ли мог бы купить иначе, как на вес» (Прим. Байрона). Байрон посетил Марафон 25 янв. 1810 г.
[Закрыть]
Нам представляют тень былого наяву.
ХС.
Войска схватились; длится бой кровавый;
Мидянин лук бросает и колчан,
За ним несется грек, покрытый славой,
И смерть за ним летит, как ураган.
Какой трофей оставили нам годы
В стране, где слезы Азия лила,
Где озарил Элладу блеск свободы?
Немых гробниц разрушенные своды,
Обломки урн, – вот все, что лет скрывала мгла.
XCI.
А все ж весь мир святые чтит преданья;
Страну побед и песен как забыть?
Все ветра ионийского дыханье
К ней пилигримов будет приводить.
Рассказы о величии Эллады
И юноши, и старца тешат слух;
Священным песням Музы и Паллады
Мудрец внимает с светлою отрадой,
Они ж, даря восторг, певца возносят дух.
ХСІІ.
Кто счастлив, кто любим в отчизне дальней,
Пусть рвется к ней; но тот, чья ноет грудь,
Кто одинок и думой смят печальной,
Тот в Грецию направить должен путь:
Унынью вторят грустные картины,
Что путник каждый миг встречает там;
Страдальцу милы мрачные руины,
Не вспомнит он о родине с кручиной,
Глядя на Марафон иль на Дельфийский храм.
XCIII.
На этот край священный бросим взгляды,
Но пощадим остатки прежних дней;
И так он был ограблен без пощады, —
Не оскверним забытых алтарей!
Мы чтить должны, что было прежде чтимо,
Чтоб темного не наложить пятна
На родину. Пройдем со вздохом мимо
И пусть в стране, где с детства все любимо,
Проходит наша жизнь, и чар, и грез полна.
ХСІV.
И я, в часы досуга песню эту
Сложивший, буду скоро позабыт!
Без боя уступаю лавр поэту,
Что голос мой победно заглушит.
Когда судьба нещадною рукою
Сгубила тех, чьих жаждал я похвал,
Меня не тронешь лаской иль хулою,
Ухаживать зачем мне за толпою,
Когда, осиротев, я одиноким стал?
ХСV.
Меня любя, и ты навек почила,
О юная подруга юных дней!
Ты мне одна, одна не изменила,
Я ж недостоин был любви твоей.
Погибла ты, зачем же дни влачу я?
Зачем узнал я счастье и любовь?
О них лишь вспоминать могу, тоскуя.
Зачем вернулся я, беды не чуя,
Когда, гоним судьбой, уехать должен вновь?
ХСVI.
Подруга незабвенная! мне больно
О светлых днях блаженства вспоминать,
А к прошлому несется мысль невольно
И на чело кладет тоски печать.
Все у меня взяла, что взять лишь может
Немая смерть. Она сгубила всех,
Кого любил я в жизни. Не поможет
Отчаянье. Она удары множит,
И в жизни для меня нет более утех.
ХСVII.
Ужель толпы ничтожные восторги
Я буду разделять, сроднившись с ней,
Иль ночи проводить средь шумных оргий,
Где уязвляет душу смех гостей?
Но в силах ли веселость без причины
Похоронить следы душевных гроз?
Мертвящий смех не может скрыть кручины;
Он только на лице чертит морщины,
Где потекут потом струи горючих слез.
ХСVIII.
Что старости так отягчает бремя,
Морщины углубляя на челе?
Сознанье, что друзей сгубило время,
Что одинок страдалец на земле.[125]125
Эта строфа была написана 11 октября 1811 г. В тот же день Байрон писал Далласу: «Смерть опять нанесла мне удар: я лишился человека, который был мне очень дорог в лучшие дни; но «я почти совсем забыл вкус горя», {См. введение, стр. 4–5.} и «ужасом напитан» {Выражения Макбета (V, 5).} до того, что стал совсем бесчувственным; у меня не осталось ни одной слезы для такого события, которое, пять лет тому назад, пригнуло бы меня головой к земле. Мне как будто суждено было в юности испытать все величайшие несчастия моей жизни. Друзья падают вокруг меня, и я останусь одиноким деревом раньше, чем засохнуть. Другие люди всегда могут найти себе убежище в своей семье; у меня нет убежища, кроме собственных размышлений, а они не дают никакого утешения ни теперь, ни в будущем, кроме эгоистического удовольствия переживать людей, которые лучше меня. Я в самом деле очень несчастен, и вы извините меня за то, что я это говорю, так как вам известно, что я не способен притворяться чувствительным».
[Закрыть]
Узнав все жизни беды и невзгоды,
Покорно я склоняюсь пред судьбой.
Моих друзей могилы скрыли своды;
Так каньте ж в вечность, тягостные годы,
Что муки старости сплели с моей весной!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































