Текст книги "Чайльд Гарольд"
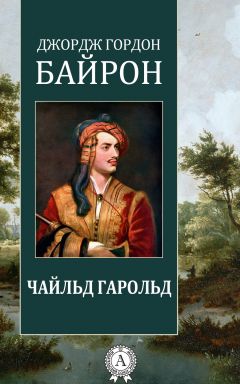
Автор книги: Джордж Байрон
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОЙ ПЕСНЕ
Visto ho Toscana. Lorabardia, Romagna, quoi Monte che divide, e quel che serra Italia, e un mare e Taltro die la bagna.
Венеция, 2-го января, 1818.
Джону Гобгаузу, Эсквайру, А. M. (Artium Magister магистру искусств), F. R. S. (Fellow of the Royal Society – члену Королевского Ученого Общества) и т. д., и т. д.
Дорогой Гобгауз. После промежутка в восемь лет между первой и последней песнями «Чайльд Гарольда», теперь выходит в свет конец поэмы. Вполне понятно, что, расставаясь с таким старым другом, я прибегаю за утешением к еще более старому и лучшему другу, который присутствовал при рождении и при смерти того друга, с которым я теперь расстаюсь, – к человеку, которому я более обязан за его мудрую дружбу, чем я могу или мог бы быть благодарен – при всей моей признательности ему – Чайльд-Гарольду за симпатии публики, перешедшие от поэмы и к ее автору. Вполне естественно, что я прибегаю к тому, кого я долго знал и кого сопровождал в далекие путешествия, кто ухаживал за мной, когда я был болен, утешал меня в моих печалях, радовался моим удачам, был верен, когда мне приходилось круто, был надежным советчиком, опорой в опасностях, испытанным другом, никогда не отказывавшим в поддержке – т. е. к вам.
Обращаясь к вам, я от вымысла иду к истине. Посвящая вам завершенное, или, во всяком случае, законченное поэтическое произведение – самое длинное, самое продуманное и понятное из всего, что я писал, я хочу оказать честь самому себе напоминанием о многолетней близкой дружбе с человеком ученым, талантливым, трудолюбивым и благородным. Таким людям, как мы с вами, не подобает ни льстить, ни принимать лесть – но дружбе всегда разрешалась искренняя хвала. И если я пытаюсь отдать должное вашим качествам, или, вернее, вспомнить, чем я им обязан, то делаю я это не для вас и не для других, а для моего собственного утешения – ведь ни в ком и никогда за последнее время я не находил достаточного доброжелательства ко мне, которое бы помогло мне стойко перенести горесть разлуки с моим трудом. Даже число, помеченное на этом письме – годовщина самого несчастного дня в моем прошлом, воспоминание о котором, однако, не будет отравлять моей дальнейшей жизни, пока меня будет поддерживать ваша дружба и сознание моих сил – станет отныне более приятным для нас обоих; оно напомнит нам о моей попытке выразить вам признательность за вашу неустанную любовь ко мне; мало кто изведал в жизни такую привязанность, а если такое чувство выпадало на чью-либо долю, то оно вызывало более возвышенное представление о других людях и о себе.
Нам привелось побывать вместе, в разное время, на родине рыцарства, великого исторического прошлого и древних мифов – в Испании, Греции, Малой Азии и Италии; и то, чем были для нас несколько лет тому назад Афины и Константинополь, стали в более недавнее время Венеция и Рим. И моя поэма также, или ее герой-скиталец, или оба вместе, сопровождали меня от начала до конца путешествия; и да простится мне суетная гордость, которая побуждает меня относиться с любовью к произведению, которое до некоторой степени связывает меня с местом, где оно было написано и с предметами, которые оно пытается описать; и хотя оно мало достойно этих волшебных и достопамятных мест и очень слабо отвечает нашим далеким представлениям и непосредственным впечатлениям, все же, как знак преклонения перед тем, что достойно уважения как проявление чувств, возбуждаемых величием, оно было для меня источником радости во время работы, и я расстаюсь с ним с некоторым сожалением; я даже не ожидал, что события жизни оставят в моей душе место для такого отношения к вымыслу.
Что касается содержания последней песни, то в ней отведено меньше места герою-скитальцу, чем в предыдущих, и даже когда он появляется, то почти совсем не отделен от автора, говорящего от своего собственного имени. Я устал проводить границу, которую все равно никто не признает; подобно тому, как никто не верил, что китаец в «Гражданине мира» Гольдсмита действительно китаец, так и я напрасно заявлял и воображал, что установил различие между скитальцем и автором; стремление проводить это различие и досада на то, что все мои старания в этом отношении тщетны, так мешали моей работе, что я решил отказаться от этого совершенно – и так и сделал. Все мнения на этот счет, в настоящее время и в будущем, утрачивают отныне всякое значение; поэма должна отвечать сама за себя – и не быть в зависимости от автора; поэт же, у которого нет ничего в распоряжении, кроме известности, временной или постоянной, создаваемой его литературными стараниями, заслуживает общей судьбы всех писателей.
В нижеследующей песне я имел намерение, в тексте или в примечаниях, коснуться современного состояния итальянской литературы и даже нравов. Но я вскоре убедился, что текста, в тех размерах, которые я определил себе, недостаточно для целого лабиринта внешних предметов и для связанных с ними размышлений, а большинством примечаний, за исключением немногих и самых кратких, я всецело обязан вам; мои собственные примечания ограничиваются только разъяснением текста.
Рассуждать же о литературе и нравах нации, столь различной от своей собственной, задача весьма трудная – и едва ли благодарная. Это требует столько наблюдательности и беспристрастия, что мы не решились бы довериться своему суждению или, по крайней мере, не высказали бы его сразу, без более тщательной проверки своих наблюдений – хотя мы и не совсем лишены наблюдательности, и знаем язык и нравы народа, среди которого мы недавно жили. Литературные так же, как и политические отношения, по-видимому так обострились, что иностранцу почти невозможно оставаться вполне беспристрастным относительно них; но достаточно – по крайней мере, для моей цели – сослаться на то, что сказано на их собственном языке:– «Ми pare che in un paese tutto poetico, che vanta la lingua la più nobile ed insieme la più dolce, tutte tutte le vie diverse si possono tentare, e che sinche la patria di Alfieri e di Monti non ha perduto Pantico valore, in tutte essa dovrebbe essere la prima».[177]177
Мне кажется, что в стране, где все исполнено поэзии, в стране, которая гордится самым благородным и в то же время самым красивым языком, еще открыты все дороги, и, поскольку родина Альфьери и Монти не утратила прежнего величия, она во всех областях должна быть первой (итал.).
[Закрыть] В Италии есть еще великие имена: Канова, Монти, Уго Фосколо, Пиндемонте, Висконти, Морелли, Чиконьяра, Альбрици, Меццофанти, Маи, Мукстоксиди, Алиетти и Вакка обеспечивают современному поколению почетное место в большинстве отраслей искусства, науки и Belles-Lettres; и в некоторых областях искусства вся Европа, весь мир – имеет лишь одного Канову.Альфиери где-то сказал: «La pianta uomo nasce più robusta in Italia che in qua lunque altra terra – e che gli stessi atroci delittiche vi se commettono ne sono la prova».[178]178
Лоза человеческая рождается в Италии более мощной, чем где бы то ни было, и это доказывают даже те преступления, которые там совершаются (итал.).
[Закрыть] He подписываясь под второю частью фразы, заключающею очень опасную теорию – справедливость ее можно оспаривать тем, что итальянцы ни в каком отношении не более жестоки, чем их соседи, – нужно, однако намеренно закрывать глаза, или быть совершенно ненаблюдательным, чтобы не поражаться удивительной даровитостью этого народа, его восприимчивостью, способностью все усваивать, быстротой понимания, кипучестью их гения, чутьем красоты и сохранившейся среди невзгод повторяющихся революций, ужасов сражений и вековых страданий «жаждой бессмертия» – бессмертия независимости. И когда мы сами ездили верхом вокруг стен Рима и слышали простую грустную песнь рабочих «Roma! Roma! Roma! Roma non è più come era prima», трудно было не противопоставлять этот печальный напев разнузданному реву торжествующих песен, все еще раздающемуся в лондонских тавернах по поводу кровопролитий при Mont St. Jean и предательства Генуи, Италии, Франции и всего мира людьми, поведение которых вы сами обличили в труде, достойном лучших времен нашей истории. Что касается меня —O том, что выиграла Италия недавним перемещением наций, англичанам бесполезно справляться, пока не подтвердится, что Англия приобрела еще нечто кроме постоянной армии и отмены Habeas Corpus; лучше бы они следили за тем, что происходит у них дома. Что касается того, что они сделали за границами своей страны и в особенности на юге, то – «они наверное получат возмездие», и не в очень отдаленном времени.
Желая вам, дорогой Гобгауз, благополучного и приятного возвращения в страну, истинное благополучие которой никому не может быть дороже чем вам, я посвящаю вам эту поэму в ее законченном виде и повторяю еще раз искреннее уверение в преданности и любви вашего друга,
Байрона.
ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ
I.
Взошел на Мост я Вздохов, где видны
По сторонам его дворец с темницей
И, крыльями веков осенены,
Вздымаются громады из волны,
Как бы волшебной вызваны десницей.
Улыбкой славы мертвой озарен
Здесь ряд веков; тогда с морской царицей,
На сотне островов воздвигшей трон —
Крылатый Лев царил в тени своих колонн.[180]180
«Мост вздохов» (Ponte de'Sospiri) разделяет или, лучше сказать, соединяет дворец дожей и государственную тюрьму: таково объяснение Байрона, который в трагедии «Двое Фоскари» (д. IV, явл. 1) также упоминает о мосте, «через который многие проходят, но не многие возвращаются». Это последнее упоминание заключает в себе, однако же, анахронизм: Мост Вздохов был построен Антонио де-Понте в 1597 г., более ста лет спустя после смерти Франческо Фоскари. По замечанию Рескина, он представляет «произведение незначительное и позднейшого периода, обязанное своей славой только красивому названию да сентиментальному неведению Байрона». Ср. «Исторические Примечания», I.
«Крылатый лев», опирающийся одною лапою на раскрытое евангелие от Марка, – герб Венецианской республики, украшающий, между прочим, одну из исторических двух колонн Пьяццетты. В 1797 г. он был, вместе с другими венецианскими сокровищами, увезен в Париж, откуда возвращен в 1815 г., но без двух больших карбункулов, которые прежде были вставлены в его глаза.
[Закрыть]
II.
Цибеле, порожденной океаном,[181]181
«Сабеллик, описывая внешность Венеции, употребил это сравнение, которое не имело бы поэтического достоинства, если бы не было верно: «Quo fit ut qui superne (ex specula aliqua eminentiore) urbem contempletur, turritam telluris imaginem medio oceano fоguratam se putet inspicere» (Примеч. Байрона).
[Закрыть]
Она подобна – госпожа морей
И сил морских с короною своей
Из башен горделивых. В ней приданым
Добыча войн была для дочерей.
Лились с Востока все богатства в мире
На лоно к ней; к себе она царей
Звала на пир, являяся в порфире,
И честью все они считали быть на пире.
III.
В Венеции замолкла песнь Торквато,[182]182
Ср. «Исторические Примечания», II. В старину у гондольеров было в обычае петь поочередно строфы из «Освобожденного Иерусалима» Тассо, прерывая друг друга на манер пастухов в «Буколиках». Иногда оба певца помещались на одной и той же гондоле; но часто ответ давался и проезжавшим мимо гондольером, посторонним тому, кто первый начал петь. Ср. Гете, Письма из Италии, 6 окт. 1786: «Сегодня вечером я разговаривал о знаменитых песнях моряков, которые распевают Тассо и Ариосто на своя собственные мотивы. В настоящее время это пение можно слышать только по заказу, так как оно принадлежит уже к полузабытым преданиям минувшего. Я сел в гондолу при лунном свете; один певец поместился впереди, другой – сзади меня; они запели, чередуясь», и пр.
[Закрыть]
Безмолвно правит гондольер веслом,
Здесь в разрушенье – не одна палата,
Нет песен неумолчных, как в былом,
Искусство, троны – гибнут без возврата.
Живет природа, красота – жива,
Им памятна Венеция – когда-то
Край вечных карнавалов, празднества,
Как шла о том по всей Италии молва.
IV.
Есть обаянье в ней, что нам дороже
Побед и героических теней,
Во тьме скорбящих об утрате дней,
Когда со славой царствовали дожи.
Падет Риальто, но бессмертны в ней
Трофеи наши – Мавр и Шейлок. Зданья
Они – венец; пускай волной своей
Все смоют здесь века до основанья —
Пустыню населит лишь их существованье.
V.
Созданья духа в существе своем
Бессмертные – струят потоки света
И нас дарят отрадным бытием.
Мы – тленного рабы, и без просвета
Влачили б жизнь, но образы поэта,
Вражды людской смягчая остроту,
Дают возможность нового расцвета,
И заполняют сердца пустоту,
Давно увядшего еще в своем цвету.
VI.
Таков приют дней юных и преклонных;
Сперва – Надежда, позже – Пустота
Ведут к нему. Плоды чувств утомленных —
Ряды страниц, а в их числе – и та,
Что предо мной. Прекрасней, чем мечта,
Порою все ж действительность бывает,
И сказочного неба красота,
Созвездий тех, что Муза рассыпает
В своих владениях, – ей в блеске уступает.
VII.
Как истина, являлись мне во сне
Иль наяву подобные виденья,
И уходили, словно сновиденья.
Пусть это – сон, еще живут во мне
Те образы и – таковы вполне,
Какими их я видел временами.
Но пусть они уходят! В глубине
Рассудок трезвый управляет нами
И называет их болезненными снами.
VIII.
Я научился языкам другим,
Среди чужих не слыл я за чужого,
И оставался дух собой самим.
Не трудно обрести отчизну снова,
Чтоб жить с людьми, иль жить, как нелюдим,
Но там рожден я, где в сердцах народных
Таится гордость бытием своим;
Покину ль остров мудрых и свободных,
Чтоб новый дом найти за далью вод холодных?
IX.
Родимый край любим, быть может, мной,
Расстанься, – дух мой на чужбине с телом
Вернулся бы мой дух к стране родной,
Когда б он мог за гробовым пределом
Сам избирать приют себе земной.
Пусть с языком родным в воспоминанье
И я живу, но если жребий мой
Со славою моей – в согласованье,
Так скор его расцвет и быстро увяданье.
X.
Когда забвеньем буду удален
Из храма, где чтут имена покойных,
Пусть лавр венчает более достойных,
Мой холм пусть будет надписью почтен:
«У Спарты есть сыны славней, чем он».[183]183
«Так ответила мать спартанского полководца Бразида одному чужеземцу, восхвалявшему доблести ее сына» (Прим. Байрона).
[Закрыть]
Любви я не ищу, и терны гнева,
Которыми я в кровь был уязвлен,
Они – от мной посаженного древа:
И лишь таких плодов мог ждать я от посева.
XI.
Вдовеет Адриатика в печали,
Не повторен венчания обряд,
На Буцентавре снасти обветшали[184]184
Буцентавр – государственный корабль, на котором венецианский дож, в день Вознесения, совершал свое «обручение с Адриатикой», бросая в море кольцо. Гете, в письмах из Италии, 5 окт. 1786 г., говорит: «Чтобы дать понятие о Буцентавре одним словом, следует сказать, что это – государственная галера. Старое судно, рисунки которого сохранились, более соответствовало этому названию, чем нынешнее, которое уже чересчур богато всевозможными украшениями; оно, можно сказать, все состоит из одних орнаментов, до такой степени оно ими переполнено…» Буцентавр был сломан французами в 1797 г.
[Закрыть] —
Заброшенный вдовой ее наряд;
Как жалок ныне Лев среди громад
На площади, куда с мольбой смиренной
Шел император. Завистью объят,
Стоял там не один монарх надменный
В дни пышности ее и славы несравненной.
XII.
Где шваб молил – теперь австрийца трон.
Монарх ногою попирает плиты,
Где был монарх коленопреклонен.
Там царства все на области разбиты,
И в городах – цепей неволи звон.
С высот величья пал народ: лавине,
Катящейся с горы, – подобен он.
Где Дандоло – великий старец – ныне,
Который сокрушил Царьград в его гордыне?
XIII.
Здесь солнца луч над конницею медной
Святого Марка блещет, как тогда,
Но Дории угроза не бесследной
Осталася: и на конях – узда.
Чтоб избежать в падении стыда,
С тринадцатью столетьями свободы
Венеция уходит навсегда,
Как водоросль, в свои родные воды:
Так лучше, чем влачить в позоре рабства годы.
XIV.
Она была в дни юной славы – Тиром,
Присвоила побед ее молва
Ей имя «Насадительницы Льва»,[185]185
«То есть – Льва св. Марка, венецианского знамени, откуда происходить слово «Панталон»– Pianta-Leone, Pantaleon». (Прим. Байрона).
Венецианцам в шутку дано было прозвище: «Pantaloni». – Байрон, видимо, доверившись авторитету какого-нибудь венецианского словаря, полагает, что это прозвище обязано своим происхождением патриотизму венецианцев, о которых говорили, что они водружают свои знамена с изображением Льва на каждой скале и на всяком бесплодном мысе в водах европейского Востока, и что эта страсть к разбрасыванию своих знамен послужила поводом для соседей в шутку называть венецианцев «насадителями Льва». Вернее другое объяснение, сближающее это прозвище с Pantalone, одним из типов итальянской commedia dell'arte, и с именем Pantaleone, которое венецианцы часто давали своим детям, в честь святого Панталеона или Пантелеймона Никомидийского, врача-мученика, очень почитаемого в северной Италии и особенно в Венеции, где находились и его мощи, прославленные чудесами.
[Закрыть]
В морях, на суше, над подвластным миром,
Сквозь дым и кровь, звучали те слова.
Европы всей от мусульман охрана!
Ты это помнишь, Кандия! Жива
Лепанто память, волны океана![186]186
Кандия и весь остров Крит были отняты у Венеции 29 сентября 1669 г., после геройской защиты, продолжавшейся 25 лет и несравненной по храбрости в летописях венецианской республики. Битва при Лепанто, 7 октября 1751 г., продолжалась пять часов; в ней пало 8.000 христиан и 30.000 турок. Слава этой победы принадлежит Себастиану Вениеро и венецианцам.
[Закрыть]
Не уничтожат их века и власть тирана.
XV.
Покоится во прахе дожей ряд,
Как статуи осколки. Величавы —
Лишь их дворцы о прошлом говорят.
Разбитый скипетр, меч их, – ныне ржавый,
Сдались врагу. Безмолвие палат
И узких улиц, вид чужих постылый —
Напоминает все врагов захват
И над стеной Венеции мне милой
Нависло тучею отчаянья унылой.
XVI.
Когда в цепях вступали в Сиракузы
Плененные афинские войска —
Их выкупом явился голос Музы
Аттической, звуча издалека.[187]187
Плутарх, в биографии Никия, гл. 29, рассказывает, что трагедии Эврипида пользовались повсюду в Сицилии такой славой, что афинские пленники, знавшие отрывки из них, приобрели расположение своих господ.
[Закрыть]
Смотри, как победителя рука
Роняет повод, он – певцу в угоду
Бросает меч, и – милость велика:
Сняв цепь неволи, он велит народу
Благодарить певца за песнь и за свободу.
XVII.
Венеция, не будь иного права,
Иных деяний славных за тобой,
И тут певца божественного слава,
Дух Тассо – узел рабства роковой
Должны б рассечь. Позорен жребий твой
Для всех земель, и вдвое – Альбиону.[188]188
По Парижскому трактату 3 мая 1814 г., Ломбардия и Венеция, составлявшие со времени Аустерлицкого сражения часть францусского Неаполитанского королевства, были переданы Австрии. Представителем Великобритании на конгрессе был лорд Кэстльри.
[Закрыть]
Царь, как и ты, над бездною морской —
Как ты, утратить может он корону,
Хотя из волн морских и создал оборону.
XVIII.
Волшебный город сердца! С детских дней
Ты дорог мне; богатство, радость мира —
Как ряд колонн, встаешь ты из морей.
Ратклифф, Отвэя, Шиллера, Шекспира
Созданьями навек в душе моей
Запечатлен твой светлый образ живо.
В своем упадке ты еще милей,
Чем в дни, когда являлся горделиво
В великолепии и блеске – всем на диво.
XIX.
Тебя прошедшим населил бы я,
Но и теперь для глаз и размышленья
Есть многое в тебе. В ткань бытия
Вплетенные счастливые мгновенья —
Венеция, на них краса твоя
Набросила оттенок свой. Не властна
Смыть чувства эти времени струя,
Исторгнуть – пытка, как ни будь ужасна,
Иль замерли б давно они во мне безгласно.
XX.
Высокая альпийская сосна
Вздымается на высоте холодной,
От бурь жестоких не защищена,
На почве каменистой и бесплодной.
И все ж размер ее и вышина
Становятся громадными; как глыбы,
Среди камней раскинула она
Корней своих гигантские изгибы:
И силы духа в нас так разрастись могли бы.
XXI.
Страдание пустить свой корень властно
В сердцах опустошенных. Выносить
Возможно жизнь. Верблюд – свой груз влачить,
Волк – умирать, привыкли все безгласно.
Пусть их пример не пропадет напрасно.
Ведь если зверь, что глуп или жесток,
В молчании страдает так ужасно,
То мы, чей разум ясен и глубок —
Сумеем закалить себя на краткий срок.
XXII.
Страдающий – страданьем уничтожен,
Иль сам уничтожает скорби власть;
Одним – возврат на прежний путь возможен,
И ткань свою они стремятся прясть,
Других же губит ранняя напасть,
Как тростники их слабую опору.
Согласно с тем: возвыситься иль пасть
Дух осужден – стремятся все к раздору
Иль к миру и труду, к добру или к позору.
XXIII.
Но скорбью побежденною оставлен
Бывает чуть заметный след всегда;
Как жало скорпиона, он отравлен,
И малости довольно иногда,
Чтоб вызвать гнет, что сбросить навсегда
Желали б мы. Все ранит: звуки пенья,
Цветок, весна, закат и волн гряда.
Той цепи грозовой, которой звенья
Оковывают нас, болезненно давленье.
XXIV.
Как? Отчего мысль эта зародилась
В нас молнией – неведомо оно,
Но потрясенье резко повторилось
И не стереть ожога нам пятно.
Ей воскресить рой теней суждено
Среди событий жизни обыденных,
И их прогнать заклятьям не дано.
Как много их и мало: измененных,
Давно оплаканных, любимых, погребенных!
XXV.
Но мысль моя блуждает. Средь развалин
Развалина сама, пусть в тишине
Она о том мечтает, как печален
Удел величья падшего в стране,
Что всех была славней, и в эти годы —
Прекрасней всех. Она венцом природы
Божественной всегда казалась мне.
И в дни геройства, красоты, свободы
Покорны были ей и земли все, и воды.
XXVI.
Монархов достоянье, люди Рима!
Италия! Всего, что создают
Искусство и природа, ты – приют.
Сад мира, чья краса неистребима,
Ты и в своем упадке несравнима,
Ты в трауре – прекрасней, в нищете —
Других богаче ты невыразимо,
В крушении – стоишь на высоте
И в незапятнанной сияешь чистоте.
XXVII.
Луна взошла, еще не ночь. Закат
С ней делит небеса, и морем света
Залит фриульских гор лазурный скат.[189]189
Фриульские горы – отроги Альпов, лежащие к северу от Триеста и к сев. – востоку от Венеции; их можно видеть с Лидо.
«Заключающееся в этой строфе описание может показаться фантастическим или преувеличенным тому, кто никогда не видел восточного или итальянского неба; но здесь лишь буквально и едва ли с достаточною яркостью изображен один августовский вечер (18-го числа), виденный автором во время поездки верхом вдоль берегов Бренты, близ Ла-Миры». (Примеч. Байрона).
[Закрыть]
Чист небосвод, и радужного цвета
Оттенками на западе богат —
Иридою он блещет. Переходит
Там в вечность. День; сиянием объят,
Насупротив Дианы щит восходит,
Как остров, где приют дух праведных находит.
XXVIII.
Одна звезда с ней блещет на просторе,
Чарующем небес, но до сих пор
Еще струится солнечное море
И заливает высь Ретийских гор,
Как будто День и Ночь вступили в спор.
Природа водворяет мир желанный;
Любуясь тихой Брентой,[190]190
Брента берет начало в Тироле и, протекая мимо Падуи, впадает в лагуну у Фузины. Мира или «Ла-Мира», где Байрон провел лето 1817 г. и опять был в 1819, лежит на Бренте, в шести или семи милях от лагуны.
[Закрыть] видит взор,
Как роза пурпур свой благоуханный
Склоняет к ней, струи окрасив в цвет багряный.
XXIX.
Там лик небес далеких отражен
В чарующем разнообразье сказки:
Созвездий дивный блеск, заката краски.
Но вот все изменилось, горный склон
Покровом бледной тени омрачен.
В дне гаснут жизнь и краски, как в дельфине:
В предсмертных муках отливает он
Цветами всеми, краше – при кончине,
Лишь миг – и тускло все, безжизненно отныне.
XXX.
Есть в Аркуе старинная гробница,
Лауры в ней возлюбленного прах;
Паломников приходит вереница
Почтить его. Он возродил в стихах
Язык родной, на иго восставая,
Что внес в его отчизну варвар-враг.
И лавр слезами песен обливая,
Достиг он тех вершин, где – слава вековая.
XXXI.
И в Аркуе, где встретил он кончину,
В селенье горном прах его храним,
Там на закате он сходил в долину
Преклонных лет. В селе гордятся им,
И предлагают осмотреть чужим
Гробницу, дом его. Неприхотливо
И просто все, но будучи таким,
Здесь более уместно и правдиво,
Чем зданья пирамид, воздвигнутых на диво.
XXXII.
Всех, что земного бренность сознают,
Манит к себе спокойное селенье,
Оно – надежд обманутых приют
В тени холмов зеленых. В отдаленье
Там в городах кипят и жизнь, и труд,
Но все очарованья их напрасны,
И более они не привлекут
Отшельника к себе: луч солнца ясный —
Вот праздник для него поистине прекрасный.
XXXIII.
Луч солнца золотит своим узором
Цветы, листву, холмы и зыбь ручья,
Часы уединенья, над которым
Текут светло, как и его струя,
Не праздные в созвучье бытия.
Мы в свете – жизнь, в уединенье строгом —
Смерть познаем. Защиты от нея
Здесь нет в льстецах, в тщеславии убогом.
В единоборство мы вступаем с нашим Богом
XXXIV.
Иль с демоном, что ослабляет дум
Благих порыв, людьми овладевая,
Чей с юных лет меланхоличен ум.
Страшась, что ждет их доля роковая,
Они во тьме и страхе пребывая,
Страданий без конца предвидят ряд.
Блеск солнца – кровь, земля – тьма гробовая,
Могила – ад, и даже самый ад —
Страшнее чем он есть – им кажутся на взгляд.
XXXV.
Когда иду по улицам Феррары,
Что широки, но поросли травой,
Мне кажется, что злых проклятий чары
Род Эсте наложил на город свой.[191]191
Из представителей древней фамилии Эсте, маркизов Тосканских, Аццо V впервые получил власть над Феррарой в XII столетии. Его дальний потомок, Николо III (1384–1441), основал Пармский университет. Его второю женою была Паризина Малатеста (героиня Байроновской Паризины, изд. в 136 г.), обезглавленная за нарушение супружеской верности в 1425 г. Три его сына – Лионель (ум. 1450), друг Поджио Браччиолини, Борсо (ум. 1471), который ввел в своих владениях книгопечатание, и Эрколо (ум. 1505), друг Боярдо, – все были покровителями наук и ревнителями Возрождения. Их преемник, Альфонс I (1486–1536), женившийся (1502) на Лукреции Борджиа, прославил себя, приблизив к своему двору Ариосто; а его внук, Альфонс III (ум. 1597), сначала был другом Тассо, а потом объявил его сумасшедшим и заключил в больницу св. Анны (1579—86).
[Закрыть]
Там – прихотью тиранов вековой —
Являлся он то палачем суровым,
То другом всех избранников – с главой
Увенчанною тем венком лавровым,
Что Данте первому достался в веке новом.
XXXVI.
Их слава – Тассо, он же – их позор.
Легко ль достиг он славы несравненной?
Припомнив песнь, в ту келью бросьте взор,
Куда поэта вверг Альфонс надменный.
Но угасить не мог тиран презренный
Великий ум поэта своего
И этою ужасною гееной
Безумия, и Тассо торжество
Прогнало сумрак туч; вкруг имени его
XXXVII.
Хвалы и слезы всех времен. В забвенье
Меж тем исчезла б память о тебе,
Как прах отцов – когда-то самомненья
Исполненных, не будь к его судьбе
Причастен ты: теперь твои гоненья
Нам памятны, и герцогский твой сан
С тебя спадает. Будь происхожденья
Иного ты, родился б ты, тиран,
Рабом того, кто был тебе на муки дан.
XXXVIII.
Ты, что подобно тварям бессловесным,
Чтоб есть и умереть был сотворен,
Но только хлев твой менее был тесным,
Роскошнее – твое корыто. Он,
Сияньем вечной славы осенен,
Что Бруски с Буало глаза слепило:
Не допускал тот, завистью смущен,
Чтоб песнь иная лиру пристыдила
Францусскую, чей звук слух режет, как точило.
XXXIX.
Мир памяти Торквато оскорбленной!
При жизни, в смерти – вечный твой удел,
Певец, никем еще не побежденный —
Мишенью быть для ядовитых стрел.
Нас каждый год дарит толпой мильонной,
Но равного тебе не может дать
И поколений ряд соединенный.
Хотя бы вместе все лучи собрать —
То солнца одного мы не могли б создать.
XL.
Велик ты, но земли твоей поэты
И до тебя носили в ней венец,
И ими ад и рыцарство воспеты.
Был первым он – Тосканы всей отец,
«Божественной комедии» творец,
И южный Скотт, что флорентинцу равный,
Волшебных песен создал образец,
И Ариосто севера стих плавный
Воспел войну, любовь, героев подвиг славный.
XLI.
У Ариосто статуи с чела
Однажды сорван был грозой суровой
Поддельный лавр. Пусть так. Венок лавровый,
Что слава вьет, не поразит стрела,
Подделка же бесчестить лишь могла
Чело певца; да будет несомненно
Для суеверных: молния – светла.
И очищает все она, что тленно,
С тех пор его чело вдвойне для нас священно.
XLII.
Италия! Красой одарена
Ты роковой: наследием кручины
В былом и ныне сделалась она,
И на челе твоем – скорбей морщины.
На нем горят позора письмена.
Будь в наготе ты меньшею красою
Иль большей силою наделена,
Чтоб устрашить грабителей, толпою
Сосущих кровь твою, упившихся слезою!
XLIII.
Внушая страх и не будя желанья,
Спокойно жить могла бы ты тогда,
О гибельном забыв очарованье.
С Альп не текла б насильников орда,
И в По кровавой не была б вода.
Оружье чужеземное собою
Тебя не ограждало б, и всегда
В победе, в поражении, чужою —
Врага ли, друга ли – ты не была б рабою.
XLIV.
В скитаньях ранних путь я проследил
Того, кто другом Туллия и Рима
Бессмертного, и римлянином был.[192]192
«Знаменитое письмо Сервия Сульпиция к Цицерону, по случаю смерти дочери последнего, описывает – в том виде, в каком он был тогда и находится еще и теперь – тот самый путь, по которому я часто проезжал в Греции во время различных моих поездок и путешествий по суше и по морю: «Возвращаясь из Азии, я плыл от Эгины к Мегаре и созерцал окружавшие меня страны; Эгина была за мною, Мегара – впереди, Пирей – направо, Kоринф налево; все эти города, некогда столь славные и цветущие, теперь лежат в развалинах и запустении. При этом зрелище я не мог не подумать: увы! что же мы, жалкие смертные, волнуемся и мучится, когда кто-нибудь из ваших друзей случайно умрет или будет убит, если жизнь человеческая вообще кратка, и если здесь, передо мною, лежат останки столь многих славных городов». (Примеч. Байрона).
[Закрыть]
Меж тем, как челн почти неуловимо
Обвеян опахалом ветра, плыл —
С Мегары взор я перевел к Эгине,
Коринф, Пирей – к себе его манил.
Как прежде – он, так созерцал я ныне,
Как их развалины слились в одной картине.
XLV.
Восстановить их время не могло,
И наряду с развалинами зданья
Лишь варваров жилища возвело,
Но тем дороже их очарованье —
Последний луч их мощи и сиянья.
Он видел их – гробницы, города,
Что возбуждают грусть и созерцанье;
Урок, что он в пути извлек тогда
Хранят для нас его страницы навсегда.
XLVI.
Страницы эти – здесь, а на моих
Занесено его страны паденье
Среди погибших государств других.
Он – их упадок, я – их запустенье
Оплакивал. Свершилось разрушенье:
Державный Рим, упав, чело склонил,
И чрез гигантский остов в изумленье
Проходим мы. Обломком мира был
Другого он, чей прах доселе не остыл.
XLVII.
Италия, твою обиду знать
Должны везде – от края и до края;[193]193
«Поджио, смотря с Капитолийского холма на разрушенный Рим, воскликнул: «Ut nunc omni decore nudata, prostrata jaceat, instar gigantei cadaveris corrupti atque indique exesi». (Прим. Байрона).
[Закрыть]
Ты – мать искусств, в былом оружья мать;
Твоя рука ведет нас, охраняя.
Отчизна веры! У тебя ключ рая
Молил народ, колена преклонив,
И грех отцеубийства проклиная,
Европа сдержит варваров наплыв:
Освободит тебя, прощенье испросив.
XLVIII.
К Афинам Этрурийским с дивным рядом
Их сказочных дворцов влечет Арно.
Холмы их окружают; с виноградом
Рог Изобилья сыплет там зерно,
И жизни улыбаться суждено.
Там с роскошью, торговлею рожденной,
На берегах смеющихся Арно
Явилася для жизни возрожденной
Наука, бывшая так долго погребенной.[194]194
Богатство, благодаря которому флорентийская знать могла удовлетворять своему вкусу к утонченной роскоши, было продуктом успешной торговли. Так, напр., Джиованни Медичи (1360–1428), отец Козимо и прадед Лоренцо, был банкиром и торговал на европейском Востоке. Что касается эпохи Возрождения, то, не говоря уже о флорентинском происхождении Петрарки, двое величайших итальянских ученых и гуманистов, Фичино (род. 1430) и Полициано (род. 1454) были флорентинцы; а Поджио родился (1380) в Терра-Нова, также на флорентинской земле.
[Закрыть]
XLIX.
Из мрамора богини изваянье
Там дышит красотой, полно любви,
Амврозии нежней ее дыханье —
Вливает в нас бессмертия струи,
Когда пред ней стоим мы в созерцанье.
Покров небес для нас полуоткрыт,
Сильней природы гения созданье,
Завидуем огню мы, что горит
В язычниках и дух из мрамора творит.
L.
Стоим, подобно пленных веренице,
Ослеплены красой, опьянены,
Прикованы к победной колеснице
Искусства мы, волнением полны.
Произносить слов пошлых не должны:
Долой язык торговцев шарлатанский!
Им сердце, взор в обман не введены,
Морочит лишь глупцов прием педантский,
И в выборе своем ты прав, пастух Дарданский.
LI.
Такою ли видал тебя плененный
Тобой Анхиз счастливый иль Парис,
Иль бог войны, тобою побежденный,
Когда простерт у ног твоих, он в высь,
Как на звезду, глядел в твой взор лазурный?
И в бархат щек уста его впились;
А поцелуи с уст твоих лились,
Подобно лаве – огненны и бурны
На лоб его, уста и веки, как из урны.
LII.
Пылая, разливаяся в любви,
Не властны боги выразить блаженство
Иль большого достичь в нем совершенства.
Они тогда равняются с людьми,
И мы в минуты лучшие свои
Равны богам. Все мы – под тяготеньем
Земного, – пусть! Мы рвемся от земли,
И образ создаем, верны виденьям,
Что в мире божества бывает воплощеньем.
LIII.
Нам рассказать и указать могли б
Художник, дилетант, мудрец, ученый,
Как сладострастен мрамора изгиб
И грации исполнен утонченной.
Пусть пробуют. Но образ, отраженный
В струе прозрачной, – их дыханья смрад
Не замутит: мечтой неомраченной
Пребудет он, что небеса таят
И в глубину души ее лучи струят.
LIV.
В обители священной Санта-Кроче
Есть прах; бессмертье в нем воплощено
И все святое им освящено,
Хотя он сам – частица славы бренной,
Что впала в хаос. Там лежат давно
Альфьери и Анджело; дивной цели
Достигший Галилей, кому дано
Страдание в удел; Маккиавели
Вернулся в землю там, где встал из колыбели.
LV.
Подобные стихиям четырем,
Здесь новый мир – Италию создали
Те гении. В течении своем
Пускай века порфиру истерзали
Твою в куски, но в славе отказали
Они другим – быть родиной умов,
Восставших из развалин. Осияли
Тебя лучи и при конце: таков
Канова твой, каким был сын былых веков.
LVI.
Но где ж этруски: Данте и Петрарка?
Где прах его – прозаика-певца,
Чье творчество едва ль не столь же ярко,
«Ста повестей» великого творца?
Не смешиваться должен до конца
Их прах с другим, как и они – с толпою.
Иль не нашлось для статуй их резца
И мрамора, что блещет белизною?
Ужель сыновний прах не взят землей родною?
LVII.
Флоренция, стыдись! Как Сципион,
На берегу, который оскорбленье
Нанес ему, спит Данте в отдаленье.
Раздорами сограждан изгнан он,
Но будет он детей детьми почтен
Из рода в род – в их вечной укоризне.
Петрарки лавр чужбиною взрощен,
И в славе он своей, в судьбе и в жизни,
В гробу ограбленном – остался чужд отчизне.[195]195
Данте умер в Равенне и был похоронен в церкви св. Франческо. Затем его останки перенесены были в мавзолей на монастырском кладбище, на северной стороне церкви, воздвигнутый в его память его другом и покровителем, Гвидо из Поленты. Этот мавзолей много раз ремонтировался, а в нынешнем своем виде был построен в 1780 г., на счет кардинала Луиджи Ванти Гонзага. Во время празднования шестисотлетия Данте, в 1865 г., было открыто, что – неизвестно, в какое именно время – его скелет, за исключением нескольких небольших костей, оставшихся в урне, составляющей часть постройки Гонзага, был переложен, для большей сохранности, в деревянный ящик и замурован в стену старой капеллы Браччиофорте, которая находится в стороне от церкви, по направлению к площади. Кости, найденные в этом деревянном ящике, были вновь положены в мавзолей, с большим торжеством и энтузиазмом, так как на поэта стали смотреть как на символ объединенной Италии. Самый же ящик сдан на хранение в публичную библиотеку. Во время своего первого пребывания в Равенне, с 8 июня по 9 августа 1819 г., Байрон жил в доме рядом с капеллой Браччиофорте.
Тит Ливий (кн. XXXVIII, гл. 53) рассказывает о Сципионе следующее: «С тех пор об Африканском ничего не было слышно. Он проводил свои дни в Литерне (на берегу Кампании) без мысли и без сожаления о Риме. Говорят, что когда он умирал, он отдал приказание, чтобы его и похоронили в этом же городке, и чтобы там же, а не в Риме, был поставлен и его надгробный памятник. Отечество было к нему неблагодарно, – и он не пожелал быть погребенным в Риме. «На его гробнице, по преданию, находилась надпись: «Ingrata patria, cineres meos non habebis». По другому преданию, он был похоронен вместе со своей семьей, в Риме, у Капенских ворот, близ Целийского холма.
[Закрыть]
LVIII.
Ей завещал Бокаччио[196]196
Джиованни Боккаччио род. в Париже или в Чертальдо в 1313 г., большую часть своей жизни провел во Флоренции, ум. в 1375 г. и был похоронен в Чертальдо, откуда, как говорили, происходила его фамилия. Его гробница, стоявшая посреди церкви св. Михаила и св. Иакова, была уничтожена в 1783 г., под тем предлогом, что новейший указ, запрещавший хоронить в церквах, должен был применяться также и к погребенным ранее. Камень, покрывавший гробницу, был сломав и выброшен, как негодный, в ограду. По словам Гобгоуза, в этом виновато столько же ханжество, сколько невежество; но трудно предположить, чтобы «ханжи-гиены», т. е. церковные власти, не знали о том, что Боккаччио был автором язвительных сатир на церковников. Они отомстили поэту, а Байрон, в свою очередь, отомстил им за Боккаччио.
[Закрыть] свой прах?
И реквием тому здесь слышат стены,
Кто создал речь тосканскую, в устах
Звучащую как пение сирены,
Как музыка? О, нет, ханжи-гиены
Разрушили и самый гроб его
(Хотя в гробу спит и бедняк смиренный),
Чтоб вырваться не мог ни у кого
И мимолетный вздох при взгляде на него.
LIX.
Без их останков Санта-Кроче пуст.
Но в этом – красноречие немое.
Отсутствовавший Марка Брута бюст
В триумфе Цезаря – сильнее вдвое
Всем римлянам напомнил о герое.[197]197
Байрон имеет в виду одну из торжественных процессий, устроенных по повелению Тиберия. Ср. Дон-Жуан, п. XV, стр. 49.
На похоронах Юнии, вдовы Кассия и сестры Брута, в 22 г. по Р. X., не позволено было нести бюсты ея мужа и брата, участвовавших в убийстве Цезаря. Тем не менее, по словам Тацита (Ann., III, 76), «Брут и Кассий блистали именно тем, что не видно было их изображений».
[Закрыть]
Равенна, Рима павшего оплот,
В земле твоей – изгнанник на покое.
И Аркуя прах славный бережет,
Одна Флоренция о мертвых слезы льет.[198]198
Надпись на памятнике Данте в церкви Санта-Кроче: «А majoribus ter frustra decretum» – относится к напрасным попыткам Флоренции приобрести останки своего некогда изгнанного поэта.
[Закрыть]
LX.
Что нам до пирамид ее, богато
Украсивших склеп торгашей-князей,
Порфира, яшмы, мрамора, агата?
Роса при свете звезд, во мгле ночей
Рождаясь вмиг, прохладою своей
Кропит траву, укрывшую собою
Холм, где поставлен Музой мавзолей,
И попираем дерн его стопою
Мы тише, чем плиту над княжеской главою.
LXI.
Там во дворце искусств, близ вод Арно,
Где живопись, палитрою блистая,
С ваянием борьбу ведет давно, —
Все манит взор, восторги вызывая.
Не для меня та прелесть неземная:
Сильней созданий гения пленит
Меня лесов, полей краса простая.
Хотя искусство ум мой поразит,
Но скрытого огня в душе не оживит.
LXII.
Люблю бродить, где плещет Тразимена,
В ущельях гор. Здесь гордый Рим познал
Военное коварство Карфагена.
Все войско римлян хитрый враг зазвал
В засаду здесь, меж озера и скал.
И храбрецы в отчаянье все пали.
И красен был ручьев набухших вал,
Когда они долину орошали,
Там, где тела бойцов кровавые лежали.
LXIII.
Как груды вихрем сломанных дерев.
И так была сильна гроза сраженья,
Так был велик врагов старинных гнев,
Что из бойцов, в пылу ожесточенья
Не замечал никто землетрясенья,
Не замечал никто, как под землей
Готовила природа погребенье
Тем, кто, как в гроб, на щит ложился свой.
Таков враждующих народов гнев слепой.
LXIV.
Долина та была для них ладьею,
Что их к порогу вечности несла.
Но хоть волна вздымалась за волною,
Беспечна мысль сражавшихся была;
У них способность страха замерла,
Хоть был он всюду: там скала трясется,
Гнезда родного птица не нашла
И вверх летит; там стадо вскачь несется;
У человека ж слов от страха не найдется.
LXV.
Уж Тразимена в наши дни не та:
Как серебро гладь озера сверкает,
Кровавых дней печальные места
Теперь лишь плуг спокойный разрывает,
Да лес широкой сенью покрывает.
Но Сангвиннетто – имя так ручья,
Что здесь течет – досель напоминает,
Что кровью здесь пропитана земля,
Что красной некогда была его струя.[199]199
«Красивое и спокойное зеркало озера отражало вершины Монте-Пульчаны, и какая-то дикая птица, порхая над его обширной поверхностью, задевала воду своими быстрыми крыльями, оставляя светлые круги и полосы, блестевшия на его сером фоне. По мере того, как мы подвигались вперед, один красивый пейзаж сменялся другим, и почти каждый новый вид вызывал новые восторги. Но не здесь ли, среди этой спокойной и красивой природы, произошла встреча Аннибалла с Фламинием? не было ли серебряное Тразименское озеро окрашено кровью?» (Вильямс).
[Закрыть]
LXVI.
А ты, Клитумн, с кристальною волною![200]200
«Все путеводители подробно распространяются о храме Клитумна, между Фолиньо и Сполето; и действительно, нигде, даже в Италии, нет картины. Более достойной описания. Рассказ о разрушении этого храма см. в «Историч. объяснениях к ІV-й песне Чайльд-Гарольда». (Прим. Байрона).
Прекрасное описание Клитумна находится в письме Плиния «Bomano suo», Epistolae, VIII, 8: «У подошвы небольшого холма, покрытого старыми, тенистыми кипарисами, течет ручей, разбивающийся на множество мелких ручейков бегущих по различным направлениям. Выбившись, так сказать, из своих границ, он разливается в широкий бассейн, такой чистый и прозрачный, что можно пересчитать все камешки на дне и брошенные туда мелкие монетки… Берега покрыты множеством ясеней и тополей, которые так отчетливо отражаются в прозрачной воде, что кажутся растущими на дне речки и также могут быть сосчитаны… Вблизи стоит древний и почтенный храм, в котором находятся статуя речного бога Клитумна».
Существующий ныне храм, обращенный в капеллу Сан-Сальватора, едва ли тот самый, который упоминается у Плиния. Гобгоуз, в своих «Исторических объяснениях», защищает древность фасада, который «состоит из фронта, поддерживаемого четырьмя колоннами и двумя коринфскими столбами; две колонны со спиральными дорожками, а остальные покрыты резьбой в вид рыбьей чешуи». Но, по мнению новейших археологов, вся эта постройка относится к IV или V веку по Р. X. Впрочем, возможно, и даже вероятно, что при перестройке храма был употреблен в дело старый материал. Плиний говорит, что вокруг храма Клитумна было много небольших часовенок, посвященных другим божествам.
«Быть может, на нашем языке нет более удачного стихотворного описания, чем эти две строфы, посвященные Клитумну. Поэты обыкновенно не легко расстаются с интересным сюжетом и вредят ясности описания, обременяя его подробностями, которые скорее затрудняют, нежели возбуждают фантазию читателя; или же, наоборот, желая избежать этой ошибки, ограничиваются холодными и отвлеченными общими фразами. Байрон, в указанных двух строфах, удивительно сумел удержаться посредине между этими двумя крайностями: здесь дан абрис картины столь же ясной и блистательной, как пейзажи Клода Лоррэна, а дополнение этого абриса более мелкими подробностями благоразумно предоставлено воображению читателя; и, конечно, только слабое воображение не в состоянии будет дополнить того, что поэт оставил недосказанным, или на что он только намекнул. Пробегая эти строки, мы как будто чувствуем свежий холодок окружающего нас пейзажа, слышим журчанье быстрых ручейков и видим отражение изящного небольшого храма в кристальной глубине спокойного потока». (В. Скотт).
[Закрыть]
К тебе приходит нимфа, чтоб в твою
Лазурь взглянуть, любуяся собою,
И погрузить потом красу свою
В нескромную, прозрачную струю.
Бежишь ты, зелень пастбищ орошая,
И осквернить кровавому ручью
Не удалось тебя, волна живая,
Где дети красоты купаются, играя.
LXVII.
Вот на счастливом берегу твоем
На холмике изящный храм ютится;
Все о тебе напоминает в нем.
Внизу же твой поток, журча, стремится,
И рыбка в нем сребристая резвится,
Живя в твоей хрустальной глубине.
И по теченью вниз порою мчится
Вдруг лилия, качаясь на волне,
Туда, где говор струй слышнее в тишине.
LXVIII.
Но уделите краткое мгновенье,
Чтоб гению сих мест отдать поклон:
Коль нежное зефира дуновенье
Вас освежит, то знайте – это он;
Когда вдоль берегов, со всех сторон
Откроется ковер вам изумрудный
И свежесть брызг разгонит сердца сон
И смоет пыль сухую жизни трудной, —
Обязаны ему вы той минутой чудной.
LXIX.
А вот Велино. Бурных вод каскад
Свергается здесь со скалы высокой
Вглубь страшной бездны… Дивный водопад!
Как молния, полет струи широкой
Края колеблет пропасти глубокой.
Кипящий ад и свист и рев кругом,
И стонут воды в пытке здесь жестокой.
Их испаренья падают потом
На скалы, сжавшие пучину вод кольцом,
LXX.
И к небесам стремятся бесконечным,
Чтобы дождем вернуться вновь сюда.
И мурава под этим ливнем вечным,
Как изумруд, сверкает здесь всегда:
Ее весна не меркнет никогда.
Все вниз несется в скачке беспощадной,
С утесов диких прыгает вода,
Ломает скалы бег потока жадный,
В агатовых стенах пробив проход громадный —
LXXI.
Чудовищной колонне водяной;
И кажется, для целей мирозданья
Она из моря вырвана судьбой…
Нет, реки здесь берут источник свой;
Их берегов так мирно очертанье,
Причудлив их серебряный узор…
Но оглянись! Вкуси очарованье:
Поток несется в пене с диких гор,
Как вечность, все с пути сметая, словно сор.[201]201
«Я видел Cascata del Marmore в Терни дважды, в разное время, – один раз – с вершины пропасти, а другой – снизу, из долины. Вид снизу гораздо лучше, если у путешественника нет времени подниматься наверх; но откуда бы ни смотреть, – сверху или снизу, – этот водопад стоит всех швейцарских, вместе взятых: – Штауббах, Рейхенбах, Пис-Ваш, водопад Арпена и пр. в сравнении с ним кажутся ручьями. О Шафгаузенском водопаде я не могу говорить, так как еще не видел его». (Прим. Байрона).
[Закрыть]
LXXII.
Все в нем полно ужасной красотою…
А в вышине, над вихрем бурных вод,
Блистая красок гаммою живою,
В лучах восхода радуга встает, —
Так в смертный час привет надежда шлет.
Пучина вод утесы сотрясает,
А радуга лучи спокойно льет
И кротостью любовь напоминает,
Когда безмолвно та безумье созерцает.
LXXIII.
Вновь на лесистых Апеннинах я…
О, дети Альп! Могучими отцами
Заслонены малютки сыновья,
И после Альп не восхищен я вами:
Утесы там, поросшие лесами,
Там гром лавин, Юнгфрау там царит
И вверх стремится чистыми снегами;
Весь в глетчерах Монблан седой стоит;
В утесах Кимари там тяжко гром гремит, —
LXXIV.
Акрокеранскими их прежде называли…
Я наблюдал, взирая на Парнас,
Как к небесам за славой воспаряли
Над ним орлы, скрываяся из глаз;
Я как троянец Иду зрел… Атлас,
Олимп, Афон – затмили Апеннины;
Из них Соракт, бесснежный в этот раз,
Не хочет лишь один склонить вершины.
Латинского певца ему нужны картины,
LXXV.
Чтобы теперь мы вспомнили о нем.
Он средь полей стоит, уединенный,
Как будто вдруг в падении своем
Застывший вал… Любитель умиленный
Классическим созвучьем восхищенный,
Пусть холм латинской рифмой огласит.
В дни юности без смысла затверженный
Латинский стих меня не восхитит, —
Уже ничто теперь во мне не воскресит.
LXXVI.
Плодов моих мучительных стараний.
Хоть научили зрелые года
Меня ценить всю пользу ранних знаний,
Но горький след несносного труда
Во мне с тех пор остался навсегда;
Я на свободе мог бы научиться
Любить латынь, теперь же никогда
Не суждено мне ею насладиться,
От нелюбви своей старинной отрешиться.
LXXVII.
Итак, прощай, Гораций. Коль тебя
Я не ценил, я сам тому виною.[202]202
«Предубеждение Байрона против Горация не представляет исключительного явления: Грэй только тогда почувствовал себя способным наслаждаться красотами Вергилия, когда избавился от обязанности заниматься этим поэтом, как уроком (Мир).
[Закрыть]
Да, горе мне: поэзию любя
И пред твоей склоняясь глубиною,
Я не пленен стихов твоих игрою.
Художества кто даст нам образец,
Кто совесть нашу так пронзит стрелою
И так легко нарушит сон сердец?
Мы на Соракте все ж расстанемся, певец!
LXXVIII.
Родимый Рим, души моей отчизна!
Печаль сердец ты миром осени,
Ты их слезам живая укоризна,
Лишь здесь терпеть научатся они.
О, человек! На кипарис взгляни,
В руины алтарей войди, смущенный,
И скорбь свою земную оцени:
Ведь целый мир лежит здесь погребенный,
Такой же, как и ты, из праха сотворенный.
LXXIX.
О, Ниобея павших городов![203]203
«Я провел несколько дней в чудесном Риме», говорит Байрон в одном из своих писем 1817 г. «И в восторге от Рима. В целом, Рим – и древний, и новый – выше Греции. Константинополя, всего на свете, по крайней мере, всего, что я видел. Но я не могу его описывать, потому что мои первые впечатления всегда сильны и смутны, и только впоследствии моя намять разбирается в них и приводит их в порядок; тогда я рассматриваю их, точно пейзаж на известном расстоянии, и различаю лучше, хотя они уже и менее ясны. Все время, с самого приезда, я большую часть дня проводил верхом на лошади. Я ездил в Альбано, к его озерам, на вершину Monte Albano, в Фрескати, Аричию и т. д. Что касается Колизея, Пантеона, св. Петра, Ватикана, Палатина и пр., и пр., – то они совершенно неописуемы: их надо видеть».
[Закрыть]
Детей уж нет. Корона золотая
Уж сорвана. Печаль ее без слов.
И урна лишь виднеется пустая
В ее руках, золы не сохраняя.
Где Сципиона благородный прах?[204]204
Могила Сципионов, близ Латинских ворот, была открыта братьями Сасси в мае 1780 г. Она состоит из нескольких камер, выдолбленных в туфе. В одной из более обширных камер находилась знаменитая гробница Л. Сципиона Бородатого, прадеда Сципиона Африканского, которая теперь стоит в Ватикане, в Atrio Quadrato. Когда эту гробницу открыли, в 1780 г. в ней оказался целый скелет. Кости были собраны и перенесены Анджело Квирини в его виллу в Падуе. В камерах найдено было много надписей, перенесенных потом в Ватикан.
[Закрыть]
Где прах твоих сынов, земля родная?[205]205
По словам Гобгоуза, могилы разрушались «или для того, чтобы добывать реликвии, необходимые для церквей, посвященных христианским святым или мученикам, или (что более вероятно) в надежде найти украшения, погребенные вместе с покойниками. Гробницы иногда переносились на другое место и опустошались для помещения другого праха. Так, напр., гробницы пап Иннокентия И и Климента XII без сомнения, были сооружены для языческих покойников».
[Закрыть]
Иль в мертвых, Тибр, течешь ты берегах?
Так затопи ж скорей их скорбь в своих волнах![206]206
Намек на исторические наводнения Тибра, которых насчитывали 132 со времени основания города до декабря 1870 г., когда вода в реке поднялась на 30 футов выше обычного своего уровня.
[Закрыть]
LXXX.
Ее христиане, готы изнуряли,
Пожары, войны, бремя долгих лет.[207]207
«Христиане» – по мотивам фанатическим, как напр. Феодосий в 426 г. и Стилихон, сжегший сивиллины книги, грабили и разрушали храмы. Впоследствии многие папы также разрушали храмы ради постройки, перестройки и украшения церквей: много раз древние постройки обращались в каменные пушечные ядра. Не было недостатка также и в христианских завоевателях и опустошителях Рима, как напр. Робер Гюискар в 1004 г., Фридрих Барбаросса в 1107, коннетабль Бурбонский в 1527. «Готы» взяли и разграбили Рим под предводительством Алариха, в 410 г., и при Тотиле, в 5I6 г. Сюда же могут быть причислены и другие варвары-завоеватели: вандал Гензерих в 455 г., свев Рицимер в 472, далматинец Витигес в 537, лангобард Арнульф в 756. Что касается «пожаров», то в 1032—84 гг. император Генрих IV сжег «большую часть города», а Гюискар сжег город «от Фламиниевых ворот до колонны Антонина и опустошил все пространство от Эсквилина до Латерана; затем сжег местность от Латерана до Колизея и Капитолия». Байрон ничего не говорит о землетрясениях; но и они бывали, напр. в 422 и 1349 г.
[Закрыть]
И звезды прежней славы угасали.
Конь варвара топтал священный след,
Где в Капитолий мчался сын побед;
Валились башни, в прахе исчезая.
Кто при луне прочтет, чего здесь нет
И что осталось, камни созерцая…
Вокруг развалин ночь господствует двойная.
LXXXI.
Двойная тьма – незнанья и веков
До наших дней окутывает зренье.
Там ощупью для медленных шагов
Мы ищем путь. Морского дна строенье,
Далеких звезд известно нам движенье, —
На все лучи наука щедро льет,
А в Риме – тьма! Там всюду затрудненье.
Порой кричим мы: «Эврика! Вперед!»,
Когда мираж руин пред нами вдруг блеснет.
LXXXII.
О, гордый Рим! Увы! Куда сокрылись
Твои триумфы?[208]208
«Орозий насчитывает 320 триумфов от Ромула до двойного триумфа Веспасиана и Тита. Ему следовал Папвиний, а Папвинию Гиббон и новейшие писатели» (Прим. Байрона).
[Закрыть] Острый где кинжал,
Которым лавры Цезаря затмились
И Брут себе бессмертие стяжал?
Вергилий спит. Твой Туллий замолчал.
А вы, страницы Ливия живые!
Лишь из-за вас о Риме мир узнал…
Свободы римской годы золотые,
Из мира унесли вы взоры огневые…
LXXXIII.
Великий Сулла! Баловень богов,[209]209
«Если бы в жизни Суллы не было тех двух событий, на которые намекает эта строфа, то, без сомнения, мы должны были бы считать его чудовищем, которого не оправдывают никакия удивительные качества. Мы готовы видеть искупление в его добровольном отказе от власти, так как оно, по-видимому, удовлетворило римлян, которые должны были бы уничтожить Суллу, если бы не уважали его. Тут не может быть спора и разницы во взглядах: они должны были все, подобно Эвкрату, признать, что то, что казалось им честолюбием, было любовью к славе, а то, что они ошибочно принимали за гордость, было в действительности величием души. («Seigneur, vous changez toutes mes idées de la faèon dont je vous vois agir. Je croyois que vous avez de l'ambition, mais aucun amour pour la gloire; je voyois bien que votre âme étoit haute; mais je ne soupèonnois pas qu'elle fût grande». – Dialogue de Sylla et d'Eucrate, Considérations… de la grandeur des Romains, par Montesqieu. (Прим. Байрона).
[Закрыть]
Ты захотел от гнева удержаться,
Пока не смял отечества врагов.
От мстителей умел ты уклоняться,
Пока не увидал своих орлов
Над Азией. Движением бровей
Ты заставлял сенаторов смиряться
Ты был чистейший римлянин тех дней;
С улыбкой мира ты сложил венец своей
LXXXIV.
Диктаторской могущественной власти.
Ты думал ли, что горький миг придет,
И славы трон рассыплется на части
И гордый Рим от варвара падет?
Твой вечный Рим, твой доблестный народ,
Чьи воины победы только знают,
Кто тень свою на землю всю кладет,
Чьи крылья мир широко обнимают,
Кого властителем вселенной называют!
LXXXV.
Коль Сулла был славнейшим средь вождей,
То Кромвель наш был гений похищенья.
Сенатов власть, престолы королей
На плаху он бросал без сожаленья.
Бандит бессмертный! Морем преступленья
Ты заплатил за власти дивный миг!
В его судьбе сокрыто поученье:
Двойной победой он венца достиг,
И в тот же славный день его конец постиг.[210]210
«3-го сентября 1650 г. Кромвелль выиграл сражение при Денбаре: год спустя, в тот же день, он одержал свою «коронационную» победу при Уоретере; а в 1658 г., в тот же день, который он считал дли себя особенно счастливым, – он умер». (Прим. Байрона).
[Закрыть]
LXXXVI.
Им третьего достигнута корона
И третьего же должен был сойти
В могильный мрак он с царственного трона.
Нам в этом рок открыл свои пути;
В его глазах нам не к чему идти
За славою, в борьбе изнемогая:
Достойней смерти блага не найти.
Когда бы жили с мыслью мы такою,
То и судьба людей была б совсем иною.
LXXXVII.
О, статуя! Виднеешься одна
Ты в наготе божественной пред нами.
Смерть Цезаря была тебе видна.[211]211
Статуя Помпея в «зале аудиенций» в палаццо Спада несомненно представляет портрет и относится к концу республиканского периода. Но ее нельзя с полной уверенностью отождествлять с той статуей, которая стояла в курии и к подножию которой упал убитый Цезарь.
[Закрыть]
Пронзенный здесь коварными мечами,
Он оросил кровавыми ручьями
Твои ступени, в тоге скрыв черты,
Взят Немезидой, правящей богами.
Ужель он мертв? Помпей, иль мертв и ты?
Любимцы ль вы богов иль дети суеты?
LXXXVIII.
О, славная волчица! Матерь Рима![212]212
Сохранившееся до нашего времени бронзовое изображение «Капитолийской волчицы» несомненно древнее; оно относится к концу VI или началу V века до Р. X. и по работе принадлежит греко-итальянской школе. Близнецы, как указано еще Винкельманом, новейшее произведение; они были прибавлены в убеждении, что именно эта статуя описана Цицероном (Cat. III, 8) и Вергилием (Aen., VIII, 631).
[Закрыть]
Опалена стрелою громовой,
Ты средь дворца стоишь, несокрушима,
И чудится, – доселе город твой
Питается сосцов твоих струей.
Ведь через них ты Ромулу сумела
Дух передать неукротимый свой.
Ты от перунов грозных почернела,
Но к милым детям долг забыть не захотела.
LXXXIX.
Да, это так, но их уж нет в живых,
Уж дни людей железных закатились,
И города стоят на прахе их…
Успехом их потомки соблазнились,
Перенимать приемы их пустились, —
Но подражать в величии отцам
Бесславные сыны не научились…
Все, кроме одного. Виной он сам
Тому, что ныне стал слугой своим рабам.
ХС.
Манил безумца славы призрак ложный.
Но с Цезарем сравниться не успел
Его побочный сын, тиран ничтожный.
Нет, в Цезаре иной огонь горел;
Умом он страсть обуздывать умел,
С божественным инстинктом уклоняясь
От нежных вздохов для великих дел.
То, как Алкид он, прялкой забавляясь,
У Клеопатры ног сидел, то вдруг меняясь,
XCI.
Он приходил, смотрел и побеждал.[213]213
По свидетельству Светония, знаменитые слова: «Veni, vidi, vici» были написаны на щитах, несенных в триумфальной процессии по случаю победы Цезаря над Фарнаком II, в сражении при Зеле, 47 г. до Р. X.
[Закрыть]
В другом же боги странный нрав создали…
Он приручить своих орлов желал,
Чтобы они как соколы взлетали.
Но хоть войска победный лавр познали,
Хоть не был раб он сердца своего, —
Тщеславье, гордость, все в нем отравляли.
В чем цель была конечная его?
Он верно сам о том не знает ничего.
ХСІІ.
Хотел он быть ничем или всем. С толпою
Он не желал могилы скромной ждать.
Он с Цезарем на миг слился судьбою.
Ужель затем, чтобы этот миг узнать,
Решил он реки крови проливать?
Настал потоп всемирный! Где спасенье?
Надежного ковчега где искать?
Не утихает волн ожесточенье…
Дай, Боже, радугу! Пошли нам примиренье.
ХСІII.
Где видим мы ничтожной жизни плод?
Круг чувств так мал, слаб разум сиротливый,
А правды перл – на дне глубоких вод.
Дни коротки, и свой безмен фальшивый
Сует во все обычай прихотливый.
Лишь мненье света – бог. И в этой мгле
Мешаем ложь мы с истиной стыдливой,
И мысль свою, с смущеньем на челе
Мы душим, мрак боясь рассеять на земле.
ХСІV.
А люди все, в убожестве беспечном
Из рода в род, сквозь длинный ряд веков
Бредут, гордясь ничтожеством сердечным.
В сынах живет безумие отцов, —
Наследие, достойное рабов.
Они порой в борьбе изнемогают,
Но лишь не для свободы, – для оков;
Друг друга кровь на сцене проливают
Где листья их родных побегов увядают.
ХСV.
Религии я не коснусь совсем.
С Творцом своим душа в ней может слиться.
Я говорю о том, что видно всем,
Что пред глазами каждого творится:
О том ярме, что на плечи ложится, —
О кознях тирании. Ведь она
Теперь того изображать стремится,
На троне кем была потрясена.
Увы, не этим лишь рука его славна…
XCVI.
Иль никогда уж гнет цепей народных
Не будет сброшен доблестным бойцом?
Иль нет сынов свободы благородных,
Как тот герой, на берегу крутом
Колумбии, когда она с мечом
Явилась нам, как новая Паллада
О, Вашингтон! Ужель геройство в нем
Родил лишь лес да говор водопада?
Ужель подобного у нас не скрыто клада?
XCVII
Но Францию вид крови опьянил.
Она поток дел черных извергала,
И этот миг свободу погубил.
Меж миром и мечтой – стена восстала,
Толпа убийц ее сооружала.
Последний акт трагедии помог,
Чтоб грубая рука весь мир сковала,
И рабство мнет душистый наш венок;
И – худшее из зол, – вновь цепи шлет нам рок.
XCVIII.
Мужай, Свобода! Ядрами пробитый,
Твой поднят стяг наперекор ветрам;
Печальный звук твоей трубы разбитой
Сквозь ураган доселе слышен нам.
Цветов уж нет. Уж по твоим ветвям
Прошел топор, и ствол твой обнажился,
Но жизни сок еще струится там.
Запас семян под почвой сохранился,
И лишь весна нужна теплей, чтоб плод родился.
ХСІХ.
Есть башня грозная.[214]214
Говорится о могиле Цецилии Метеллы, называемой Саро di Bove.
[Закрыть] Уж с давних пор
Она свою твердыню возвышает,
И вражеский не страшен ей напор.
Стенных зубцов уж многих не хватает;
Их листьями нарядно убирает
Тысячелетний плющ, дитя времен.
Что человек об этой башне знает?
Какой здесь перл бесценный сохранен?
Здесь женщина одна вкушает хладный сон.
С.
Но кто ж она, чей склеп – дворец прекрасный?
Была ль она прелестна и скромна,
Иль королю была подругой ясной,
Иль более, – патрицию жена?
Каких героев ветвь ей рождена?
Где дочери, ей равные красою?
Как умерла, любила как она?
Ее судьба едва ль была простою:
Кто из толпы мог лечь под кровлею такою?
CI.
Она любила ль мужа своего
Или чужих мужей она любила?
И древний Рим ведь не избег того…
Суровый вид Корнелии хранила,
Иль как царица ветреная Нила
Была резва? Любила ль легкий смех?
Поднять свой голос сердцу ль допустила,
Бежала ли мучительных утех
Она земной любви – зла худшего из всех?…
CII.
Иль в юности ее взяла могила
И, каменной гробницы тяжелей,
Ее печаль безвременно сразила;
И красота уж изменяла ей,
И смерть была на дне ее очей…
Смерть в юности! Дары небес в ней скрыты!
Но лил закат ей золото лучей,
Румянцем ярким вспыхнули ланиты…
Багрянцем осени деревья так покрыты.
CIII.
Иль смерть пришла на склоне мирных лет
И умерли вокруг друзья, родные,
И красоты ее завял уж цвет. *
Засеребрились пряди кос густые,
Напоминая ей про дни былые,
Когда весь Рим сводил с ума их вид.
К чему ведут мои мечты пустые?
Здесь римлянка Метелла мирно спит,
Про скорбь супруга нам сей памятник гласит.
СІV.
Мне кажется, и почему – не знаю,
Знавал я ту, что спит здесь вечным сном;
И прежнее я вновь припоминаю.
Ко мне слетают грезы о былом,
Как музыка… иль нет, как вешний гром,
Когда он вдаль несется, замирая.
Ах, сесть на камень, затканный плющем
Пока мечта не вспыхнет золотая,
Обломки прошлого чудесно оживляя.
CV.
Пока она не выстроит ладью,
Собрав осколки досок меж скалами, —
Ладью надежды. Море! Мощь твою
Я вновь узнал бы. Спорил бы с валами,
С прибоем злым, с седыми бурунами
У берега, где счастье прежних лет
Схоронено… Когда б на брег волнами
Ладью мне вынесло, – пути мне все же нет;
Нет родины, надежд… Лишь здесь их слабый след.
СVІ.
Пускай же вкруг меня ревет стихия,
Будь музыкой мне, дикий вой ветров!
Его умерят ночью крики сов;
Из сумерек, где гнезда их родные,
Доносятся их голоса глухие…
Чу! С Палатина крик несется их,
Там светятся во тьме глаза их злые,
Как паруса там крылья птиц ночных…
Что наши горести? Молчу я о своих…
CVII.
Плющ, кипарис, цветы с травою сорной
Смешались там. Дворцов печальный прах;
Колонн обломки; арки след узорной;
Разрушенные фрески на стенах,
Там, под землей, во влажных погребах,
Где совам лишь люба их мгла сырая…
Купальня, храм, – что жило в сих камнях?
Мы знаем лишь: здесь билась жизнь иная…
Взгляни на Палатин. Прочна ли власть земная![215]215
«Палатин представляет массу развалин, особенно – в стороне, обращенной к Circus Maximus. Здесь вся почва состоит из кирпичного щебня. Ничего не было сказано, – да и нельзя ничего сказать о нем такого, чему бы кто-нибудь поверил, кроме римских антиквариев». (Прим. Байрона).
Палатин был местом, где последовательно находились дворцы Августа, Тиберия и Калигулы, а также и «временный дворец» Нерона (Domus Transitoria), погибший во время римского пожара. Позднейшие императоры – Веспасиан, Домициан, Септимий Север – содействовали украшению Палатина. Войска Гензериха, заняв его, разграбили все его богатства, и с тех пор он остался в развалинах, систематические раскопки в течение последних пятидесяти лет обнаружили многое и отчасти дали возможность восстановить древний план этой части Рима; но в 1817 г. «бесформенная масса развалин» была еще полной загадкой для исследователей древности.
[Закрыть]
CVIII.
В судьбе народов мудрый скрыт урок.[216]216
Автор «жизни Цицерона», говоря о мнении, высказанном насчет Британии этим оратором и современными ему римлянами, сам высказывает следующия красноречивые суждения: «читая этого рода насмешки над варварством и бедностью нашего острова, нельзя не задуматься над удивительною судьбою и переворотами, постигшими многия царства. Рим, некогда – владыка мира, центр искусства, власти и славы, теперь пресмыкается в уничижении, невежестве и бедности, порабощенный самым жестоким и самым презренным из всех тиранов – суеверием и религиозным обманом, между тем как эта отдаленная страна, бывшая в древности предметом насмешки и пренебрежения для образованных римлян, сделалась счастливою областью свободы, богатства и учености: здесь процветают все искусства, все утонченности цивилизованной жизни. Но, может быть, и эту страну ожидает тот же путь, пройденный в свое время Римом, – от доблестной деятельности к богатству, от богатства – к роскоши, от роскоши к пренебрежению дисциплиною и порче нравов; и, наконец, посреди полного вырождения и утраты всякой доблести, созрев для разрушения, она может стать добычею какого-нибудь отважного притеснителя и, лишившись своей свободы, потеряв все, что у нея есть ценного, малу-помалу снова впадет в первобытное варварство». См. «Life of M. Tullius Cicero, by Conyers Middleton». (Прим. Байрона).
[Закрыть]
Там следуют чредою постепенной
Свобода, слава, роскошь и порок, —
И варварство, как горестный итог.
Пред вами лист истории вселенной,
Читайте ж в нем. Все радости земли
Здесь тиранией собраны надменной,
И чувства все утеху здесь нашли.
Но нужно чтоб сюда вы ближе подошли.
СІХ.
Уместно здесь рыдать иль восхищаться,
Уместен смех. И человек, смущен,
Не знает сам, лить слезы иль смеяться.
Поддерживать тот холм был принужден
Всю пирамиду славы, царств, времен, —
И солнце здесь сиянье занимало…
Таков он был, мишурной славы трон;
Где ж золото, что раньше здесь блистало,
И что с надменными строителями стало?[217]217
Говорится о «Золотом Дворце» Нерона, занимавшем пространство от северо-западного угла Палатина до садов Мецената на Эсквилине, на месте позднейшого храма Весты, Колизея и терм Тита. На переднем его дворе стояла колоссальная статуя Нерона. Колоннада, тянувшаяся на протяжении тысячи футов, была углублена в землю на три фута. Все, кроме озера, леса, виноградников и лугов, было покрыто золотыми плитами, которые украшены были дрогоценными камнями и перламутром См. Светония, VI, 31; Тацита, Анн., XV, 42. Марциаил прославляет Веспасиана за восстановление этого дворца.
[Закрыть]
СХ.
Не будет Туллий столь красноречив,
Как сломанной колонны вид печальный.[218]218
В подлиннике колонна названа «безыменною». Это – колонна императора Фоки, на форуме. Но, насколько известно, в 1817 г., когда Байрон был в Риме, колонна эта уже перестала быть безыменною. Во время раскопок, произведенных в 1813 г. под покровительством герцогини Девонширской, удалена была земля, скрывавшая основание колонны, причем обнаружилась надпись о том, что колонна воздвигнута экзархом Смарагдом, в 608 г., в честь императора Фоки. На вершине колонны первоначально стояла позолоченная статуя; но, вероятно, и колонна, и эта статуя были взяты из какой-либо постройки более ранняго времени и только посвящены Фоке. Гобгоуз, в «Историч. Объяснениях», говорит об этом открытии и приводит, в извлечении, надпись.
[Закрыть]
О, Цезарь, где же лавр твой? Плющ сломив,
Растущий вкруг колонны погребальной,
Сплетите мне скорей венок прощальный…
Что высится вон там, передо мной?
То гимн веков, то столп их триумфальный
Все губит время острою косой:
Где прах Траяна был, там Петр царит святой.[219]219
«На Траяновой колонне поставлена статуя ап. Петра, а на колонне Аврелия – статуя ап. Павла» (Прим. Байрона).
Траянова колонна была вырыта из земли при Павле III, в XVI веке. На вершине первоначально стояла бронзовая статуя Траяна, державшая в руках позолоченный шар; в 1588 Сикст V заменил ее позолоченной бронзовой статуей ап. Петра. Существовало предание, что внутри шара находился прах Траяна; говорили также, что император Адриан поместил этот прах в золотой урне, в своде под колонною. Известно, однако, что когда Сикст V открыл этот свод, там ничего не оказалось. По случаю обновления колонны выбита была медаль с надписью: «Exaltavit humiles».
[Закрыть]
СХІ.
И, утопая в голубом эфире,
Вознесся к небу пышный мавзолей.
Родился ль дух Траяна в звездном мире,
Последнего героя римских дней,
Держателя подвластных областей,
Что вслед за ним спешили отложиться?
Как Александр, не лил он кровь друзей,
Не допускал в разгуле помрачиться
Свой благородный дух. За то в веках он чтится.[220]220
«Имя Траяна вошло в пословицу, как имя лучшого из римских государей; легче найти государя, соединяющого в своем характере самые противоположные свойства, нежели такого, который обладал бы всеми счастливыми качествами, приписываемыми этому императору. «Когда он вступил на престол», говорит историк Дион Кассий, – «он был крепок телом и силен умом; годы не уменьшили этих сил, он был также освобожден от зависти и злословия: он почитал всех добрых людей и поддерживал их, так что они не могли быть предметом его страха или ненависти; он никогда не слушал наушников; не давал воли своей досаде; одинаково воздерживался и от неправильных действий, и от несправедливых наказаний; он более желал, чтобы его любили как человека, нежели почитали как государя; он был ласков с народом, почтителен с сенатом и равно любим и тем, и другим; он никому не внушал страха, кроме врагов своего отечества». См. Евтропия, Hist. Rom. Brev., 1. VIII, cap. 5; Дион, Hist. Rom., l. LXIII, cap. 6, 7. (Прим. Байрона).
[Закрыть]
CXII.
А ты, скала триумфа,[221]221
Археологи времен Байрона не в состоянии были точно определить местоположение храма Юпитера Капитолийского. «На которой стороне стояла цитадель, на которой большой Капитолийский храм, и находился ли последний внутри цитадели?» спрашивал Гобгоуз. Раскопки, произведенные в 1870—7 гг. профессорами Иорданом и Лавчиани, дали возможность «с достаточною верностью» определить местоположение центрального храма и его боковых корпусов на месте нынешняго палаццо Каффарелли и прилежащих к нему зданий, занимающих юго-восточную часть Капитолийского холма. До сих пор существуют и две Тарпейския скалы: одна в Vicolo della Rupe Tarpea, – в западном углу холма, обращенного к Тибру, а другая близ Casa Tarpea, – на юго-востоке, в направлении к Палатину. Но если верить Дионисию, который говорит, что «скала изменников» была видна с форума, то надо полагать, что «пропасть», в которую сбрасывали изменников и других преступников (напр. лжесвидетелей), находилась где-нибудь на южном, теперь менее обрывистом склоне горы.
[Закрыть] где народ
Приветствовал своих вождей счастливых,
Утес Тарпейский, верности оплот!
Могилой был надежд честолюбивых
Скачек с тебя. Добычу дней бурливых
Герои здесь слагали каждый раз.
Мятежный дух столетий молчаливых
Заснул внизу… Вот форум. Посейчас
Там Цицерона жив еще звенящий глас.
СХІІІ.
О, мятежей, свободы, славы поле!
Здесь страстью Рим горел живей всего,
От первых дней, до дней, когда уж боле
Не оставалось в мире ничего
Достойного желания его.
Но продала, анархией объята,
Страна свою свободу до того.
Солдат топтал ногами власть сената
Иль голос покупал себе ценою злата.
СХІV.
Но от тиранов, погубивших Рим,
Теперь к тебе, трибун-освободитель,
Петрарки друг, – мы взоры обратим.
О, за позор отчизны грозный мститель,
Риенци, римской доблести носитель![222]222
Николай Габрино из Риевцо, обыкновенно называемый Кола ди Риенци, род. в 1313 г. Сын содержателя постоялого двора в Риме, он обязан своей известностью и славой собственным дарованиям. Он поставил себе задачею избавить Рим от притеснения знатных вельмож и восстановить еще раз «доброе правление», т. е. республику. Этой цели ему и удалось достигнуть в короткое время. В 1347 г., 20 мая, Риевци был провозглашен трибуном и освободителем Священной Римской Республики «блогодатию всемилосерднейшого Господа Иисуса Христа». Вдохновляясь возвышенными целями и широкими замыслами, он был, однако, в сущности, довольно жалким существом, – «незаконнорожденным Наполеоном», – и успех, видимо, ему вскружил голову. После восьми месяцев, проведенных им в царском блеске, народное чувство обратилось против него, и он вынужден был искать себе убежища в замке св. Ангела (декабрь 1347). Затем последовали годы плена и странствований; только в 1354 г. ему позволено было вернуться в Рим, и он снова, после быстрой и успешной борьбы с соседними государствами, стал во главе власти. Но один насильственный поступок, соединенный с коварством, а больше всего – необходимость установить более тяжелые налоги, опять возмутили против него римскую чернь; во время восстания, в октябре 1354 г., он тщетно пытался укрыться и бежать, был узнан толпою и убит. Петрарка познакомился с ним в 1340 г., во время своего торжественного венчания в Риме. Впоследствии, когда Риенци жил в плену в Авиньоне, поэт хлопотал о нем у папы, но некоторое время безуспешно. Петрарка верил в его энтузиазм и разделял его мысли; весьма вероятно, что знаменитая канцова: «Spirto gentil, che quelle membra reggi» посвящена «последнему трибуну».
История Риенци послужила сюжетом для трагедии Гюстава Друино, представленной в Одеоне 28 янв. 1826, для романа Бульвера «Последний Трибун», изд в 1835 г., и для оперы Рихарда Вагнера, 1842 г.
[Закрыть]
Когда свободы ветхий ствол хранит
Один хоть лист, – пусть как венок лежит
Он над тобой, отважный предводитель…
О, Нума наш! Но смерть героев не щадит.
СXV.
Эгерия! Ты словно добрый гений
Царю единой радостью была
И отдыхом среди мирских волнений
Как нимфа ль ты в мечтах любви жила
Иль средь людей краса твоя цвела
И, полного любовью неземною,
Поклонника достойного нашла?
Кто б ни была ты, с дивной полнотою
Взлелеян образ твой волшебною мечтою.
СXVІ.
Вот твой бассейн. Ковер зеленый мха
Забрызган весь алмазными струями,
Но гладь воды по-прежнему тиха.
И призрак твой с печальными глазами
В пещере той склонился над водами…
Но мраморных вокруг уж нет богов,
Из трещины веселыми скачками,
Не скованный меж каменных брегов,
Ручей сбегает вниз, среди лиан, цветов,
СXVІІ.
Причудливо плющом переплетенных.
Оделись вешним цветом склоны гор,
Мелькают спины ящериц зеленых
И певчих птиц приветствует вас хор,
Стараются цветы привлечь ваш взор;
Чуть ветерок стеблями заиграет,
Меняется капризный их узор…
Зефир фиалок глазки лобызает:
Их нежная лазурь блеск неба отражает.
CXVIII.
Цвела ты здесь, в прелестном уголке,
Эгерия… Твое так сердце билось,
Едва шаги заслышишь вдалеке.
Над вами полночь звездная ложилась,
И рядом с милым тихо ты садилась
И… что ж затем? Был создан этот грот,
Чтоб страсть богини пышно распустилась
В часы свиданий, близ спокойных вод.
Оракул наш, любовь, доселе здесь живет.
СХІХ.
Смешала ль ты, на грудь его склоняясь,
Свой лучезарный дух с его душой?
И, смертною любовью наслаждаясь,
Делила ль с ней восторг бессмертный свой?
Могла ль ее ты сделать неземной,
Предупредить ея исчезновенье
И наделить небесной чистотой?
И вырвать прочь тупое пресыщенье,
Презренный плевел сей, восторгов умерщвленье?
CXX.
Мы не жалеем чувств в младые дни;
Родник любви пустыню орошает,
Питая там лишь плевелы одни.
Пленяя взор, скрывают яд они.
Цветок там скорбь в дыханье растворяет,
Несет там смерть древесная смола…
Вот что в долине жизни разцветает,
Где в поисках за счастьем страсть прошла.
Увы, плода небес она там не нашла.
СXXІ.
Любовь, любовь! Чужда земли суровой,
Ты серафим в далеких небесах;
Ты – наша вера; твой венок терновый
Лежит на всех измученных сердцах,
Как светлый дух, ты не мелькнешь в глазах…
Когда мечта твердь неба населяла,
То дивный образ твой она создала,
И никогда разбитую, в слезах,
В часы уныния, ты душу не бросала.
СXXІІ.
Как нас томят, тревожат без конца
Обманчивой фантазии созданья.
Где взял модель ваятель для резца?
В своей душе. И тщетны все старанья
Найти во вне такие очертанья.
Где юности стыдливые мечты,
Во цвете лет где радость обладанья?
Где этот рай, чьей дивной красоты
Не смеют передать бессильные персты?
СXXІІІ.
Любовь – болезнь; горьки ее кошмары.
Больней нам все ж, когда лекарство пьем.
Одна во след другой спадают чары,
Ничтожность мы кумира сознаем
И видим – все мы выдумали в нем.
Но обаянье все ж владеет нами,
Посеяв ветер – вихрь теперь мы жнем,
И, как алхимик, – сердце лишь мечтами
О золоте полно, а бедность за дверями.
CXXIV.
Уж в юности нам тяжело дышать;
Мы так больны, нас бодрость покидает,
И жажда жжет, и счастья не догнать.
Нас прежняя мечта досель пленяет,
Но поздно, поздно… Рок нас проклинает.
Не все ль равно – богатство, власть, почет?
Их разница имен лишь разделяет.
Все метеором быстрым промелькнет,
А смерть, как дым, огни клубами обовьет.
СXXV.
Немногие здесь цели достигают.
Хоть жажда счастья, встреча, рок слепой
Порой в нас чувство злобы подавляют,
Но, возвратясь бурливою волной,
Вновь овладеет ненависть душой.
И глупый случай, счастью угрожая,
Готовит беды, скрытые судьбой,
Надежды губит, их клюкой толкая
И под ногами в прах их пыльный превращая.
СXXVІ.
Коль жизнь не ложь, зачем же суждено
Природою страдать нам так глубоко?
За что греха позорное пятно?
Вот в небесах раскинулся широко
Анчар громадный, и, как дождь, с него,
Страданье, смерть, карая нас жестоко,
Струятся вниз. Больней же нам всего,
Когда не видим мы несчастья своего.
СXXVІІ.
Но мысли все ж я не хочу бояться:
В ней мой приют и радость вся моя;[223]223
«Во всяком случае», говорит автор «Академических Вопросов», «я уверен, что какова бы ни была судьба моих рассуждений, философия вновь приобретет то уважение, которым она должна пользоваться. Свободный и философский дух нашей нации был предметом удивления для всего мира; здесь заключалось лестное отличие англичан от других народов и светлый источник всей их славы. Неужели же мы забудем мужественные и полные достоинства чувства наших предков и опять пустимся болтать языком мамки или кормилицы о ваших добрых старых предрассудках? Не так защищают дело истины. Не так отцы наши поддерживали ее в блестящия эпохи нашей истории. Предрассудок может овладевать на короткое время внешними укреплениями, пока разум спит в самой крепости; но если последний впадет в летаргический сон, то первый быстро водрузит свое знамя. Философия, мудрость и свобода взаимно друг друга поддерживают; кто не хочет рассуждать логически, тот ханжа, кто не может, тот глупец, а кто не смеет, тот раб». (Прим. Байрона).
[Закрыть]
От права мыслить – низко отказаться,
Расстаться с ним не в силах был бы я.
Хотя, с рожденья, разум наш тесня,
Его терзают, истины страшатся,
Во тьме наш дух заботливо храня, —
Но им луча не загасить златого,
Бельмо искусный врач все ж снимет у слепого.
СXXVІІІ.
Над аркой – арка…[224]224
Первый, второй и третий этажи амфитеатра Флавия или Колоссея (Колизея) были выстроены на сводах. Между арками, которых в каждом этаже или ярусе было по 80, стояли колонны, в каждом ярусе различного ордена: в нижнем – римско-дорического или, вернее, тосканского, в следующем ионического, а в третьем коринфского. Четвертый ярус, построенный императором Гордианом III в 244 г. взамен бывшей прежде наверху деревянной галлереи, сгоревшей от молнии в 217 г, представлял толстую стену, украшенную коринфскими пилястрами, с 40 квадратными окнами или отверстиями. Пространство между пилястрами было, как полагают, украшено металлическими щитами, арки же второго и третьяго ярусов – статуями. До нашего времени сохранилось около третьей части всей постройки.
[Закрыть] Иль на Колизей
Весь груз побед обрушил Рим надменный?
Луна струит сияние лучей…
Лишь этот свет небес проникновенный
Высоких дум источник сокровенный
Достоин освещать. И не могла
Мысль исчерпать до дна родник бесценный,
Хоть много перлов дивных в нем нашла.
Ночей Италии лазоревая мгла
СXXІХ.
Покрыла легкий свод небес тенями,
Что выдают нам беспредельность их;
Она лежит над мощными стенами
И осеняет славу дней былых.
В нетронутых развалинах земных,
Где время косу тщетно лишь ломает,
Живет свой дух. И вид зубцов стенных
Дворцы своей красою затмевает,
Пока влиянье лет их стен не украшает.
CXXX.
О, время, смерть красой венчаешь ты,[225]225
В то время, когда Байрон был в Риме, и еще долго спустя, развалины Колизея были покрыты множеством кустарников и диких цветов. Целые книги были написаны о «флоре Колизея», в которой насчитывалось до 400 видов. Но все эти материалы для гербариев, излюбленные посетителями развалин, были уничтожены в 1871 г., когда все развалины были вычищены и вымыты, – из опасения, что распространение корней растений может ускорить разрушение исторического памятника.
[Закрыть]
Ты скорбь больных сердец нам исцеляешь
И, разрушая лживые мечты,
Ты заблужденья наши исправляешь;
Ты и любовь и правду проверяешь;
Светлей всех истин – истина твоя;
Не торопясь, ты все косой срезаешь…
К тебе свой взор и руки поднял я,
К тебе, о мститель наш, летит мольба моя.
CXXXI.
Здесь, где твой храм воздвигло разрушенье,
Где ты над всем победно вознеслось,
Обломки лет прими ты в приношенье.
Их надо мной не много пронеслось,
Но много бед на долю их пришлось…
Не внемли мне, коль я надменным был,
Но если счастья редкие мгновенья,
Как гнев врагов, спокойно я сносил, —
То сделай, чтоб в груди не я лишь меч хранил.
СXXХІІ.
О, Немезида! ты не забывала
Измерить вес порочности людской.
Молитва в храмах здесь тебе звучала.
Ты, вызвав диких фурий мрачный рой,
Ореста отдала их мести злой
За то, что кровь им пролита родная.
Зову тебя, где твой престол былой!
Как бьется сердце, грудь мне разрывая…
Должна же разбудить тебя мольба живая.
СXXХІІІ.
Иль, чтоб меня за грех отцов карать,
Нанесено мне столько ран глубоких?
Не стал бы кровь я вовсе унимать,
Когда б был честным меч врагов жестоких.
Теперь щажу я пурпур струй широких,
Тебе я эту кровь передаю,
И яд своих страданий одиноких.
Я мог бы сам готовить месть мою,
Когда б… но бодрствуй ты, пока я мирно сплю.
СXXХІV.
Хоть речь моя свободно изливалась,
Но не боюсь я горя своего.
Когда, пред кем мое чело склонялось?
Кто видел слезы сердца моего?
Но мавзолей минувшего всего
В моих стихах потомкам сохранится,
И долго будут помнить все его.
И слов моих пророчество свершится
И, как проклятие, над миром разразится.
СXXXV.
Прощение, – вот будет месть моя.
О, мать земля, к тебе я прибегаю,
К свидетельству небес взываю я!
Иль я с судьбой сражаться не желаю?
Иль я страданий жгучих не прощаю?
Разбито сердце. Мозг мой иссушен.
Былых надежд давно я не питаю,
И лишь затем досель не побежден,
Что не из рыхлой все ж я глины сотворен.
СXXXVІ.
Испил до дна я чашу зол возможных,
От беспощадной злобности врагов
До мелочных обид, измен ничтожных;
От громкой клеветы до тихих слов,
Оружия презреннейших лжецов,
Что могут лгать одним значеньем взгляда
И сеют клевету в толпе глупцов
Пожатьем плеч иль вздохом, полным яда,
Пускай молчат они – поймут их так, как надо.
СXXXVІІ.
Но не напрасно все ж я в мире жил.
Хоть зоркость мой усталый ум теряет,
Хотя огонь души моей остыл,
Хотя борьба мне тело изнуряет, —
Все ж нечто есть, чего не убивает
Ни время, ни страданье. Будет жить
Оно, покуда прах мой истлевает,
Как отзвук лиры, станет тех будить,
Чьих каменных сердец теперь мне не пробить.
СXXXVІІІ.
Довольно… Я молчу пред силой мощной,
Царящей в сих таинственных местах.
Проходишь ты безмолвно в час полнощный,
Вселяешь ужас ты, не мелкий страх.
Бродить ты любишь там, где на стенах
Плющ шелестит зелеными листами;
Ты оживляешь все у нас в глазах;
Сливаемся мы с прошлыми веками
И созерцаем жизнь, невидимые сами.
CXXXIX.
Толпа гудит, как пчел жужжащий рой;
Вот шумный вздох, вот ропот одобренья,
А там, внизу, кипит смертельный бой…
К чему вся эта кровь и преступленье?
То цезарей великих развлеченье,
Забава римлян… Что ж, ведь умирать
Нам все равно, что в цирке, что в сраженье.
Не все ль равно, где мы должны играть,
И где должны потом актеры истлевать?
CXL.
Вот гладиатор, вражеским мечом
Пронзен, лежит.[226]226
Представляет ли удивительная статуя, вызвавшая эти стихи, в самом деле умирающего гладиатора, – мнение, упорно поддерживаемое вопреки критике Винкельмана, – или, как с уверенностью утверждал этот великий антикварий, она изображает греческого герольда {«Или Полифонта, герольда Лайя, убитого Эдипом, или Копрея, герольда Эврисеея, убитого афинянами в то время, когда он намеревался удалить Гераклидов от алтаря (в честь его установлены были ежегодные игры, продолжавшиеся до времен Адриана), или Анфемокрита, афинского герольда, убитого мегарцами, которые ничем не искупили этого нечестивого поступка». (Примечание Байрона к своему примечанию).}, или же, наконец, ее следует признать, согласно мнению итальянского переводчика Винкельмана, изображением спартанского или варварского щитоносца, – во всяком случае, в ней с уверенностью можно видеть копию с мастерского произведения Ктезилая, изобразившого «умирающего раненого человека, в котором еще сохранился остаток жизни». Монфокон и Маффеи полагали, что перед нами – подлинная статуя Ктезифона; но эта статуя была бронзовая. Гладиатор находился первоначально на вилле Людовизи, и был куплен папой Климентом XII. Его правая рука целиком реставрирована Микель-Анджело» (Прим. Байрона).
Современная художественная критика установила с несомненностью, что эта статуя изображает умирающого галла.
[Закрыть] На локоть он склонился;
Он с неизбежной смертью примирился,
Следов предсмертной муки нет на нем.
Вот на песок он тихо опустился,
И, словно капли туч передовых,
Из ран его кровавый дождь струился…
И умер он, а рев еще не стих,
Каким толпа венчает баловней своих.
CXLI.
Хотя он слышал крик толпы жестокой,
В нем ничего тот крик не разбудил.
Всем существом он был в стране далекой.
Что жизнь его? Он ей не дорожил.
Пред ним Дуная берег, где он жил,
Жена его… вот дети вкруг резвятся…
А он, как шут, для римлян кровь пролил!
О, поскорей пусть раны отомстятся,
И на порочный Рим пусть готы устремятся!
CXLII.
Где в старину лилась ручьями кровь
И где толпа проходы наводняла,
То отливая, то сгущаясь вновь,
И, как поток весенний, бушевала
И жизнь иль смерть свободно раздавала, —
Звучал один мой слабый голос там,
Да робкий свет звезда лишь разливала
По галереям, аркам и стенам,
Да эхо гулкое лишь вторило шагам.
CXLIII.
Из мощных стен, что пощадило тленье,
Возникли башни, виллы, города;
Не отличить вам сразу никогда,
Что было здесь, – простое ль расхищенье
Или развалин древних обновленье.
Но подойдите, – тотчас перед вами
Опустошенье явится тогда,
И свет дневной пытливыми лучами
Откроет бреши вам, пробитые веками.
CXLIV.
Когда ж луна над городом встает
И в небесах зенита достигает
И свой печальный свет оттуда льет;
Когда звезда сквозь трещину мерцает
И в тишине зефир ночной играет
Душистою гирляндою цветной,
Что стены те, как Цезаря, венчает;[227]227
«Светоний (кн. I, гл. 45) сообщает, что Цезарю было в особенности приятно постановление сената, разрешавшее ему постоянно носить лавровый венок: он заботился не о том, чтобы показать себя покорителем мира, а o том, чтобы скрыть свою плешь. Конечно, иностравцу в Риме ни за что не отгадать бы этой причины, – да и мы не угадали бы ея без помощи историка». (Прим. Байрона)
[Закрыть]
И всюду свет, печальный и простой —
Герои там встают, что дремлют под землей.
CXLV.
«Рим с Колизеем связаны судьбою:[228]228
«Эти слова приводятся в «Падении Римской Империи» в доказательство того, что Колизей был еще цел, когда его видели Англосаксонские паломники в конце VII или в начале VIII века. Заметку о Колизее можно найти в «Историч. Объяснениях», стр. 263». (Прим. Байрона).
[Закрыть]
«Падет один, коль рушится другой,
«В паденье ж Рим – мир увлечет с собою».
Произнесен здесь приговор такой
Пришельцами из Англии родной.
Живут еще пока все три творенья:
Жив древний Рим с бессмертной красотой,
Жив Колизей – искусств произведенье,
Жив старый грешный мир – обитель преступленья.
CXLVI.
А ты, простой, но величавый храм,[229]229
«Хотя и лишенный всех своих бронзовых украшений, за исключением лишь одного кольца, которое было необходимо для сохранения верхнего отверстия; хотя много раз подвергавшияся пожарам, нередко заливаемый наводнениями и всегда открытый дождю, этот храм сохранился, все-таки, лучше всех прочих памятников древности. С небольшими изменениями он перешел от языческого культа к христианскому, – и его ниши оказались настолько удобными для христианского алтаря, что Микель-Анджело, всегда внимательно изучавший античную красоту, избрал их план образцом для католической церкви». Форсайт, Италия, 1816, стр. 137.
Пантеон состоит из двух частей: портика или притвора, поддерживаемого 15-ю коринфскими колоннами, и ротонды, или круглого храма, в 143 фута вышиною и 142 в поперечнике. Надпись над портиком (M. AСRIPPA. L. F. Cos. tertium. Fecit) указывает, что храм был построен Агриппой в 27 г. до Р. X.
[Закрыть]
Святой алтарь, суровый, но прекрасный,
Где возносились жертвы всем богам.
Один лишь ты стоишь спокойный, ясный,
А род людской вокруг, в борьбе напрасной
Волнуется, на гибель обречен…
Разбился здесь тиранов жезл ужасный,
Сломалась о тебя коса времен,
Ты жив, о храм искусств, о славный Пантеон!
CXLVII.
Прекрасных лет, прекрасного искусства
Ты памятник, ты чистый образец,
Ты будишь в нас возвышенные чувства,
О, зодчества разграбленный дворец!
На все, что древний создал здесь резец,
В отверстье сверху слава разливает
Свои лучи. Здесь набожный пришлец
Пред алтарем колена преклоняет,
Поклонник гения своих богов встречает.[230]230
«В Пантеоне помещаются бюсты современных великих или, по крайней мере, выдающихся людей. Поток света, некогда падавший сквозь широкий купол на целый круг богов, теперь освещает многочисленное собрание смертных, из которых иные были почти обоготворены уважением своих современников». (Прим. Байрона).
«Бюсты Рафаэля, Аннибала Карраччи, Пьеррино дель Вага, Цуккари и др. плохо гармонируют со многими новейшими фигурами, украшающими теперь ниши Пантеона. (Гобгоуз).
[Закрыть]
CXLVIII.
Темница предо мной. Что вижу я
В ее печальном, тусклом освещенье?
Рисует мне в тиши мечта моя
Два призрака, два легкие виденья…
Нет, то не сон, не бред воображенья:
Вот на одном мелькает седина,
Другая ж юной силы воплощенье.
Что в этот час там делает она?
Грудь нежная ее зачем обнажена?
CXLIX.
Источник чистый бьется, грудь вздымая,
Готовый жизнь в струе своей давать,
Когда, ребенка к сердцу прижимая,
Его целует молодая мать.
Нет, никогда мужчине не понять,
Как ей тепло от глазок ясных взгляда,
Как любо плач ей лаской унимать
И возраст наблюдать родного чада…
Что ж, даже Каин был для матери отрада.
CL.
Но здесь у нежной дочери своей
Берет назад ее отец любимый
Тот чудный дар, что раньше дал он ей.
И не умрет он, юностью хранимый,
Пока огонь любви неугасимый
У ней в крови, пока неистощим
Тот благодатный Нил, тот ключ родимый…
Пей из него, старик, питайся им:
Гордиться мог бы рай источником таким.
CLI.
Пленяет ум про млечный путь сказанье,[231]231
Миф о млечном пути повествует, что когда Меркурий принес младенца Геркулеса на небо, к груди Юноны, чтобы она, вместе с своим молоком, дала ему бессмертие, богиня оттолкнула ребенка, и капли молока, упавшия в пустоту, обратились в мелкия звездочки. Эта легенда рассказана Эратосфеном Киренейским в его «Катастеризмах», № 44.
[Закрыть]
Но красоты подобной все ж там нет.
Здесь видим мы иных лучей сиянье,
В темнице этой льет природа свет
Сильней, чем в пышном сонмище планет.
Так пусть же, пусть струя живая бьется,
От сердца к сердцу пусть не сохнет след,
И в старом сердце снова жизнь проснется.
Так дух, освободясь, с источником сольется.
CLII.
Холм Адриана дальше виден мне.
И мавзолей его пирамидальный[232]232
Moles Hadnani, теперь – замок св. Ангела, находится, на берегу Тибра, на месте «садов Нерона». Он состоит из квадратного фундамента, каждая сторона которого имеет в длину 247 футов. На этом фундаменте возвышается круглая башня, около 1000 футов в окружности, коническая вершина которой некогда покрыта была землей и обсажена вечнозелеными растениями. Спиральный корридор вел в центральную комнату, где стояла, как полагают, порфировая гробница, в которой Антонин Пий поместил прах Андриана. Император Гонорий (428 по Р. X.) впервые обратил этот мавзолей в крепость. Бронзовая статуя ангела-разрушителя, поставленная на вершине башни, относится к 1740 г. и заменила собой пять ранее стоявших там статуй, из коих самая ранняя воздвигнута была в 1453 г.
[Закрыть]
Теряется в лазурной глубине.
Взяв образец гробницы колоссальной
У пирамиды Нила погребальной,
Всесильный цезарь повелел создать
Для тела своего дворец печальный.
Лишь жалкий прах там должен истлевать!
И зритель горький смех не в силах удержать.
CLIII.
Вот дивный храм пред взором выступает.
Алтарь Дианы[233]233
«Алтарь Дианы» – знаменитый в древности храм Дианы в Эфесе, сожженный Геростратом.
[Закрыть] – келья перед ним.
Христос моленьям верных здесь внимает
Над дорогим апостолом своим.
Эфесский храм знаком глазам моим:
Лежит колонн там мрамор раздробленный,
Дает их тень приют шакалам злым.
Софии зрел я купол позлащенный,
Османами в мечеть бесславно превращенный.
CLIV.
Но средь былых и новых алтарей
Лишь ты достоин Бога, храм прекрасный,
От глубины веков до наших дней.
С тех пор, как пал Сиона град несчастный,
Грехами вызвав Бога гнев ужасный, —
Что, гордый храм, сравняется с тобой
Величием и прелестию ясной?
Могущество и Слава с Красотой
В ковчеге дивном том придел имеют свой.
CLV.
Вот ты вошел. Твой дух не подавило
Величие святого алтаря,
Хотя оно все то же, что и было.
Здесь слабый дух, внезапно воспаря,
Надеждами священными горя,
Себя достойным мнит сего чертога.
Коль Божество узрит душа твоя
Лицом к лицу, как зрит жилище Бога, —
То взор Его очей не заблистает строго.
CLVI.
Чем дале ты, тем выше он встает,
Гармонию размеров соблюдая.
Вершина Альп пред взором так растет,
Громадностью изящной поражая…
Там живопись, там мрамор, там златая
Горит лампада в пышных алтарях,
И, здания земные затмевая,
Чье основанье неподвижный прах, —
Там купол царственный, парящий в облаках.
CLVII.
Не в силах все обнять в едином взоре,
Ты должен храм на части разбивать:
Коль много бухт нас манит в синем море,
Не знаем мы, куда сперва пристать.
Здесь постепенно нужно созерцать
Детали все, как цепи чудной звенья,
Пока не сможет слабый ум связать
Все дивные от храма впечатленья,
Чью славу он не мог обнять в одно мгновенье.
CLVIII.
Виной тому не храм, но мы лишь сами;
Виной тому – ничтожность чувств людских…
Я не умею слабыми устами
Вам о восторгах рассказать своих…
Прекраснейший из алтарей земных
Над чувствами бессильными смеется,
Пока не развернем мы шире их,
Пока наш робкий дух не встрепенется…
Тогда лишь гордый храм обзору поддается.
CLIX.
Блеснет здесь свет в сознании твоем,
И – больше, чем простое удивленье
Или восторг пред славным алтарем,
Иль пред великим чудом умиленье, —
Сильнее, чем талантом восхищенье,
Дотоль еще невиданным землей, —
Вкусишь ты здесь источник вдохновенья,
И, черпая песок в нем золотой,
Поймешь ты весь простор идеи неземной.
CLX.
Вот Ватикан. Взгляни, как близ дворца
Там Лаокон в мученьях погибает.
И смертный ужас, и любовь отца
С бессмертным он терпением сливает.
Борьба кипит… Но тщетно напрягает
Свои усилья бедный Лаокон, —
Живая цепь сильней его сжимает,
За мукой страшной муку терпит он.
И замирает в нем за стоном тяжкий стон.
CLXI.
Иль посмотри на изваянье это:
Не выпуская лука своего,
Стоит он, бог поэзии и света,
Как воплощенье солнца самого.
Победой дышит гордый лик его,
Уже летит пучек перунов мстящих.
Все выдает в нем сразу божество:
Презрение и мощь в ноздрях дрожащих
И ярких молний блеск в его очах грозящих.
CLXII.
И кажется, те дивные черты
Создали грезы нимфы одинокой,[234]234
Изящная красота статуи Аполлона Бельведерского напомнила Байрону черты женщины, которую он некогда думал сделать своей женой: «Аполлон», писал он Муру 12 мая 1817, «портрет леди Аделаиды Форбс. Большого сходства я, кажется, никогда не видел».
[Закрыть]
Влюбленной нимфы сладкие мечты
О юном боге, там, в стране далекой.
Мечтать об этой красоте высокой
Могли бы мы лишь в миг, когда в сердцах
У нас горит бессмертья луч глубокий,
Когда, блестя, как звезды в небесах,
Сольются мысли все в божественных чертах.
CLXIII.
Коль с неба пламень сердца сокровенный,
Похитил нам отважный Прометей,
То этот долг ваятель вдохновенный
Уж отдал небу статуей своей.
Поэзии исполнено все в ней,
И, кажется, задумано богами
Бессмертное создание людей.
Нетронутый бегущими годами,
Огнем рожденный бог досель стоит пред нами.
CLXIV.
Но где ж теперь мой верный пилигрим,
Герой моих свободных песнопений?
Что ж медлит так приходом он своим?
Нет, не придет он, лиры добрый гений,
Бледнеет он с толпой своих видений
И свой прощальный вздох в стихе нам шлет.
Но коль он жив среди земных творений,
Оставь его… Он все равно умрет,
И ночь небытия печаль его возьмет.
CLXV.
Все в хаосе том мрачном утопает,
И тени, и тела. На все кругом
Он свой покров туманный расстилает;
Все кажется нам призраками в нем,
И исчезает в облаке густом
Земных лучей непрочное сиянье,
И гаснет слава… Но во мраке том
Виднеется вдали ее мерцанье.
Печальный этот свет приносит нам страданье
CLXVI.
И заставляет жадный взор вперять
В немую мглу. И все мы знать желаем,
Что нас должно за гробом ожидать,
Когда мы прах свой жалкий покидаем.
И мы о славе суетной мечтаем,
Хоть знать о ней не будем ничего.
Но счастье в том, что навсегда бросаем
Тогда мы бремя сердца своего,
Не будет литься впредь кровавый пот его.
CLXVII.
Но чу! Из тьмы ночной мы услыхали
Неясный ропот, заглушенный стон.[235]235
Шарлотта-Августа (р. 1796) единственная дочь принца-регента, вышла за Леопольда Саксен-Кобургского и умерла в родах, в 1817 г. «Смерть принцессы Шарлотты чувствовалась даже здесь» (в Венеции), писал Байрон одному из друзей, «а на родине она, конечно, была похожа на землетрясение. Судьба этой несчастной девушки печальна во всех отношениях: смерть в двадцать лет, при рождении ребенка, и еще мальчика, какая участь для принцессы и будущей королевы, и как раз в то время, когда она только что стала чувствовать себя счастливой, и радоваться, и внушать надежды… Мне очень грустно».
[Закрыть]
Понятен этот тяжкий вздох печали,
Коль весь народ несчастьем поражен.
Земля разверзлась. Мрак со всех сторон…
Но средь толпы видений бестелесной
Одною тенью взор наш восхищен:
То бледный образ матери прелестной,
К груди прижавшей сына с ласкою небесной.
CLXVIII.
О где ж ты, отпрыск славных королей?
Надежда наций! Иль тебя не стало?
О, почему же смерть косой своей
Взамен тебя сразить не пожелала
Тех, чью главу любовь не осеняла?
Ты умерла в печальный час ночной,
Когда над сыном сердце истекало
Горячей кровью… Унесла с собой
Ты радость и мечты своей страны родной.
CLXIX.
Ведь без вреда крестьянка молодая
Рождает сына. Ты же умерла
Во цвете лет, любовь вокруг вселяя.
И нет души, чтоб слез здесь не лила,
Какой бы хладной раньше ни была.
Тебя оплачет скорбная Свобода, —
Ты радугу ей светлую дала.
А бедный твой супруг… Зачем Природа
Соединила вас для одного лишь года?
CLXX.
Как груб он, белый холст одежд твоих.
Плод брака твоего – лишь прах холодный…
Нет златокудрой дочери в живых,
Любимицы Британии свободной.
Надеждами был полон дух народный,
Мечтали мы, для счастия детей,
Что милый сын принцессы благородной
Взойдет на трон… Он был для всех очей
Как светлый луч, и вдруг – исчез во тьме ночей.
CLXXI.
Мне больше жаль британцев сиротливых,
А не ее: непрочен фимиам
Любви народной; ложь придворных льстивых
С младенчества привычна королям;
И лести звон приятен их сердцам,
Пока народ не потерял терпенья…
Рок изменяет в счастье сыновьям,[236]236
«Мария умерла на эшафоте; Елизавета от разрыва сердца; Карл V – монахом; Людовик XIV банкротом в отношении финансов и славы; Кромвель от тревог; и «величайший после всех» Наполеон живет в плену. К этому перечню государей можно было бы прибавить еще длинный, но излишний список имен, не менее знаменитых и несчастных». (Прим. Байрона).
[Закрыть]
Он бросит гирю в чашу – в то ж мгновенье
Вдруг постигает власть нежданное крушенье.
CLXXII.
Таков быть мог ее удел земной.
Нет, сердце мысль о том не допускало:
Она сияла благостью, красой,
В величии, – она врагов не знала.
Как быстро смерть ее от нас умчала,
Как много уз порвала вдруг она!
Скорбь молнией сердца нам пронизала.
От короля до нищего, страна
Как громом смертью той была потрясена.
CLXXIII.
Вот дремлет Неми средь холмов лесистых[237]237
«Деревня Неми находится неподалеку от Ариции, служившей местопребыванием Эгерии. Тенистые деревья, окружавшия храм Дианы, дали ей сохранившееся до нашего времени прозвание «Рощи». Неми лежит всего в нескольких часах езды от удобной гостиницы Альбано». (Прим. Байрона).
Бассейн озера Неми – кратер потухшего вулкана. Отсюда его сравнение со свернувшейся змеей. Его голубая поверхность не дает ряби даже при таком ветре, от которого приходит в ярость соседнее море. Потому-то Байрон и сравнивает его с «глухою ненавистью», в противоположность откровенному «гневному вихрю».
[Закрыть]
И буйный вихрь, что дубы с корнем рвет
И гонит волны из брегов скалистых,
И пеной их до неба достает, —
Тот гневный вихрь до Неми не дойдет.
На озере спокойна гладь немая,
Его струи ничто не шелохнет
И спит оно, как ненависть глухая,
Иль как змея, на солнце кольцами блистая.
CLXXIV.
Альбано плещет меж соседних скал;
Вот Тибр сверкает лентой предо мною,
И омывает моря синий вал
Брег Лациума дальний… Песнь про Трою
Там загорелась яркою звездою.
Направо вилла: Туллий находилъ
В ней тишину, наскучив суетою.
А там, где кряж полнеба обхватил,
Измученный поэт в прелестной мызе жил.
CLXXV.
Но я забыл: мой странник близок к цели.
Окончен путь. Простимся мы сейчас.
Пусть будет так. Но прежде захотели
На море мы взглянуть в последний раз.
Вот впереди, насколько видит глаз,
Оно блестит лазурной пеленою…
Прими же, море, здесь привет от нас!
Ты от Кальпэ пленяло взор красою
До мест, где Эвксис плещет темною волною
CLXXVI.
У Симплегадеса. Ряд быстрых лет,
Но полных все же бурь и утомленья,
Оставили на нас обоих след.
Плод не велик от нашего стремленья, —
Его сушили слезы и сомненья.
Но не напрасно пройден путь земной:
И солнца луч дает нам наслажденье,
И море, и земля пленит порой,
И забываем мы про злобный род людской.
CLXXVII.
В пустыню я б хотел бежать глухую
С одним лишь другом – с милою моей.
Забыл бы там про ненависть людскую
Молился бы в тиши я только ей.
Стихия! В мощи пламенной твоей
Себя порой я вижу обновленным.
Пошли же мне подругу поскорей!
Иль не живет в краю уединенном
Она, боясь предстать пред взором умиленным?…
CLXXVIII.
Есть наслажденье в девственных лесах;
Пустынный берег дорог мне порою.
Есть красота в синеющих валах
И в музыке таинственной прибоя.
Природа стала мне теперь родною,
Я больше, чем людей люблю ее;
Сливаясь с ней взволнованной душою,
Кто я, чем был, – я забываю все,
И сердце дивных чувств исполнено мое.
CLXXIX.
Стремись, о, море, вдаль волной широкой.
Ты кораблей выносишь тяжкий гнет.
Все давит человек пятой жестокой,
Лишь до тебя досель не достает.
Порой обломки шумный вал несет,
Но это след твоей же бури грозной.
И словно ключ на дно тогда идет
Природы царь, – пловец неосторожный,
И гроба не найдет там прах его ничтожный.
CLXXX.
Нет на твоем пути его следов,
И грабить ты себя не позволяешь.
Ты, презирая власть его оков,
С своей груди долой его бросаешь.
Ты к небу в пене волн его вздымаешь.
Трепещущий, он молится богам
О помощи, а ты его кидаешь
Вдруг с вышины к скалистым берегам.
О, дерзновенный червь! Пускай лежит он там.
CLXXXI.
Пусть гром орудий воздух сотрясает,
И сокрушает стены крепостей,
Сердца народов в ужас повергает,
Борта колеблет тяжких кораблей, —
Свободен все же бег твой величавый
И служит царь земли для волн забавой.
Все тает в пене облачной твоей:
Армада тонет на пути за славой
И гибнет Трафальгара доблестный трофей.[238]238
«Буря, последовавшая за сражением при Трафальгаре, уничтожила большую часть (если не всю) захваченной добычи, – 19 линейных кораблей, взятых в этот достопамятный день. Мне стыдно было бы напоминать о подробностях, которые должны быть всем известны, если бы мы не знали, что во Франции публику держат в неведении относительно исхода этой славнейшей победы нового времени, и что в Англии вошло теперь в моду говорить о Ватерлоо, как о победе исключительно английской, и называть его рядом с Бленгеймом и Аженкуром, Трафальгаром и Абукиром. Потомство решит, кто прав; но если говорить об этом сражении, как об искусном или удивительном деле, то его можно сравнить с битвой при Заме, где наше внимание больше привлечено Аннибалом, нежели Сципионом. И, конечно, мы придаем значение этому сражению не потому, что оно было выиграно Блюхером или Веллингтоном, а потому, что оно было проиграно Бонапартом, который, не смотря на все свои пороки и ошибки, ни разу не встречал противника, равного ему по дарованиям (насколько это выражение применимо к завоевателю) или по добрым намерениям, умеренности и храбрости. Взгляните на его преемников повсюду в Европе: их подражание наиболее худшим сторонам его политики ограничивается лишь их сравнительным бессилием и их положительною неспособностью». (Прим. Байрона).
[Закрыть]
CLXXXII.
Нет древних царств на берегах твоих.
Где Греции и Рима дни былые?
Где Карфаген? Ты омывало их
Во времена свободы золотые,
В тяжелые года тиранов злых.
Ты видело могучих царств паденье,
Теперь они – наследье стран чужих.
Одно лишь ты не знаешь измененья,
Твой так же светел лик, как в первый день творенья.
CLXXXIII.
Ты в час грозы умеешь отражать
Лик Божества. В затишья ль миг спокойный,
Когда зефир твою волнует гладь,
Иль ураган поднимет рев нестройный, —
Среди ль холодных льдов, в стране ли знойной
Свои ты волны мрачные стремишь, —
Всегда, везде – ты Бога трон достойный.
Ты чудища на дне своем родишь
И, покоряя все, ты грозно вдаль летишь.
CLXXXIV.
Я мальчиком еще с тобой сдружился.
Любил волне отдаться, чтоб она
Несла меня… С прибоем я резвился;
Когда ж пред близкой бурею волна
Вдруг пенилась, бурлива и темна, —
То хоть тревога в сердце проникала,
Она была все ж прелести полна…
И как ребенка, ты меня качало
И гриву волн твоих рука моя ласкала.
CLXXXV.
Окончен труд. Умолкнул лиры звон,
Вдали чуть слышным эхом замирая.
Рассейся же, о мой волшебный сон,
И лампа гаснет пусть моя ночная.
Хотелось бы, чтоб ярче песнь живая
Струилася… Но что жалеть о ней?
Уже не та теперь мечта былая,
Уж призраки бледнеют прежних дней,
Огонь фантазии уже горит слабей.
CLXXXVI.
Итак – прощайте. Близкую разлуку
Я задержу приветствием своим,
Но на прощанье крепко жму вам руку.
Коль вы бродили с путником моим,
Коль мысль, порою брошенную им,
Хоть раз один потом вы вспоминали, —
Не даром брал свой посох пилигрим:
Останутся при нем его печали,
А вы в речах его благой урок познали.

Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































