Текст книги "Чайльд Гарольд"
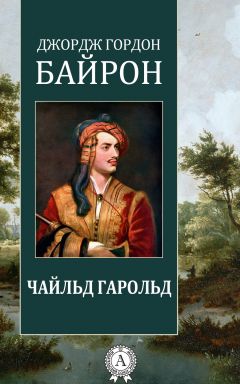
Автор книги: Джордж Байрон
Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ
«Afin que cette application vous forèat de penser à autre chose, il n'у а en, vérité de
remède, que Celui là et le temps».
Lettre du Roi de Prusse à d'Alembert. Sept. 7, 1776.[126]126
Пусть это занятие заставит вас думать о другом; только оно, да еще время способны вас излечить. Письмо короля Пруссии Д'Аламберу, 7 сент. 1776 (франц.).
Эпиграф к песни третьей взят Байроном из письма Фридриха II, короля Пруссии (1740–1786), к Жану Лерону Д'Аламберу (1717–1783), философу, математику и филологу, потерявшему друга.
[Закрыть]
I.
Последний отпрыск рода, плод единый
Моей любви, о Ада! дочь моя,[127]127
«Перелистывая первые страницы истории Гунтингдонского перства, вы увидите, как часто встречалось имя Ады в ранние дни Плантагенетов. Я нашел его в своей собственной родословной времен Джона и Генриха… Оно кратко, древне, звучно и встречалось в моем роде; по этим причинам я и дал его моей дочери». Так писал Байрон Мерею, 8 окт. 1820. В другом, более раннем (1816) письме он говорит, что это было имя сестры Карла Великого, – «как я прочел в одной книге, трактующей о Рейне.»
Августа-Ада Байрон родилась 10 декабря 1815 г.; в 1835 г. вышла замуж за Вильяма Кинга Ноэля, барона Кинга, получившего потом титул графа Ловлэса; скончалась 27 ноября 1852 г. У нее было от этого брака трое детей: виконт Окхэн, нынешний граф Ловлэс и лэди Анна-Изабелла Ноель, в супружестве за Вильфридом Скауэном Блентом. «Графиня Ловлэс», сказано было в одном из ее некрологов, «была личностью совершенно оригинальною, и поэтический темперамент был единственной общей чертою ее характера с характером ее отца. Но ее гений (а она действительно обладала гением) был не поэтический, а метафизический и математический; ее ум был постоянно занят строгими и точными исследованиями. О ее преданности науке и оригинальных математических дарованиях свидетельствует ее перевод, с объяснительными примечаниями, сочинения Менабреа об аналитической машине Ваббэджа (1842)». Она была не похожа на отца ни чертами лица, ни складом ума, но унаследовала его умственную силу и настойчивость. Подобно ему, она скончалась на 37-м году, и гроб ее, по ее желанию, был поставлен рядом с его гробом, в фамильном склепе Гэкналл Торкарда.
[Закрыть]
На мать похожа ль ты? Чужда кручины,
С улыбкою последний раз меня
Ты проводила, но тогда нас грела
Надежда, что теперь оделась тьмой…
Чу, ветер дует; буря зашумела;
Я в даль несусь;[128]128
Байрон покинул Англию во второй и последний раз 25 апреля 1816 г. Его сопровождали Вильям Флетчер и Роберт Руштон, – «слуга» и «паж» первой песни, доктор Полидори и лакей-швейцарец.
[Закрыть] куда ж стремлюся смело?
Не знаю, но без слез покину край родной.
–
II.
Я снова мчусь средь волн; я снова в море.
Как конь, что верен всаднику, волна
Покорна мне, бушуя на просторе.[129]129
Ср. припис. Шекспиру пьесу «Два знатных родича», II, 2 (Шекспир, изд. Под ред. С. А. Венгерова, V, 244):
Не будут кони гордые под нами Как море волноваться и кипеть. «Из этого несколько натянутого сравнения, с помощью удачной перестановки уподоблений и замены общего понятия «море» более определенным – «волна» развилась ясная и благородная идея Байрона». (Мур)
[Закрыть]
Куда б меня ни принесла она,
Ей шлю привет! Пусть будет смят грозою
Мой парус, все ж я понесусь вперед!
Я в этом сходен с порослью морскою:
Разъединясь с родимою скалою,
Она несется в даль по воле бурных вод.
III.
Я жертву добровольного изгнанья
В дни юности воспел. С моей душой
Сроднилось это мрачное созданье;
Так ветер гонит тучу пред собой.
Я в жизни испытал страданий много;
Остывших слез и дум тяжелых след
В поэме скрыт; теперь моя дорога
Идет пустыней мрачной и убогой,
Где властвуют пески, но где растений нет.
IV.
Я, может быть, узнав волненья страсти,
Узнав тяжелый гнет душевных мук,
Над лирой не имею прежней власти,
Но все ж ее не выпущу из рук.
Я буду петь, стремясь найти забвенье,
Мою тоску стараясь заглушить;
Увы, быть может, эти песнопенья
Лишь мне доставят только наслажденье,
Все ж буду рваться к ним, чтоб их благословить.
V.
Кто жизненных тревог вкушал отравы,
Кто одряхлел от горя, не от лет,
Кто чужд любви, не гонится за славой,
Кого не удивит коварством свет,
Чье сердце честолюбьем не согрето, —
Тот знает, как в тайник своей души
Заглядывать отрадно; в блеске света
Витают там создания поэта,
Что полны дивных чар и вечно хороши.
VI.
Мы в образы и формы облекаем
Создания фантазии своей,
Сливаяся с волшебным мысли краем,
Чтоб создавать и чувствовать сильней.
Что я? – ничто; но ты, мой дух незримый,
Ты проникаешь всюду. Я с тобой
Витаю в царстве грез. В мой край любимый
Вхожу, тяжелой горестью томимый:
Я здесь утратил все, а там живу мечтой.
VII.
Но мыслям слишком много я простора
Давал. Такая их одела мгла,
Что череп мой не вынес их напора,
И принял вид кипящего котла.
Я сдерживать не мог порывов страсти
В дни юности. Тем жизнь я отравил;
Могу ль теперь не признавать их власти?
Все ж изменился я: судьбы напасти
Без ропота сносить я не лишился сил.
VIII.
Довольно о былом; печать молчанья
Наложим на него. Гарольд опять
Пред вами. Все гнетут его страданья,
Но дням его не в силах угрожать.
Увы! Гарольда время изменило.[130]130
«Первая и вторая песни «Паломничества Чайльд-Гарольда», при своем появлении в 1812 году, произвели на публику впечатление, превосходящее впечатление, когда-либо произведенное каким бы то ни было сочинением прошлого или настоящего столетия, и сразу украсили чело лорда Байрона тем венком, ради которого другим гениальным людям приходилось долго трудиться и который доставался им лишь через долгое время. Общим одобрением он был поставлен на первое место среди писателей своей родины. Среди этого общего восторга он и начал появляться в обществе. Его личные свойства, его манеры и обращение поддерживали очарование, разлитое вокруг него гениальностью; люди, имевшие возможность с ним беседовать, вовсе не замечая, что вдохновенный поэт часто являлся самым заурядным смертным, чувствовали влечение к нему не только в силу его благородных качеств, но вследствие какого-то таинственного, неопределенного и почти болезненного любопытства. Его наружность, как нельзя более подходившая для выражения чувств и страстей и представлявшая замечательный контраст очень темных волос и бровей со светлыми и выразительными глазами, являлась для физиономиста чрезвычайно интересным предметом наблюдения. Преобладающим выражением его лица было выражение привычной глубокой задумчивости, уступавшей место быстрой игре физиономии, когда он увлекался интересным разговором, так что один поэт сравнил его лицо со скульптурным изображением на прекрасной алебастровой вазе, которое можно вполне разглядеть только тогда, когда она освещена изнутри. Вспышки веселья, радости, негодования или сатирической досады, которыми так часто оживлялось лицо лорда Байрона, человек посторонний, проведя с ним только один вечер, мог бы, по ошибке, принять за его привычное выражение, – так легко и так удачно все эти настроения отражались в его чертах; но те, кто имел случай изучать эти черты в продолжение более долгого времени, и при различных обстоятельствах, как в состоянии покоя, так и в минуты возбуждения, должны признать, что обычным их выражением была грусть. Иногда тени этой грусти скользили по его лицу даже в самые веселые и счастливые минуты» (Вальтер Скотт).
[Закрыть]
Кого ж оно щадит? Когда оно
Проносится, нас покидает сила,
В нас гаснет мысль, лишась былого пыла…
В бокале у краев лишь пенится вино.
IX.
Свой кубок осушить признав за благо,
Гарольд на дне его полынь нашел;
Теперь фиал наполнив чистой влагой,
Он думал, что уйдет от прежних зол;
Но цепь его незримая давила,
Хотя оков не раздавался звон;
Былой тоски не уменьшалась сила;
Куда б нога Гарольда ни ступила,
С прошедшей мукою все сталкивался он.
X.
Решился Чайльд, холодный и суровый,
Сойдясь с толпой, с ней вновь делить досуг;
Кто радости узнать не может новой,
Тот не сроднится с болью новых мук.
Он все мечтал, сливаяся с толпою,
Следить за ней, тем насыщая ум.
Так делал он, любуяся красою
Далеких стран, обласканных судьбою,
Где, путешествуя, вкушал он сладость дум.
XI.
Кто, созерцая розу, чужд желанья
Ее похитить? С силой красоты
Вести борьбу – напрасное старанье…
О, сердце! постареть не можешь ты.
Кто славы луч встречает без привета?
Хоть труден путь, все гонятся за ним…
Гарольд опять в водовороте света,
Но грудь его иной мечтой согрета
И предан он теперь стремлениям иным.
XII.
Увы! сознал он скоро, что напрасно
Сошелся с бессердечною толпой;
С людьми он не был в силах жить согласно,
Склоняясь перед волею чужой.
Покорный лишь одним своим стремленьям,
Не мог мириться он с царящим злом;
Гордыни полн, чужим не верил мненьям
И понял, на толпу глядя с презреньем,
Что может, бросив свет, лишь жить в себе самом.
XIII.
Он, как друзей, встречал утесы, горы;
Ему служил жилищем океан;
Лазурь небес его пленяла взоры;
Любил он блеск и солнце южных стран;
Любил ущелья, степи, скалы, воды, —
Гарольд в общенье с ними жить привык;
Любил леса, пещер немые своды,
Но книгами пренебрегал, – природы
Ему понятней был таинственный язык.
XIV.
Как некогда халдеи, звезд теченье
Он созерцал и в них мечты своей
Он поселял волшебные виденья;
Блеск звезд не мог их затмевать лучей.
Но так парить всегда нельзя мечтою, —
Земною цепью скован сын земли.
Она отводит взор его с враждою
От неба, что пленяет красотою
И так приветливо кивает нам вдали.
XV.
Живя с людьми, он клял свое бессилье
И чах, тяжелым преданный мечтам;
Так, опустив подрезанные крылья,
Из клетки сокол рвется к небесам.
Порой Гарольд не мог мириться боле
С тюрьмой своей и звал свободу вновь;
Так сокол, удручен тяжелой долей,
Все бьется в тесной клетке, рвется к воле,
Но только грудь и клюв он разбивает в кровь.
XVI.
Хоть без надежд, но менее унылый,
Гарольд опять скитания начнет;[131]131
«В третьей песне Чайльд-Гарольда много неровностей. Мысли и образы иногда представляются искусственными, но все-таки в них виден значительный шаг вперед по сравнению с первыми двумя песнями. Лорд Байрон здесь говорит от себя, а не от чужого лица, и изображает свой собственный характер; он описывает, а не изобретает, а потому не имеет и не может иметь той свободы, которою пользуется автор совершенно вымышленного произведения. Иногда он достигает сжатости очень сильной, но в большинстве случаев – отрывочной. Полагаясь только на самого себя и разрабатывая собственные, глубоко запавшие в душу, мысля, он, может быть, именно вследствие этого приобрел привычку усиленно работать даже там, где не было повода для подобного труда. В первых шестнадцати строфах мы видим сильный, но печальный взрыв темной и страшной силы. Это, без сомнения, не преувеличенный отпечаток бурной и мрачной, но возвышенной души»! (Бриджес).
«Эти строфы, в которых автор, более ясно принимая на себя характер Чайльд-Гарольда, чем это было в первоначальном замысле поэмы, указывает причину, побудившую его снова взять в руки свой страннический посох в то время, когда все надеялись, что он уже на всю жизнь останется гражданином своей родины, – представляют глубокий моральный интерес и полны поэтической красоты. Комментарий, разъясняющий смысл этой грустной повести, еще живо сохраняется в нашей памяти, так как заблуждения людей, выдающихся своими дарованиями и совершенствами, не скоро забываются. События, весьма тягостные для души, сделались еще более тягостными вследствие публичного их обсуждения; возможно также, что среди людей, всего громче восклицавших по поводу этого несчастного случая, были и такие, в глазах которых обида, нанесенная лордом Байроном, преувеличивалась его литературным превосходством. Самое происшествие может быть описано в немногих словах: умные люди осуждали, добрые сожалели; толпа, любопытная от нечего делать или от злорадства, волновалась, собирая сплетни и повторением раздувала их; а бесстыдство, всегда жаждущее протискаться к известности, «цеплялось», как учил Фальстаф Бардольфа, шумело, хвасталось и заявляло о том, что оно «защищает дело» или «берет сторону». (Вальтер Скотт).
[Закрыть]
Та мысль, что он сгубил напрасно силы,
Что с смертью вечный мир он обретет, —
Его душе дарит успокоенье,
Его сближая с мрачною тоской;
Так моряки в тяжелый миг крушенья
Надеются в вине найти забвенье,
Чтоб кончить жизни путь, глумяся над судьбой.
XVII.
Остановись! здесь царства прах суровый;
Здесь след землетрясенья схоронен;
На месте том, что ж нет трофеев славы
И нет победой созданных колонн?[132]132
Насыпь с изображением бельгийского льва была воздвигнута голландским королем Вильгельмом I позднее в 1823 году.
[Закрыть]
Их нет; но не угасла правды сила,
И без прикрас то поле не умрет.
Победа! что ж ты миру подарила?
Как кровь войны поля обогатила!
Ужель великий бой принес лишь этот плод?
XVIII.
Перед Гарольдом Франции могила,
Кровавая равнина Ватерло;
Здесь в час один судьба орла сгубила
И развенчала славное чело.
Он, с высоты спустившись, с силой новой
Кровавыми когтями землю взрыл,[133]133
В рукописи этой строфы, написанной, как и предыдущая, после посещения Байроном поля битвы при Ватерлоо, соответствующие стихи читались:
В последний раз взлетев, орел надменный Кровавым клювом эту землю взрыл. Прочитав эти стихи, художник Рейнэгль нарисовал гневного орла, опутанного цепью и взрывающего землю когтями. Об этом рассказывали Байрону, и он написал одному из своих друзей в Брюссель: «Рейнэгль лучше понимает поэзию и лучше знает птиц, нежели я: орлы, как и все хищные птицы, пользуются для нападения когтями, а не клювом; поэтому я и переделал это место так:
Кровавыми когтями землю взрыл. Так, я думаю, будет лучше, – оставляя в стороне поэтическое достоинство стиха».
[Закрыть]
Но смял его напор врагов суровый…
Он пал, влача разбитые оковы,
Что им сраженный мир с проклятьями носил.
XIX.
Заслуженная кара!.. Но свободы
Не знает мир, – как прежде, он в цепях;
Ужель лишь для того дрались народы,
Чтоб одного бойца повергнуть в прах?
Прочь рабства гнет! Сольются ль с светом тени?
Покончив с львом, сдадимся ль в плен волкам?
Ужель, среди хвалебных песнопений,
Пред тронами падем мы на колени?
Нет, расточать грешно напрасно фимиам!
XX.
Коль мир, восстав, не мог достигнуть цели,
Что толку в том, что пал один тиран?
Вотще лилася кровь, вотще скорбели
И матери, и жены, – жгучих ран
Европа не излечит, если годы
Она страдала даром… Славы луч
Тогда лишь может радовать народы,
Когда сплетен с оружьем мир свободы, —
Тем меч Гармодия был славен и могуч.[134]134
«Смотри знаменитую песнь о Гармодии и Аристогитоне: «Я миртом меч свой обовью» и проч. Лучший перевод ее в «Антологии» Блэнда – принадлежит Динмэну». (Прим. Байрона).
Эта древнегреческая песнь приписывается Калистрату.
[Закрыть]
XXI.
Бельгийская столица ликовала;[135]135
«Трудно найти более разительное свидетельство величия гения Байрона» чем эта пылкость и интерес, которые он сумел придать изображению часто описываемой и трудной сцены выступления из Брюсселя накануне великого боя. Известно, что поэтам вообще плохо удается изображение великих событий, когда интерес к ним еще слишком свеж и подробности всем хорошо знакомы и ясны. Нужно было известное мужество для того, чтобы взяться за столь опасный сюжет, на котором многие раньше уже потерпели поражение. Но посмотрите, как легко и с какой силой он приступил к своему делу и с каким изяществом он затем снова возвратился к своим обычным чувствам и их выражению»! (Джеффри).
[Закрыть]
Гремел оркестр, шумящий длился бал;[136]136
«Говорят, что в ночь накануне сражения в Брюсселе был бал». (Прим. Байрона).
Распространенное мнение, будто герцог Веллингтон был захвачен врасплох, накануне сражения при Ватерлоо, на балу, данном герцогиней Ричмонд в Брюсселе неверно. Получив известие о решительных операциях Наполеона, герцог сначала хотел отложить этот бал; но, по размышлении, он признал весьма важным, чтобы население Брюсселя оставалось в неведении относительно хода событий, и не только высказал желание, чтобы бал был дан, но и приказал офицерам своего штаба явиться к герцогине Ричмонд, с тем, чтобы в десять часов, стараясь, по возможности, не быть замеченными, покинуть ее апартаменты и присоединиться к своим частям, бывшим уже в походе. Наиболее достоверное описание этого знаменитого бала, происходившего 15 июня, накануне сражения при Катребра, находится в Воспоминаниях дочери Герцогини Ричмонд лэди Де-Рос (А Sketch of the life of Georgiana, Lady do Ros. 1893). «Герцог прибыл на бал поздно», – рассказывает она. – «Я в это время танцевала, но сейчас же подошла к нему, чтобы осведомиться по поводу городских слухов. «Да, эти слухи верны: мы завтра выступаем». Это ужасное известие тотчас же облетело всех; несколько офицеров поспешили уехать, другие же остались и даже не имели времени переодеться, так что им пришлось идти в сражение в бальных костюмах».
[Закрыть]
Красивых дам и воинов сновала
Нарядная толпа средь пышных зал.
Отрадою дышали разговоры;
Веселый смех звучал со всех сторон;
Когда ж, пленяя слух, гремели хоры,
Любовь сулили пламенные взоры…
Вдруг прозвучал вдали какой-то скорбный стон.
XXII.
Вы слышите? – то ветра вой печальный,
То шум колес о камни мостовой…
За танцы вновь! Пусть длится говор бальный,
Забудем сон для радости! С зарей
Веселия покинем мир кипучий!
Чу! снова раздается мрачный зов,
Которому как будто вторят тучи.
Все ближе, громче этот зов могучий…
Скорей к оружью все! То пушек грозный рев.
XXIII.
Брауншвейгский герцог первый этот грохот
Услышал.[137]137
Фридрих-Вильгельм, герцог Брауншвейгский (1771–1815), брат Каролины, принцессы Уэльской, и племянник английского короля Георга III, сражался при Катребра в первых рядах и был убит почти в самом начале сражения. Его отец, Карл Вильгельм-Фердинанд, был убит при Ауэрбахе, 14 октября 1800 г.
«Эта строфа истинно великое произведение, особенно потому, что она лишена всяких украшений. Здесь мы видим только обычный стихотворный рассказ; но не даром заметил Джонсон, что «там, где одной истины достаточно для того, чтобы наполнить собою ум, украшения более чем бесполезны». (Бриджес).
[Закрыть] Злым предчувствием томим,
Он вскрикнул: «Грянул бой!» но встретил хохот
Его слова, – никто не верил им.
Однако ж, гула понял он значенье;
Его отца такой же выстрел смял.
В его груди проснулась жажда мщенья:
Отваги полн, он бросился в сраженье
И, впереди несясь, пронзенный пулей, пал.
XXIV.
В смятеньи все; из глаз струятся слезы;
Ланиты дам, что рдели от похвал,
Поблекли в миг один; судьбы угрозы
В уныние повергли шумный бал.
Средь вздохов слышны трепетные речи;
Последний, может быть, звучит привет;
Влюбленные дождутся ль новой встречи?
Как это знать, когда кровавой сечей
Венчает ночь утех таинственный рассвет?
XXV.
К коню стремится всадник; батарея
За батареей мчится в грозный бой;
Несутся эскадроны, пламенея
От храбрости; идет за строем строй.
Орудия грохочут в отдаленьи;
Гремит, войска сзывая, барабан;
Тревожит граждан мрачность опасений:
«Враги идут!» – они кричат в смятеньи…
Уныньем и тоской весь город обуян.
XXVI.
Чу! Камеронов песня прозвучала.
Те звуки – Лохиеля бранный зов;[138]138
«Сэр Ивэн Камерон и его потомок, Дональд, «благородный Лохиель» из числа «сорока пяти». (Прим. Байрона).
Сэр Ивэн Камерон (1629–1719) сражался против Кромвелля и потом сдался на почетных условиях Монку. Его внук, Бональд Камерон из Лохиеля, прославленный в поэме Кемпбелля «Предупреждение Лохиеля», был ранен при Коллодене, в 1716 г.; его праправнук, Джон Камерон из Фассиферна (род. 1771), в сражении при Катребра командовал 92-м шотландским полком и был смертельно ранен. Ср. стансы Вальтер Скотта «Пляска Смерти».
Где, в пылу кровавом боя, Пал под градом пуль, средь строя, Внук Лохьельского героя, Храбрый Фассиферн и т. д.
[Закрыть]
Ему не раз Шотландия внимала;
Не раз он устрашал ее врагов.
Та песнь во мраке ночи режет ухо,
Но славным прошлым горец упоен;
Она в нем пробуждает бодрость духа;
Лишь до его она коснется слуха,
Он вспоминает вас, Лохьель и Камерон.
XXVII.
Войска идут Арденскими лесами,[139]139
«Лес Соаньи, как полагают, есть остаток Арденского леса, прославленного в «Орланде» Боярдо и получившего бессмертие благодаря пьесе Шекспира «Как вам угодно». Его прославляет также и Тацит, как место успешной обороны германцев против римского нашествия. Я позволил себе усвоить это название, с которым связаны воспоминания более благородные, нежели только память о побоище». (Прим. Байрона).
От Соаньи (в южном Брабанте) до Арденн (в Люксембурге) довольно большое расстояние. Байрон, вероятно, смешал «saltus quibus nomen Arduenna» (Tacit. Ann. III, 42), место восстания тревиров, с «saltus Teutoburgiensis», Тентобургским или Липпским лесом, отделяющим Липпе-Детмольд от Вестфалии, где Арминий нанес поражение римлянам (Ann. I, 60). «Арденна» упоминается в поэме Боярдо «Влюбленный Орланд». Шекспировский «бессмертный лес» Арден собственно навеяв «Арденом» из окрестностей родного Стратфорда; но название это Шекспир нашел в «Розалинде» Лоджа.
[Закрыть]
Деревья их, покрытые росой,
Как будто слезы льют над храбрецами,
Что, полные надежд, стремятся в бой.
Не видеть им заката луч багровый;
Как та трава, что топчут ноги их,
Они падут. Их скосит рок суровый…
Оденутся они травою новой,
Когда их смерть сожмет в объятьях роковых.
XXVIII.
Еще вчера все были полны силы;
Всех увлекал красавиц нежный зов;
Раздался в ночь сигнал войны унылый;
С зарею каждый к бою был готов.
Блеснул лучами день; гроза настала…
Войска бросались бешено в огонь;
Валились трупы грудами. Стонала
Земля и с прахом тел свой прах сливала…
Здесь вместе друг и враг; где всадник, там же конь.[140]140
«Хотя Чайльд-Гарольд и избегает прославления победы при Ватерлоо, однако он дает прекраснейшее описание вечера накануне сражения при Катребра, тревоги, овладевшей войсками, поспешности и смятения, предшествовавших их походу. Я не знаю на нашем языке стихов, которые, по силе и по чувству, были бы выше этого превосходного описания» (Вальтер Скотт).
[Закрыть]
XXIX.
Хвалу воздам лишь одному герою…
(Я не вступлю в борьбу с другим певцом).
Герой погибший был в родстве со мною;
Я ж ссорился не раз с его отцом.
К тому же, красят песнь деянья славы:
Всех поражая храбростью своей,
О, юный Говард, воин величавый,[141]141
«В последних сражениях я, как и все лишился родственника, бедного Фредерика Говарда, лучшего из его семьи. В последние годы я имел мало сношений с его семейством, но я никогда не видал в нем и не слыхал о нем ничего, кроме хорошего», писал Байрон Муру. Фредерик Говард (1785–1815), третий сын графа Карлейля, был убит поздно вечером 18 июня, во время последней атаки на левое крыло францусской гвардии.
[Закрыть]
Под градом пуль ты в схватке пал кровавой!
Из тех, что пали там, кто был тебя славней?
XXX.
Кто не оплакал юного героя?
К чему ж моя слеза? Когда в тени
Я дерева стоял, на месте боя,
Где он в пылу борьбы окончил дни,
Весна вокруг бросала волны света;
Порхая, птицы пели средь ветвей;
Ее дыханьем было все согрето;
Но я не мог ей подарить привета:
Я думал лишь о тех, что не вернутся с ней.[142]142
«Мой проводник с горы Сен-Жан через поле сражения оказался человеком умным и аккуратным. Место, где был убит майор Говард, было недалеко от двух высоких уединенных деревьев, там было еще и третье дерево, но оно или срублено, или разбито во время сражения, которые стояли в нескольких ярдах друг от друга, по сторонам тропинки. Под этими деревьями он умер и был похоронен. Впоследствии его тело было перевезено в Англию. В настоящее время место его могилы отмечено небольшим углублением, но этот след, вероятно, скоро изгладится, так как здесь уже прошел плуг и выросла жатва. Указав мне разные места, где пали Пиктон и другие храбрецы, проводник сказал: «А здесь лежит майор Говард; я был возле него, когда его ранили». Я сказал ему, что майор – мой родственник, и тогда он постарался еще обстоятельнее определить место и рассказать подробности. Это место – одно из самых заметных на всем поле, благодаря упомянутым двум деревьям. Я два раза проехал по полю верхом, припоминая другие подобные же события. Равнина Ватерлоо кажется предназначенною служить ареной какого-нибудь великого деяния, – хотя, может быть, это так кажется; я внимательно рассматривал равнины Платеи, Трои, Мантинеи, Левктры, Херонеи и Марафона; поле, окружающее гору Сен-Жан и Гугемон, представляется созданным для лучшего дела и для того неопределенного, но весьма заметного ореола, который создается веками вокруг прославленного места; по своему значению оно смело может соперничать со всеми, выше названными, за исключением, может быть, только Марафона». (Прим. Байрона).
[Закрыть]
XXXI.
Я вспомнил в это тяжкое мгновенье
Его и тех, что рок навек унес;
Людей, любивших их, одно забвенье
Могло б спасти от горя и от слез.
Архангельской трубы лишь могут звуки
Усопших вызвать к свету. Гром похвал
Не в силах заглушить страдальца муки;
Все будет друг, в тоске ломая руки,
О друге слезы лить, хоть он со славой пал.
XXXII.
Над скорбью верх берет улыбки сила:
Смеясь, мы плачем. Долго дуб гниет
Пред тем, чтоб пасть; без мачт и без ветрила
Корабль выносит натиск бурных вод;
Хоть замок пал, крепки его основы;
Все длится день, хоть в небе много туч;
Руины весть борьбу с судьбой готовы;
Переживают узника оковы;
Так в сердце, полном мук, не гаснет жизни луч.[143]143
«Контраст между непрерывною творческою деятельностью природы и невозвратною смертью побуждает Байрона подвести итоги победы. Сетующему тщеславию он бросает в лицо горькую действительность несомненных утрат. Эта пророческая нота – «глас вопиющего в пустыне», – звучит в риторических фразах Байрона, обращенных к его собственному поколению». (Кольридж).
[Закрыть]
XXXIII.
Когда в осколки зеркало разбито,
В них тот же отражается предмет;[144]144
Сравнение заимствовано из «Анатомии меланхолии» Бертона, о которой Байрон говорил: «Вот книга, которая, по моему мнению, чрезвычайно полезна для человека, желающего без всякого труда приобрести репутацию начитанности». Бертон рассуждает об обидах и о долготерпении: «Это – бой с многоглавой гидрой; чем больше срубают голов, тем больше их вырастает; Пракситель, увидев в зеркале некрасивое лицо, разбил зеркало в куски, но вместо одного лица увидел несколько, и столь же некрасивых; так и одна нанесенная обида вызывает другую, и вместо одного врага является двадцать».
«Эта строфа отличается богатством и силой мысли, которыми Байрон выдается среди всех современных поэтов, множеством ярких образов, вылившихся сразу, с такою легкостью и в таком изобилии, которое писателю более экономному должно показаться расточительностью, и с такою небрежностью и неровностью, какие можно видеть только у писателя, угнетаемого богатством и быстротою своих идей». (Джеффри).
[Закрыть]
Так сердце, где немая мука скрыта,
Весь век хранит ее тяжелый след.
Оно осуждено на увяданье
Средь холода, уныния и тьмы;
И что ж? – скорбя, оно хранит молчанье;
Нет слов, чтоб эти высказать страданья, —
С сердечной тайною не расстаемся мы.
XXXIV.
Живуче горе; корень, полный яда,
Засохнуть не дает его ветвям;
О, если смерть была бы мук награда,
Их выносить не трудно было б нам!
Но жизнь усугубляет гнет печали;
Так возле моря Мертвого плоды,
Что пепел начинял, с дерев срывали;[145]145
«На берегу Асфальтового озера, говорят, росли мифические яблоки, красивые снаружи, а внутри содержавшие золу». Ср. Тацита, Ист., V, 7. (Прим. Байрона).
[Закрыть]
Не долго б жили мы, когда б считали
Лишь радостные дни, страданий скрыв следы.
XXXV.
Псалмист определил пределы жизни,[146]146
Счет Псалтыри – «трижды двадцать и еще десять» лет указывается здесь, как противоположность возрасту павших при Ватерлоо, далеко не достигшему этого «предела дней человеческих».
[Закрыть]
Но с ним не согласилось Ватерло;
Мы видим, поминая павших в тризне,
Как наших дней ничтожнее число.
Молва трубит о битве знаменитой,
Но что ж потомство вымолвит о ней?
«Там нации, все воедино слиты,
Сражались; пал пред ними враг разбитый!
Вот все, что в памяти останется людей.
XXXVI.
Там, в Ватерло, сраженный волей рока,
Славнейший, но не худший смертный пал;
То гордой мыслью он парил высоко,
То в мелочах ничтожных утопал.
Его сгубили крайности. Порфиру
Носил бы он, иль не владел бы ей,
Когда бы не служил угрозой миру;
Стремясь к недостижимому кумиру,
Он, как Юпитер, вновь хотел громить людей.[147]147
Байрон, по-видимому, не мог составить себе какое либо определенное мнение о Наполеоне. «Нельзя не поражаться и не чувствовать себя подавленным его характером и деятельностью», писал он Муру 17 марта 1815, когда «герой его романа» (так называл он Наполеона) сломал свою «клетку пленника» и победоносно шествовал к своей столице. В «Оде к Наполеону Бонапарту», написанной в апреле 1814 г., после первого отречения в Фонтэнебло, преобладающею нотою является удивление, смешанное с презрением. Это – жалоба на павшего кумира. В 30–45 строфах III песни Чайльд-Гарольда Байрон признает все величие этого человека и, явно намекая на собственную личность и деятельность, объясняет его окончательное падение особенностями его гения и темперамента. Год спустя, в IV песне (строфы 89–92), он произносит над Наполеоном строгий приговор: там он – «побочный сын Цезаря», сам себя победивший, порождение и жертва тщеславия. Наконец, в Бронзовом Веке поэт снова возвращается к прежней теме, – к трагической иронии над возвышением и падением «царя царей, и все ж раба рабов».
Еще будучи мальчиком, в Гарроуской коллегии, Байрон воевал за сохранение бюста Наполеона и всегда был готов, вопреки английскому национальному чувству и национальным предрассудкам, восхвалять его, как «славного вождя»; но когда дошло до настоящего дела, тогда он уже не хотел видеть его победителем Англии и с проницательностью, усиленною собственным опытом, не мог не убедиться, что величие и гений не обладают чарующей силою в глазах мелочности и пошлости, и что «слава земнородных» сама себе служит наградой. Мораль эта очевидна и так же стара, как история; но в том то и заключалась тайна могущества Байрона, что он умел перечеканивать и выпускать с новым блеском обычные монеты человеческой мысли. Кроме того, он жил в ту великую эпоху, когда все великие истины снова возродились и предстали в новом свете». (Кольридж).
[Закрыть]
XXXVII.
Он пленник был и властелин вселенной;
Пред ним, хоть он низринутый боец,
Все мир стоит коленопреклоненный, —
Так ярок и лучист его венец.
Ему так долго слава в счастьи льстила,
Рабою у его склоняясь ног,
Что в божество его преобразила;
Он думал, что его без грани сила,
И мир, дрожа пред ним, поверил, что он – бог.
XXXVIII.
То властвуя, то смят судьбой тяжелой,
То мир громя, то с поля битвы мчась,
Он создал, расшатав кругом престолы,
Империю, что в прах повергнул раз,
Затем себе престол воздвигнул новый;
Но сдерживать не мог своих страстей,
На властолюбье наложа оковы;
Он, зная свет, забыл про рок суровый —
Сегодня лучший друг, а завтра бич людей.
XXXIX.
Он пал… То были ль мудрость, сила воли,
Иль гордость, но он муку скрыть сумел,
Своих врагов усугубляя боли.
Глумиться над тоской его хотел
Их сонм, но он, с улыбкою бесстрастья,
Душою бодр, на встречу бед пошел;
Сражен в борьбе, любимец гордый счастья,
Чуждаяся притворного участья,
Главу не опустил под гнетом тяжких зол.
XL.
Он сделался мудрей, когда паденье
Ему глаза открыло. В дни побед
Он к людям не хотел скрывать презренья.
Хоть он был прав клеймить презреньем свет,
Но должен был, чтоб не попрать союза
С клевретами, скрывать свой гордый взгляд.
Он тем порвал с приверженцами узы.
Борьба за власть – тяжелая обуза:
В числе других вождей узнал он этот ад.
XLI.
Когда б один, сражаяся с врагами,
Он под напором бури изнемог,
Как башня, что ведет борьбу с годами,
Весь род людской он презирать бы мог;
Но он престолом был обязан миру.
Пред тем, чтобы глумиться над толпой,
Как Диоген, он снять с себя порфиру
Обязан был; венчанному кумиру
Позорно циника изображать собой.[148]148
«Великая ошибка Наполеона, «коль верно хроники гласят», состояла в том, что он постоянно навязывал человечеству собственный недостаток одинаковых с ним чувств и мыслей; это, может быть, для человеческого тщеславия было более оскорбительно, чем действительная жестокость подозрительного и трусливого деспотизма. Таковы были его публичные речи и обращения к отдельным лицам; единственная фраза, которую он, как говорят, произнес по возвращении в Париж после того, как русская зима сгубила его армию, – была: «Это лучше Москвы». Эта фраза, которую он сказал, потирая руки перед огнем, по всей вероятности, повредила ему гораздо сильнее, нежели те неудачи и поражения, которыми она была вызвана». (Прим. Байрона).
[Закрыть]
XLII.
Он был за то низринут, что с покоем
Мириться был не в силах. Тот, чья грудь
Опалена желаний бурных зноем,
Не может, бредя славой, отдохнуть:
Его влечет неведомая сила;
Желаниям его пределов нет;
Не может охладить он сердца пыла;
Ему покой ужасней, чем могила;
Тот к гибели идет, кто тем огнем согрет.
XLIII.
Такой душевный пыл дает рожденье
Безумцам, заражающим людей
Своим безумьем; сила увлеченья
Плодит певцов, фанатиков, вождей…
К ним мир питает зависть, а их участь
Завидна ли? Их горек каждый миг;
Для них не тайна скрытых мук живучесть…
Весь век их тяжких дум терзает жгучесть.
Кто б рваться к славе стал, узнав страданья их?
XLIV.
Дыша борьбой, они волнений просят;
Как лава, в жилах их струится кровь;
Их целый век на крыльях бури носят,
Пока не сбросят их на землю вновь;
А все же им дыханье бури мило;
Когда их жизнь должна спокойно течь,
Они, скорбя, кончают дни уныло…
Так пламени без пищи меркнет сила;
Так губит ржавчина в ножны вложенный меч.
XLV.
Кто был в горах, тот знает, что вершины
Высоких скал скрывает вечный снег.
Вражду толпы встречают властелины;
Она венчает злобою успех.
Окинуть славы луч лишь может взглядом
Счастливый вождь; земля блестит под ним,
А горы льдин, что бурями и хладом
Ему грозят, он только видит рядом.
Не может гром побед к наградам весть иным.[149]149
«Это рассуждение, конечно, написано блестяще; но мы полагаем, что оно неверно. От Македонского безумца до Шведского и от Немврода до Бонапарта, охотники на людей предаются своему спорту с такой же веселостью и с таким же отсутствием раскаяния, как и охотники на прочих животных; в дни своей деятельности все они жили так же весело, а в дни отдыха – с такими же удобствами, как и люди, стремящиеся к лучшим целям. Поэтому странно было бы, если бы другие, не менее деятельные, но более невинные умы, которых Байрон подводит под один уровень с первыми и которые пользуются наравне с ними всеми источниками удовольствий, не будучи виновными в жестокости, которой они не могли совершить, – являлись бы более достойными сожаления или более нелюбимыми в сравнении с этими блестящими выродками; точно так же было бы странно и жалко, если бы драгоценнейшие дары Провидения приносили только несчастье, и если бы человечество враждебно смотрело на величайших своих благодетелей». (Джеффри).
[Закрыть]
XLVI.
Оставим мир страстей! Одни созданья
Природы вечно юной и мечты
Душе приносят в дар очарованье…
О Рейн! как величав и мощен ты!
Там Чайльд-Гарольд волшебною картиной
Любуется; здесь дремлет над холмом
Зеленый лес; там светлые долины
Пленяют взор; вдали видны руины,
Что доживают век, одетые плющом.
XLVII.
Имеет сходство с ними дух могучий,
Что, скрыв страданья, борется с толпой.
Заброшены они; лишь ветр да тучи
Остались им верны; своей красой
И силою развалины когда-то
Гордились; оглашал их схваток гром,
Но тщетно будут ждать они возврата
Минувших дней: былое смертью смято;
Давно уж рыцари заснули вечным сном.
XLVIII.
Владельцы замков тех во время оно
С вассалами грабеж пускали в ход;
Как гордо развевались их знамена!
Пред властью их главу склонял народ;
Так почему ж не славны эти лица?
Что ж, как вождям, недоставало им:[150]150
«Чего не хватает этому плуту из того, что есть у короля»? спросил король Иаков, встретив Джонни Армстронга и его товарищей в великолепных одеяниях. См. балладу (Прим. Байрона).
Джонни Армстронг, лэрд Джильнокки, должен был сдаться королю Иакову V (153 г.) и явился к нему в таком богатом одеянии, что король за это нахальство велел его повесить. Об этом повествует одна из шотландских баллад, изданных В. Скоттом.
[Закрыть]
Истории блестящая ль страница?
Украшенная ль надписью гробница?
Ведь влек душевный пыл и их к деяньям злым.
XLIX.
Примерами бесстрашия богаты
Их войны, о которых мир забыл.
Хоть рыцари всегда носили латы,
В сердца их проникал любовный пыл;
Но не могла любовь смягчить их нравы:
Из-за красавиц часто кровь лилась,
Оканчивался спор борьбой кровавой,
И Рейн, вперед несяся величаво,
Той кровью обагрял свои струи не раз.
L.
Волшебная река, которой волны
Богатство в дар приносят берегам,
Привет тебе! Когда бы, злобы полный,
Не рвался смертный к распрям и боям,
Пленительный твой берег, орошаем
Живительными волнами, вполне
Имел бы сходство, мир пленяя, с раем!
Порабощен я был бы чудным краем,
Когда б, как Лета, Рейн мог дать забвенье мне.
LI.
Враждующих здесь стягивались силы:
Лилася кровь, валились груды тел,
Но тех бойцов исчезли и могилы,
Забвение – их подвигов удел.
Река лишь миг катилась лентой алой,
Затем сиянье солнечных лучей
Она опять с любовью отражала.
Как быстро б в даль она струи ни мчала,
Не заглушить во мне ей снов минувших дней.
LII.
Так думал Чайльд, дорогу направляя
Вдоль берега, где пташек песнь неслась;
Он шел вперед, красой любуясь края,
Что примирить могла б с изгнаньем вас.
Хотя следы забот, что заменили
Былых страстей и увлечений пыл,
Его чело угрюмое морщили
Порой, скрывать улыбку он усилий
Не делал: чудный вид его душе был мил.
LIII.
Хотя в его груди остыли страсти,
Гарольд не мог, сочувствием согрет,
Не признавать любви волшебной власти, —
Презрением нельзя встречать привет.
Душа порою тает, как бывало,
Хоть чужды стали мы страстям земным;
Его одно создание пленяло,
Когда тоска Гарольда грудь терзала, —
Он, полон нежности, мечтал сойтися с ним.[151]151
Те же самые чувства – верность и преданность поэта своей сестре – выражаются в двух лирических стихотворениях: «Стансы к Августе» и «Послание к Августе», напечатанных в 1816 г.
[Закрыть]
LIV.
Он презирал людей, чуждаясь света,
А созерцал с любовью детский взгляд.
Хотя непостижима странность эта,
Пускай ее другие объяснят.
Кто дни влачит в тиши уединенья,
Тот разжигать души угасший пыл
Не станет. С ним сродняется забвенье;
Гарольд же, полон прежнего волненья,
Любовь минувших дней, скитаясь, не забыл.
LV.
Гарольд был верен милой; связь сильнее[152]152
Здесь Козлов, к сожалению, слишком далеко отступил от подлинного байроновского текста, имеющего особенное значение. Вот дословный перевод этой строфы:
«Как уже было сказано, была одна нежная грудь, соединенная с его грудью узами более крепкими, нежели те, какие налагает церковь; и, хотя без обручения, эта любовь была чиста; совершенно не изменяясь, она выдержала испытание смертельной вражды и не распалась, но еще более укреплена была опасностью, самой страшной в глазах женщины. Она осталась тверда – и вот, пусть летит с чужого берега к этому сердцу привет отсутствующего».
Предполагают, что в этой строфе, как и в «Стансах к Августе», заключается намек да «единственную важную клевету», говоря словами Шелли, «какая когда-либо распространялась насчет Байрона». По замечанию Эльце, «стихотворения к Августе показывают, что и ей были также известны эти клеветнические обвинения, так как никаким другим предположением нельзя объяснить заключающихся здесь намеков». Кольридж, однако, полагает, что достаточно было одного только факта – что г-жа Ли сохранила близкие дружеские отношения к своему брату в то время, когда все общество от него отвернулось, – чтобы подвергнуть ее всяким сплетням и обидным комментариям, – «опасности, самой страшной в глазах женщины»; что же касается клеветнических изветов иного рода, если они и были, к ним можно было относиться или только с презрительным молчанием, или с пылким негодованием.
[Закрыть]
Законных уз соединяла их;
Она была чиста. Благоговея
Пред чувством, он на ласки жен других
Не обращал вниманья; гнет разлуки
Его объял тоскою; ей томим,
Он песнью заглушить старался муки
И, к милой простирая скорбно руки,
К ней обратился он с посланием таким:
1.
Скала Драхенфельза, с зубчатым венцом,[153]153
«Замок Драхенфельз стоит на самой высокой из числа «семи гор» на берегах Рейна; он теперь в развалинах и с ним связано несколько странных преданий. Он первый бросается в глаза на пути из Бонна, но на противоположном берегу реки; а на этом берегу, почти напротив Драхенфельза, находятся развалины другого замка, называемого «замком еврея», и большой крест, поставленный в память убийства одного вождя его братом. Вдоль Рейна, по обоим его берегам, очень много замков и городов, и местоположение их замечательно красиво». (Прим. Байрона).
[Закрыть]
Над Рейном царит горделиво,
Красиво леса зеленеют кругом;
Желтеет роскошная нива;
Река омывает подножье холмов,
Одетых лозой виноградной;
Белеет вдоль берега ряд городов,
С картиной сливаясь отрадной…
Я видом таким наслаждался б вдвойне,
Когда бы ты здесь улыбалася мне!
2.
Крестьянки, нарвавши цветов полевых,
В Эдеме являются этом;
Как ласковы взоры их глаз голубых,
Что сладостным дышат приветом!
Развалины замков, покрытых плющом,
Венчают утесов вершины;
Здесь – арка, могильным заснувшая сном,
Там – скалы висят над стремниной…
Легко б мне дышалось в том чудном краю,
Когда бы ты руку сжимала мою!
3.
Из лилий букет я достал для тебя.
Увы! он завянет дорогой,
Но встреть его с лаской: он послан любя;
С ним помыслов связано много.
Надеюсь, когда те увидишь цветы,
Ты снова сроднишься со мною
И душу свою, помня счастья мечты,
С моей сочетаешь душою!
Близ светлого Рейна мой нарван букет;
Он сердцу от сердца приносит привет.
4.
Река горделиво, волнуясь, бежит,
И с каждым ее поворотом
Является новый пленительный вид.
Нет счета природным красотам.
Кто не был бы счастлив всю жизнь провести
Средь этой страны блогодатной?
О, Боже! красивее края найти
В вселенной нельзя необъятной;
Та местность еще б мне казалась милей,
Когда б ты со мной любовалася ей.
LVI.
Близ Кобленца, где красотою вида
Обласкан взор, – венчая холм, стоит,
Как памятник, простая пирамида:
Под нею прах подвижника лежит.
То – недруг наш; но да воздастся нами
Почет Марсо, чья смерть в расцвете сил
Оплакана суровыми бойцами, —
Кто, властвуя над верными сердцами,
Примером верности им первый послужил.
LVII.
Короткий путь свершил судьбы избранник;
Две рати здесь, по нем скорбя, слились,
И, кто бы ни был ты, случайный странник, —
С молитвой подойди и преклонись!
Оружием свободу защищая,
Из тысячей один, он не палач,
А честный воин был и, умирая,
Сберег в своей душе сиянье рая:
Вот отчего в тот день был всюду слышен плач.[154]154
«Памятник молодого и всеми оплакиваемого генерала Марсо (убитого при Альтеркирхене, в последний день четвертого года францусской республики) до сих пор остается в том виде, в каком он описан. Надписи на памятнике слишком длинны и ненужны: довольно было и одного его имени; Франция его обожала, неприятели изумлялись ему; и та, и другие его оплакивали. В его погребении участвовали генералы и отряды обеих армий. В той же могиле похоронен и генерал Гош, – также доблестный человек в полном смысле этого слова; но хотя он и много раз отличался в сражениях, он не имел счастия пасть на поле битвы: подозревают, что он был отравлен.
Отдельный памятник ему поставлен (не над его телом, которое положено рядом с Марсо) близ Андернаха, против которого он совершил один из наиболее достопамятных своих подвигов – наведение моста на один рейнский остров (18 апреля 1797). Вид и стиль этого памятника отличаются от монумента Марсо, и надпись на нем проще и удачнее:
«Армия Самбры и Мези своему главнокомандующему Гошу».
Это – и все, и так быть должно. Гош считался одним из первых францусских генералов, пока Бонапарт не сделал всех триумфов Франции своею исключительною собственностью. Его предполагали назначить командующим армией, которая должна была вторгнуться в Ирландию». (Прим. Байрона).
[Закрыть]
LVIII.
Эренбрейтштейн передо мною,[155]155
«Эренбрейтштейн, т. е. «широкий камень чести», одна из сильнейших крепостей в Европе, был лишен укреплений и разрушен французами после заключенного в Леобене перемирия. Он был – и мог быть – взят только или голодом, или изменою. Он уступил первому, а также и неожиданности нападения. Я видел укрепления Гибралтара и Мальты, а потому Эренбрейтштейн не особенно меня поразил; но его положение, действительно, командующее. Генерал Марсо тщетно осаждал его в продолжение некоторого времени, и я ночевал в комнате, где мне показывали окно, у которого, говорят, он стоял, наблюдая за успехами осады» при лунном свете, когда одна пуля ударила как раз под этим окном». (Прим. Байрона).
[Закрыть] с черной
От пороха, разрушенной стеной;
Мне ясно по останкам, как упорно
Держался он под вражеской грозой.
С твоих вершин, твердыня, видно было,
Как посрамленный враг бежал назад, —
И вот чего Война не истребила,
Прикончил Мир: дождем изрешетило
Те кровли, что пробить не мог свинцовый град.
LIX.
Прощай, прекрасный Рейн! Здесь, восхищенный,
Надолго бы остаться путник мог:
С возлюбленной забылся бы влюбленный,
Забылся бы и тот, кто одинок;
И, с коршуном в душе кто вечно бродит,
Ищи покоя здесь, где небосклон
Ни веселит, ни грусти не наводит,
Ни светел, ни угрюм, – где все походит
На осень зрелую в чреде других времен.
LX.
Прощай же! Нет! прощания с тобою
Не может быть: душа моя полна
Твоею живописною красою,
И, если нам разлука суждена, —
Даря прощальный взгляд, в немом порыве,
Я шлю тебе признательный привет.
Найдется край богаче и красивей;
Но где найти в едином стройном диве
И этот мягкий блеск и славу прежних лет.
LXI.
Простор полей, зовущих к жатве щедрой,
Белеющие купы городов,
Нагорных бездн чернеющие недра,
Уступы стен в прогалинах лесов,
Утесы, пред которыми творенья
Искусных рук так жалки и смешны,
И мирное довольство населенья
В избыток плодоносного цветенья
Огнем соседних смут не тронутой страны!
LXII.
Прошло. Нависли Альпы надо мною,
Природы вековечные дворцы;
Одетые жемчужной пеленою,
Стремятся в высь алмазные зубцы:
Там, в царстве льда, рождаются лавины,
Как в молнии преображенный снег, —
И чванятся земные исполины,
Что к небесам так близки их вершины
И так далек от них ничтожный человек.
LXIII.
Но, прежде чем последовать призыву
Прекрасных гор, нельзя не посетить
Морат, патриотическую ниву,
Где нет боязни павших оскорбить
И покраснеть за тех, что победили:
Здесь памятник себе, в пример векам,
Бургунды из костей своих сложили —
И души бесприютные бродили
Вдоль Стикса, жалуясь безмолвным берегам.[156]156
«Часовня разрушена, и пирамида из костей уменьшена до очень незначительного количества бургундским легионом на службе у Франции, который старался изгладить это воспоминание о менее удачных набегах своих предков. Кое-что все-таки остается еще, не взирая на заботы бургундцев в продолжение ряда веков (каждый, проходя этой дорогой, уносил кость к себе на родину) и не менее извинительные хищения швейцарских почталионов, уносивших эти кости, чтобы делать из них ручки дли ножей: дли этой цели они оказывались очень ценными вследствие своей белизны, приобретенной долгими годами. Я рискнул из этих останков увести такое количество, из которого можно, пожалуй, сделать четверть героя: единственное мое извинение состоит в том, что если бы я этого не сделал, то ночные прохожие могли бы употребить их на что-нибудь менее достойное, нежели заботливое сохранение, для которого я их предназначаю». (Прим. Байрона).
Карл Смелый был разбит швейцарцами при Морате, 22 июня 1476 г. «Предполагают, что в этом сражении было убито более 20,000 бургундцев. Чтобы избежать появления моровой язвы, сначала тела их были зарыты в могилы; но девять лет спустя кости были выкопаны и сложены в особом здании на берегу озера, близ деревни Мейрие. В течение трех следующих столетий это хранилище несколько раз перестраивалось. В конце XVIII века, когда войска францусской республики заняли Швейцарию, один полк, состоявший главным образом из бургундцев, желая загладить оскорбление, нанесенное их предкам, разрушил «дом костей» в Морате, кости закопал в землю, а на могиле посадил «дерево свободы». Но это дерево не пустило корней, дожди размыли землю, кости опять показались на свет и лежали, белея на солнце, целую четверть века. Путешественники останавливались здесь, чтобы поглядеть, пофилософствовать и что-нибудь стащить; почтальоны и поэты уносили черепа и берцовые кости. Наконец, в 1822 г. все остатки были собраны и вновь похоронены, и над ними поставлен простой мраморный обелиск». («История Карла Смелого», Керка, 1858).
[Закрыть]
LXIV.
Как с Каннами своей резней кровавой
Сравнялось Ватерло, так и Морат
Сияет Марафона чистой славой;[157]157
Байрон указывает этими стихами, что при Морате швейцарцы бились за славное дело – за защиту своей республики против нашествия иноземного тирана, между тем как жизнь людей, павших при Каннах и Ватерлоо, была принесена в жертву честолюбию соперничавших между собою государств, боровшихся за господство, т. е. за порабощение людей.
[Закрыть]
Сыны родной земли, за брата брат,
Здесь честную победу одержали;
Свободные борцы, своих мечей
Властителям они не продавали
И сдавшихся врагов не заставляли
Оплакивать позор драконовских бичей.
LXV.
Вот у скалы, печально-одинокой,
Колонна одинокая стоит, —
Седой обломок древности глубокой, —
И, мнится, в изумлении глядит
На мир, как человек окаменевший,
Живой свидетель ужасов былых;
И странен вид колонны уцелевшей,
Когда исчез Авентикум, гремевший
Красой своей среди созданий рук людских.[158]158
«Авентикум, близ Мората, был римской столицей Гельвеции – там, где теперь стоит Аванш». (Прим. Байрона).
Аванш (Вифлисбург) находится прямо к югу от Моратского озера и милях в пяти на восток от Невшательского. Будучи римской колонией, он назывался Риа Flavia Constans Emerita и ок. 70 г. до Р. Хр. имел 60,000 жителей. Он был разрушен сперва аллеманами, а потом Аттилою. «Император Веспасиан, сын одного банкира из этого города», – говорит Светоний, – «окружил город толстыми стенами, защитил его полукруглыми башнями, украсил капитолием, театром, форумом и даровал ему право суда над лежавшими вне его пригородами». В настоящее время на месте забытых улиц Авентикума находятся табачные плантации, и только одинокая коринфская колонна с остатком разрушенной арки напоминает о прежнем величии.
[Закрыть]
LXVI.
Там – это имя будь благословенно, —
Дочь, Юлия, жизнь отдала богам:
В ней сердце скорбью об отце священной
Разбито было. Строго неизменно
Суд правый был глухим к ее мольбам,
Напрасно пред судом она молила
За жизнь того, кто жизнью был ей сам:
В их общей урне скромная могила
Единый дух, единый прах укрыла.[159]159
«Юлия Альпинула, молодая авентская жрица, умерла вскоре после тщетной попытки спасти своего отца, осужденного Авлом Цециной на смерть за измену. Ее эпитафия была открыта много лет тому назад. Вот она: «Julia Alpinula: hic jaceo. Infelicis patris infelix proies. Deae Aventiae sacerdos. Exorare patris necem non potui: male mori infatis illi erat. Vоxi annos XXIII». Я не знаю человеческого сочинения более трогательного, чем это, а также не знаю и истории, полной более глубокого интереса. Вот имена и поступки, которые не должны забываться и к которым мы обращаемся с искренним и здоровым сочувствием после жалких мишурных подробностей целой кучи завоеваний и сражений, которые на время возбуждают ум ложною, лихорадочною симпатиею, а затем ведут его ко всем тошнотворным последствиям такого отравления». (Прим. Байрона).
Восстание гельветов, вызванное грабительством одного из римских легионов, было быстро подавлено полководцем Авлом Цециной. Авентикум сдался (69 г. до Р. Хр.), и Юлий Альпин, начальник города и предполагаемый глава восстания, был казнен. (Тацит, Ист. I, 67, 68». Что касается Юлии Альпинулы и ее эпитафии, то они были удачным изобретением одного ученого XVI века. Лорд Стэнгоп говорит, что «по всей вероятности, эта эпитафия была доставлена неким Паулем Вильгельмом, заведомым подделывателем (falsarius), Липсиусу, а последним передана Грутерусу. Никто ни раньше, ни позже Вильгельма не уверял, что видел этот надгробный камень; равным образом, история ничего не знает ни о сыне, ни о дочери Юлия Альпина».
[Закрыть]
LXVII.
Пусть царства постигает распаденье,
Забудет мир – настанут времена —
Рабов, тиранов, смерть их и рожденье,
Но не умрут такие имена.
И доблесть, горней высоте равна —
Переживет в бессмертии страданье,
И встретит солнце чистою она,
Как на вершинах Альп – снегов блистанье[160]160
«Это писано в виду Монблана (3 июня 1816), который даже и на этом расстоянии поражает меня (20 июля). Сегодня я в продолжение некоторого времени наблюдал отчетливое отражение Монблана и Аржантьера в спокойном озере, через которое я переправлялся в лодке; расстояние от этих гор до зеркала составляет шестьдесят миль». (Прим. Байрона).
[Закрыть]
Не тающих во век, чистейших в мирозданье.
LXVIII.
Гладь озера манит хрустальным ликом,
Тем зеркалом, где образ звезд и гор
Весь отражен в безмолвии великом,
Заполонив прозрачных вод простор.
Чтоб этой мощью любоваться взор
Как должно мог – уединиться надо,[161]161
Байрон, преследуемый английскими туристами и сплетниками, уединился (10 июня) в вилле Диодати; но преследователи все-таки старались вознаградить себя, подстерегая его на дороге или направляя телескопы на его балкон, возвышавшийся над озером, и на пригорки, покрытые виноградником, где он сиживал. Возможно также, что для него тягостно было и сожительство с Шелли, – и он искал случая остаться наедине, лицом к лицу с природой. Но и природа оказывалась не в состоянии исцелить его потрясенные нервы. После своей второй поездки вокруг Женевского озера (29 сент. 1816) он писал: «Ни музыка пастуха, ни треск лавин, ни горные потоки, ни горы, ни ледники, ни лес, ни тучи ни на минуту не облегчили тяжести, которая лежит у меня на сердце, и не дали мне возможности позабыть о моей жалкой личности среди величия, могущества и славы окружавшей меня природы». Может быть, Уордсворт имел в виду это признание, сочиняя, в 1831 г., свое стихотворение: «Не в светлые мгновенья бытия», в котором следующие строки, как он сам говорит, «навеяны характером лорда Байрона, как он мне представлялся, и характером других его современников, писавших под аналогичными влияниями».
Всегда покорствуя таланту, слово Легко течет с привычного пера; Но лишь тогда в ответ звучать готовы В душе все струны правды и добра, Когда с восторгом жарким умиленья, Проникнутый душевной красотой, Не будет гений ставить в ослепленье Законом – страсть для страсти лишь одной, Забыв, что благодатное смиренье — Великих, чистых душ удел земной. (Перевод П. О. Морозова).
[Закрыть]
Расширив дум заветных кругозор,
В которых крылась для меня отрада
Пока не сделался и сам я частью стада.
LXIX.
В том нет вражды, чтоб от людей бежать,
Не всем делить труды их и волненья,
И не презренье в том, чтоб погружать
Свой дух в его родник, – не то в своем кипенье
Он хлынет через край. С толпой общенье
Дух заражает суетой сует,
И он томится с чувством сокрушенья
Среди борьбы, в которой сильных – нет,
И злобно муками за муки платит свет.
LXX.
И мы заплачем кровью, не слезами,
Раскаяньем томимы роковым,
Года, вдали лежащие пред нами —
В тоске оденем сумраком ночным.
Бег жизни бегством безнадежным станет;
Те устремятся к гаваням своим,
Чей дух смелей, но по морям чужим
Корабль других носиться не устанет
И он нигде в пути на якоре не станет.[162]162
«Основная мысль этой строфы заключается в том, что человек есть создание судьбы и ея раб. В обществе, в свете, он подвергается всем случайностям страстей, которым он не в силах противиться и от которых не может избавиться без мучений. Свет удручает его, – и он обращается к природе и уединению, как к последнему убежищу. Он поднимает взоры к вершинам гор не в ожидании божественной помощи, а в надежде, что, сознавая свое родство с природою и становясь «частицей окружающего мира», он получит возможность удалиться от человечества со всеми его тягостями и избежать проклятия». Ср. «Сон» (Кольридж).
[Закрыть]
LXXI.
Не лучше ль без людей жить на земле,
Любя ее одну? Где мчится Рона.
Лазурная,[163]163
«Цвет Роны в Женеве – синий, и такой темной окраски я никогда не видал ни в соленой, ни в пресной воде, кроме Средиземного моря и Архипелага». (Прим. Байрона). Ср. Дон-Жуан, XIV, 87.
[Закрыть] подобная стреле,
Близ озера прозрачного, чье лоно
Поит ее, лелея неуклонно, —
(Так детский плач заслышавшая мать
Дитя свое ласкает умиленно), —
Там вне раздоров мирно прозябать —
Не лучше ль, чем других губить иль погибать?
LXXII.
Не сам я по себе: во мне частица
Природы всей, мне радость – выси гор,
Мучительна – жужжащая столица.
Ничто вокруг не оскорбляет взор.
И лишь в одном я нахожу позор:
Звеном в животной цепи быть противно,
Меж тем, как рассекая волн простор,
Наш дух стремится к небу непрерывно,
Со звездами его сливаясь неразрывно.[164]164
«Гобгоуз и я только что вернулись из путешествия по озерам и горам. Мы были в Гриндельвальде и на Юнгфрау, стояли на вершине Венгерн-Альпа, видели падение водопадов в 900 футов вышины и ледянки всевозможных размеров, слышали рога пастухов и треск лавин, смотрели на тучи, поднимавшиеся под нами из долин, словно пена адского океана. Шамуни и его окрестности мы видели уже месяц тому назад; но Монблан, хотя и выше, не может равняться по дикости с Юнгфрау, Эйгером, Шрекгорном и ледниками Монте-Розы». (Из письма 1816 г.).
[Закрыть]
LXXIII.
Лишь в этом – жизнь. Мне кажется былое
Пустыней людной, где был осужден
За грех, что мной когда-то совершен —
Я на борьбу и на мученье злое.
На юных, мощных крыльях вознесен
Теперь я вновь; как грозный вихрь пустыни
Полет их смел, и с ним поспорит он:
Оков холодных и подобных глине
Он сбросит мертвый гнет, нас тяготящий ныне.
LXXIV.
Когда освободится дух навек
От оболочки – жертвы поруганья,
Когда с плотским покончит человек —
Счастливящим червя существованье,
Когда произойдет стихий слиянье,
Прах станет прахом – больше теплоты
Не встречу ль я и менее сиянья?
Ту мысль, тот дух бессмертной красоты,
К которым приобщить стремятся нас мечты?
LXXV.
Моря, холмы и небо – стали частью
Души моей, как я – частицей их.
Я глубоко люблю их – чистой страстью,
Другое все презрел я ради них,
Я поборол поток страстей моих
Скорей чем этим светскому бесстрастью
Пожертвовать – для тех очей людских,
Что смотрят долу, чуждые участью,
И вдохновения не вспыхивают властью.
LXXVI.
Но я отвлекся. Кто постичь способен
Величье урн – пусть посетит того,
Чей прах был прежде пламени подобен.
Я чистый воздух родины его
Лишь временно вдыхаю, для него
Он был родным. Безумное стремленье!
Его манило славы торжество,
И в жертву для его осуществленья
Он отдал мир души своей без сожаленья.
LXXVII.
Руссо – апостол скорби, обаянье
Вложивший в страсть, безумец, что обрек
Терзаниям себя, но из страданья
Власть красноречья дивного извлек —
Здесь был рожден для горя. Он облек
Божественно прекрасными словами
Софизмы лжеучений, их поток
По блеску схожий с яркими лучами —
Слепил глаза и наполнял слезами.[165]165
«Страницы романа Руссо, одушевленные страстью, очевидно, оставили глубокое впечатление в душе благородного поэта. Выражаемый Байроном восторг является данью тому могуществу, каким обладал Руссо над страстями, и – сказать правду – мы до известной степени нуждались в этом свидетельстве, потому что (хотя иногда и стыдно бывает сознаваться, во все-таки подобно брадобрею Мидаса, чувствуешь неодолимую потребность высказаться) мы никогда не были в состоянии заинтересоваться этим пресловутым произведением или определить, в чем заключаются его достоинства. Мы готовы признать, что эти письма очень красноречивы, и что в этом заключается сила Руссо; но его любовники, – знаменитый Сен-Прё и Юлия, с первой же минуты, когда мы услышали рассказ о них (а мы эту минуту хорошо помним) и до настоящего времени не возбуждают в нас никакого интереса. Может быть, это объясняется какой-нибудь органической сухостью сердца, – но наши глаза оставались сухими в то время, когда все вокруг нас плакали. И теперь, перечитывая эту книгу, мы не видим в любовных излияниях этих двух скучных педантов ничего такого, что могло бы внушить нам интерес к ним. Выражая свое мнение языком, который гораздо лучше нашего собственного (см. «Размышления» Берка), мы скажем, что имеем несчастие считать эту прославленную историю философской влюбленности «неуклюжей, неизящной, неприятной, унылой, жестокой смесью педантизма и похотливости, или метафизическим умозрением, к которому примешалась самая грубая чувственность». (Вальтер Скотт).
[Закрыть]
LXXVIII.
Любовь была самою страстью в нем;
Как ствол стрелою молнии спаленный —
Он был палим высоких дум огнем.
И не красой живою увлеченный
Иль мертвою – в мечтаньях воскрешенной, —
Пленился он нетленной красотой,
В его страницах пылких воплощенной;
В них, схожая с болезненной мечтой,
Досель живет она – всей жизни полнотой.
LXXIX.
Он Юлии дал это. Высота
Безумья, счастья – ей открылась в этом,
И освятила поцелуй в уста
Пылавшия, который был с рассветом
Ему всегдашним дружеским приветом
И чистотою разжигал в нем пыл;
Но наслаждаясь и томясь запретом,
Он каждого в толпе счастливей был —
Владеющего тем, что страстно полюбил.
LXXX.
Всю жизнь свою он бился неуклонно
С толпой врагов, которых приобрел,
Преследуя всех близких исступленно[166]166
Напр. – с г-жей Варенс в 1738 г.; с г-жей д'Эпинэ; с Дидро и Гриммом в 1757 г., с Вольтером, с Давидом Юмом в 1766 г., со всеми, к кому он был привязан или с кем был в сношениях, кроме только его неграмотной любовницы, Терезы Левассер. (См. «Руссо» Джона Морлея).
[Закрыть]
И принося их в жертву ослепленно
Храм подозренью он в душе возвел.
Он был безумен. Почему? Причину
Безумия едва ли мир нашел.
Винить ли в нем недуг или кручину?
Но разума притом он надевал личину.
LXXXI.
Он одарен был Пифии глаголом,
И в мире целом он зажег пожар,
И разрушеньем угрожал престолам.
Не Франции ль, гнетомой произволом
Наследственным – принес он этот жар?
Ее во прахе бившуюся – смело
С друзьями он призвал для грозных кар,
И всей страной та ярость овладела,
Что следует всегда за страхом без предела.
LXXXII.
Воздвигнут ими памятник ужасный!
Конец всего, что с первых дней росло.
Разорван был покров рукою властной,
Чтоб все за ним лежавшее – могло
Быть видимым. Круша добро и зло,
Оставили они одни обломки,
Чтоб честолюбье снова возвело
Трон и тюрьму, и вновь ее потомки
Наполнили собой, как было раньше ломки.
LXXXIII.
Но так не может длиться, не должно.
С сознаньем сил пришло их проявленье,
Но человечество соблазнено
Своею мощью было, и оно
В делах своих не знало сожаленья.
Кто не орлом в сиянье дня рожден,
Но жил в пещерах мрачных притесненья —
Не мудрено ль, что солнцем ослеплен,
Погнаться за другой добычей может он?
LXXXIV.
Где рана, что закрылась без рубца?
Страдание сердечных ран – упорно,
И сохранится след их до конца.
Уста разбитого судьбой борца
Молчание хранят, но – не покорно:
Настанет час расплаты за года,
Он близок, он для всех придет бесспорно,
Вольны карать и миловать, тогда
Мы все ж воздержимся от строгого суда.
LXXXV.
Гладь озера! Простор твой тихоструйный,
Столь чуждый шума – словно шепчет мне,
Что должен я уйти от жизни буйной,
От мутных волн – к прозрачной глубине.
Меня крылатый парус в тишине
Мчит от скорбей. Пусть океан безбрежный
Шумел в былом, в чуть плещущей волне
Упрек сестры я различаю нежный
За то, что отдался весь жизни я мятежной.
LXXXVI.
Ночная тишь. Все очертанья слиты,
Но явственны, все – мрачно и светло,
Лишь кручи Юры – сумраком повиты,
Как будто бы нависли тяжело.
Струю благоуханья донесло
Сюда с лугов при нашем приближенье;
Когда остановилося весло —
Я слышу капель звонкое паденье,
В траве кузнечика ночного слышу пенье.
LXXXVII.
Он любит ночь, поет он постоянно —
Дитя всю жизнь – от полноты души.
То птица закричит в кустах нежданно,
То в воздухе какой-то шепот странно
Вдруг пронесется, и замрет в глуши.
Но то – мечта. Рой звезд на небосводе
Струит росинки слез любви в тиши,
С тем, чтоб они, излившись на свободе,
Дух светлой красоты вливали в грудь природе.[167]167
Байрон жил на вилле Диодати, в местечке Колиньи. Вилла эта стоит на вершине круто спускающегося холма, покрытого виноградником; из окон открывается прекрасный вид с одной стороны на озеро и на Женеву, а с другой – на противоположный берег озера. Поэт каждый вечер катался в лодке по озеру, и эти прекрасные строфы вызваны чувствами, которые он испытывал во время этих прогулок. Следующий отрывок из дневника дает понятие о том, как он проводил время:
«Сентября 18. Встал в пять. Остановился в Вевэ на два часа. Вид с кладбища превосходен. На кладбище – памятник Ледло (цареубийцы): черный мрамор, длинная надпись, латинская, но простая. Недалеко от него похоронен Броутон (который читал Карлу Стюарту приговор над королем Карлом), с оригинальною и несколько фарисейскою надписью. Осмотрели дом Ледло. Спустились на берег озера: по какой-то ошибке, прислуга, экипажи, верховые лошади – все уехали и оставили нас plantés lá. Гобгоуз побежал за ними и привел. Приехали в Кларан. Пошли в Шильон, среди пейзажа, достойного не знаю кого; опять обошли замок. Встретили общество англичан в колясках; дама почти спит в коляске, – почти спит в самом анти-сонном месте в мире, – превосходно! После легкого и короткого обеда, посетили Кларанский замок. Видели все, заслуживающее внимания, и затем спустились в «рощу Юлии», и пр. и пр.; ваш проводник весь полон Руссо, которого вечно смешивает с Сен-Пре, не отличая романа от его автора. Опять вернулись к Шильону, чтобы посмотреть на небольшой водопад, падающий с холма сзади замка. Капрал, показывавший чудеса Шильона, был пьян, как Блюхер, и, по моему мнению, столь же великий человек; при этом он был еще глух и, думая, что и все прочие люди так же глухи, выкрикивал легенды замка так ужасно, что Гобгоуз чуть не лопнул со смеха. Как бы то ни было, мы разглядели все, начиная с виселицы и кончая тюрьмой. В озере отражался закат солнца. В девять часов – спать. Завтра надо встать в пять часов утра».
[Закрыть]
LXXXVIII.
Поэзия небес, о вы, светила,
Когда б народов и держав удел —
Движенье ваше в небе начертило!
Простительно, что дольнего предел
Стремленье наше к славе преступило
И к звездам нас влечет. Вы красотой
Таинственной полны, в нас пробудила
Она такой восторг любви святой,
Что славу, счастье, жизнь – зовут у нас звездой.
LXXXIX.
Молчат земля и небо, то – не сон,
Избытком чувств пресеклося дыханье,
Задумавшись – мы так стоим в молчанье.
Молчит земля, но звездный небосклон
И с дремлющей волной прибрежный склон —
Живут особой жизнью напряженной,
В ней каждый лист и луч не отделен
От бытия, и чует умиленней
Того, кто мир блюдет, им чудно сотворенный.
ХС.
Сознанье безконечности всего
Рождается тогда в уединенье,
Где мы не одиноки, в существо
Оно вливает с правдой очищенье:
Дух, музыки источник – предвкушенье
Гармонии небес. Заключено,
В нем пояса Цитеры обольщенье,[168]168
«Как пояс Венеры одарял носившего его волшебною привлекательностью, так и присутствие бесконечного и вечного «во всем, что бренно и скоротечно» опоясывает это последнее красотою и производить сверхъестественное очарование, против которого бессильна даже смерть». (Кольридж).
[Закрыть]
И даже смерть смирило бы оно,
Будь ей лишь смертное могущество дано.
ХСІ.
Перс древний не напрасно алтарям
Избрал места на высоте ногорной,
Царящей над землей.[169]169
«Надо иметь в виду, что прекраснейшие и наиболее трогательные поучения Божественного Основателя христианства были преподаны не в храме, а на горе. Оставляя область религии и обращаясь к человеческому красноречию, мы видим, что самые выразительные и блестящие его образцы были произнесены не в оградах, Демосфен обращался к толпе в народных собраниях, Цицерон говорил на форуме. Что это обстоятельство оказывало влияние на настроение как самих ораторов, так и их слушателей, – становится понятным, когда мы сравним то, что мы читаем о произведенном ими впечатлении, с результатами своего собственного опыта в комнате. Одно дело – читать Илиаду в Сигее и на курганах, или у источников близ горы Иды, видя вокруг равнины, реки и Архипелаг, а другое дело – разбирать ее при свечке в маленькой библиотеке: это я знаю по себе. Если бы ранние и быстрые успехи так называемого методизма объяснялись чем-нибудь иным, кроме энтузиазма, возбужденного его пылкою верою и учением (истинным или ложным – это в данном случае не имеет значения), то я решился бы объяснить этот успех усвоенным его проповедниками обычаем говорить в полях, и также – неподготовленным заранее, вдохновенным излиянием чувств. Мусульмане, религиозные заблуждения которых (по крайней мере, – в низшем классе) более искренни и потому более трогательны, имеют привычку повторять в определенные часы, предписанные законом молитвы и воззвания, где бы они ни находились, а стало быть, – часто и под открытым небом, становясь на колени на циновку (которую они возят с собой, для того, чтобы на ней спать, или пользоваться ею, как подушкой, смотря по надобности). Эта церемония продолжается несколько минут, в течение которых они совершенно поглощены своего молитвою и живут только ею; ничто не в состоянии в это время их отвлечь. На меня простая и цельная искренность этих людей и то присутствие духовного начала, которое при этом чувствовалось среди них, производили впечатление, гораздо более сильное, чем какой-либо общий обряд, совершавшийся в местах религиозного поклонения; а я видел обряды почти всех существующих вероисповеданий, – большинства наших собственных сект, греческие, католические, армянские, лютеранские, еврейские и магометанские. Многие из негров, которых не мало в Турецкой империи, идолопоклонники, пользуются свободою вероучения и исполнения своих обрядов; некоторые из них я наблюдал издали в Патрасе: насколько я мог заметить, они имели характер совершенно языческий и не особенно-приятный для зрителя». (Прим. Байрона).
[Закрыть] Единый там
Достойный Духа и нерукотворный,
Стеной не обнесенный Божий храм.
Ступай, сравни кумирен пышных своды,
Что готы, греки строили богам
С землей и небом – храмами природы
И с ними не лишай молитв своих – свободы.
ХСІІ.
Но небо изменилося и – как![170]170
«Гроза, к которой относятся эти стихи, происходила в полночь 13 июня 1816 г. В Акрокеравнских горах, в Кимари, я видел несколько гроз, более ужасных, но ни одной, более красивой». (Прим. Байрона).
[Закрыть]
В своих порывах властных и жестоких
Прекрасны вы, о буря, ночь и мрак,
Как блеск очей красавиц темнооких.
Вдали, гремя, по кручам гор высоких
Несется гром, и туче грозовой
Гудят в ответ вершины гор далеких,
И Юра, вся окутанная тьмой,
Шлет Альпам радостным привет и отклик свой.
ХСІІІ.
Ночь дивная, ниспослана судьбой
Ты не для сна. Желал бы на просторе
В восторгах слиться с бурей и с тобой.
Все озеро – как фосфорное море.
Запрыгал крупный дождь и светом вскоре
Облекся вновь холмов стемневших ряд.
И горный смех слился в могучем хоре
И прокатился он среди громад,
Как будто новому землетрясенью рад.[171]171
«Эта строфа – одна из самых прекрасных во всей поэме. «Гордое наслаждение» грозою описано здесь стихами, почти такими же живыми, как молнии. «Горный смех, прокатившийся среди громад», голоса гор, как будто переговаривающихся одна с другою, «прыганье крупного дождя, волнение обширного озера, светящегося, точно фосфорное море, – все это представляет картину высокого ужаса и вмести с тем – радости, картину, которую часто пытались изображать, но никогда еще не изображали в нашей поэзии так хорошо». (В. Скотт).
[Закрыть]
ХСІV.
Путь проложила быстрая река
Среди холмов – подобья двух влюбленных,
Навек с разбитым сердцем разлученных —
Так между ними бездна глубока.
Но корнем распрей их ожесточенных
Была любовь; убив их жизни цвет,
Она увяла. Для опустошенных
Борьбой сердец ряд бесконечных лет —
Сплошных суровых зим остался ей во след.[172]172
Дневник путешествия по Швейцарии, веденный Байроном для сестры, заключается следующими грустными словами: «Во время этой поездки, в течение тринадцати дней, мне посчастливилось иметь хорошую погоду, хорошего товарища (Гобгоуза) и удачу во всех наших планах; не было даже и тех мелких случайностей и задержек, которые делают неприятным путешествие даже и по менее диким местностям. Я рассчитывал получить удовольствие. Ведь я люблю природу, я – поклонник красоты. Я могу выносить усталость и лишения, лишь бы видеть несколько прекраснейших в мире пейзажей. Но среди всего этого меня мучило воспоминание об огорчениях и та скорбь, которая будет угнетать меня всю жизнь, – и ничто не облегчило тяжести, лежащей у меня на сердце»…
[Закрыть]
ХСV.
Там основался бурь сильнейших стан —
Где вьются Роны быстрые изломы;
Опустошив со стрелами колчан,
Там не один сверкает ураган
И шлет другим, играя с ними, громы.
Во внутрь холмов распавшихся вошла
Одна из молний – в грозные проломы,
Как бы поняв, что в них ее стрела
Все, что таилося, – испепелит до тла.
ХСVІ.
Вихрь, волны, горы, гром и небеса,
Вас чувствую и бодрствую я чутко;
Вдали стихают ваши голоса,
Чей гул в душе тем звоном отдался,
Что и во сне в ней раздается жутко.
Где ваша грань, о бури? В царстве мглы
Бушуете ли вы без промежутка,
Как и в сердцах, иль наверху скалы
Свиваете себе вы гнезда, как орлы?
ХСVІІ.
О, если б все, что мощно иль ничтожно,
Что есть во мне: дух с сердцем и умом,
Страсть, чувство, все, чем я томлюсь тревожно
И все же существую, – если б можно
Их было в слове выразить одном
И молнией звалось такое слово —
Я мысль мою всю выразил бы в нем.
Теперь – умру, не сняв с нее покрова,
Как меч – в его ножнах, скрывая мысль сурово.
XCVIIІ.
Встает заря, свежо ее дыханье
И цвет ланит подобен лепесткам;
Она грозит со смехом облакам,
Как будто нет могилы в мирозданье;
Но разгорелось днем ее сиянье,
Восстановлен обычный жизни ход,
Здесь пищу и простор для созерцанья
Найду я близ твоих лазурных вод,
Вникая мыслью в то, что нам покой дает.
ХСІХ.
Кларан, отчизна истинной Любви!
Она питает корни, мыслью страстной
Здесь воздуха насыщены струи,
Снега над бездной глетчеров опасной
Окрасила любовь в цвета свои:
Ласкает их закат сияньем алым;
Здесь говорят утесы о Любви,
Уязвлена надежды тщетной жалом,
Она от грозных бурь бежала к этим скалам.
С.
Кларан! Любовь божественной стопою
Ступала здесь, воздвигнув свой престол,
К нему ряд гор, как ряд ступеней, вел.
Внося повсюду жизнь и свет с собою.
Она являлась не в один лишь дол,
В дремучий лес иль на вершине снежной,
Но каждый цвет в лучах ее расцвел,
Везде ее дыханье властью нежной
Владычествует здесь над бурею мятежной.
CI.
Все им полно: и роща сосен черных,
Что тень свою бросают на утес,
Отрадный слуху шум потоков горных,[173]173
Ср. Новую Элоизу, ч. IV, и. 17: «Поток, образовавшийся от таяния снегов, катился в двадцати шагах от нас грязною волною, с шумом вздымая ил, камни и песок… Справа над нами печальной тенью возвышались леса черных сосен. Налево, за потоком находился большой дубовый лес».
[Закрыть]
И скат крутой, обвитый сетью лоз,
Ведущий к лону вод, Любви покорных,
Лобзающих стопы ее, и ряд
Стволов седых с главой листов узорных,
Как радость юных – привлекая взгляд,
Уединение живое здесь сулят.
СІІ.
Лишь пчелами оно населено
И птицами в цветистом оперенье;
Их пение хвалы ему полно
И сладостнее слов звучит оно
И крылья их простерты в упоенье.
Паденье вод с утеса на утес
И почки на ветвях – красы рожденье,
Все, что самой Любовью создалось —
Все в обольстительное целое слилось.
СІІІ.
Кто не любил – впервые здесь полюбит,
Кто знал любовь – сильней полюбит тот;
Сюда Любовь бежала от забот,
От суеты, что мир тщеславный губит.
Она иль гибнет, иль идет вперед,
Но не стоит в спокойствии беспечном,
Любовь иль увядает, иль растет,
Становится блаженством бесконечным,
Которое вполне огням подобно вечным.
СІV.
Руссо избрал не вымыслом взволнован,
Любви приютом этот уголок,
Природой он дарован во владенье
Созданьям светлым духа. Он глубок
И полон чар. С Психеи юный бог
Снял пояс тут, и гор высоких склоны
Он красотой чарующей облек.
Спокойно, безмятежно ложе Роны,
И Альпы мощные свои воздвигли троны.
СV.
Вы приютили тех, Ферне с Лозанной,
Кто вас прославил именем своим;[174]174
«Вольтера и Гиббона». (Прим. Байрона).
Вольтер жил в Фернэ, в пяти милях к северу от Женевы, с 1759 по 1777 г. Эдуард Гиббон закончил в 1788 г. свое знаменитое сочинение: «Падение римской империи» в Лозанне, в т. наз. «La Grotte», старом, обширном доме сзади церкви св. Франциска. В настоящее время этот дом уже не существует, и даже бывший при нем сад изменил свой прежний вид: на месте знаменитой деревянной беседки и сливовой аллеи, называвшейся, по имени Гиббона, «La Gibbonière» стоит теперь «Отель Гиббон». В 1816 г. беседка находилась в «самом печальном состоянии» и сад был совсем запущен, но Байрон сорвал ветку с «акации Гиббона» и несколько розовых лепестков в саду, которые и послал в письме к Меррею. Шелли, напротив, не захотел сделать того же, «опасаясь оскорбить более великое и более священное имя Руссо» и находя, что Гиббон был человек «холодный и бесстрастный».
[Закрыть]
Путем опасным – славы несказанной
Навеки удалось достигнуть им.
И как титан, их дух неутомим,
Мысль громоздил на дерзостном сомненье,
И пали б вновь с небес огонь и дым,
Когда б на все людские ухищренья
Ответом не было с небес одно презренье.
СVІ.
В желаньях, как дитя, непостоянен,
Был первый, весь – изменчивость и пыл,
Умом и сердцем столь же многогранен,
Философа и барда он вместил.
Протеем он всех дарований был,
Безумным, мудрым, строгим и веселым,
Но дар насмешки он в себе носил,
И несшимся, как бурный вихрь, глаголом —
Он поражал глупца иль угрожал престолам.
СVІІ.
Другого ум – пытлив, глубок и точен,
С годами знаний накоплял запас.
И меч его старательно отточен —
Насмешкой важной подрывал подчас
Важнейшие из верований в нас.
Насмешки царь, врагов казня надменно,
Он гнев и страх в них возбуждал не раз;
Его ждала ревнителей гиена,
Где все сомнения нам разрешат мгновенно.
СVІІІ.
Мир праху их! Коль скоро были казни
Они достойны – им пришлось страдать.
Не нам судить, тем больше – осуждать.
Настанет час, когда вблизи боязни.
Надежде суждено во прахе спать.
Наш прах должно постигнуть разрушенье,
А если – так нас учит благодать —
Воскреснет он, то встретит отпущенье
Иль за грехи свои – достойное отмщенье.
СІХ.
Но вновь от человеческих деяний
Перехожу к созданию Творца.
Кончается страница – плод мечтаний,
Что длилася, казалось, без конца.
Где туч и белых Альп слилися грани —
Туда я поднимусь, чтоб взор открыл
Все, что доступно для земных созданий
На высоте, где рой воздушных сил
Вершины горные в объятья заключил.
СХ.
Италия, в тебе запечатлен
Столетий свет, который ты струила
С тех пор, как отражала Карфаген
До славы поздних дней, что осенила
Вождей и мудрецов твоих. Могила
И трон держав! Дана струям твоим
Бессмертия живительная сила,
И всех, кто жаждой знания томим —
С семи холмов своих поит державный Рим.
СХІ.
Я далеко подвинулся в поэме,
В тяжелый час ее возобновив.
Знать, что не те мы и не станем теми,
Какими быть должны; дух закалив
В борьбе с собой, гнев, замысел, порыв,
Любовь, вражду, всевластное стремленье —
Таить в себе, их горделиво скрыв —
Тяжелая задача, без сомненья,
И все-таки ее привел я в исполненье.
СХІІ.
Из слов я песню, как венок, плету,
Но может быть она – одна забава,
Картин набросок, схвачен налету,
Чтоб усладить на краткий миг мечту.
Нам дорога в дни молодости слава,
Но я не молод и не признаю
За похвалой иль за хулою права
Иметь влиянье на судьбу мою:
Забыт иль не забыт – я одинок стою.
СХІІІ.
Мир не любя, любим я не был миром,
Его дыханью грубому не льстил,
Не покланялся я его кумирам
И уст моих улыбкой не кривил.
Я не делил восторгов общих пыл.
В толпе – окутан мыслей пеленою —
Среди других я не с другими был,
Я был им чужд, но без борьбы с собою —
Наверно до сих пор стоял бы я с толпою.
СХІV.
Мир не люблю, мир не любил меня,
Но – честными расстанемся врагами,
Я верю: в нем слова – одно с делами,
И добродетель в нем – не западня
Для слабого; я верю, что с друзьями
Скорбят друзья, правдивые уста
Есть у двоих иль одного меж нами,[175]175
«Ларошфуко говорит, что в наших несчастиях всегда есть нечто не лишенное приятности для лучших ваших друзей». (Прим. Байрона).
[Закрыть]
Надежда нам не лжет, и доброта —
Не только звук пустой, а счастье – не мечта.
СXV.
О, дочь моя, песнь начинал тобою,
С тобою песнь довел я до конца,
Тебя не видеть – осужден судьбою,
Но всех других сильней любовь отца.
Пусть ты не знаешь моего лица —
К тебе несутся дней грядущих тени,
В мечтах заслышишь ты призыв певца,
Дойдут до сердца звуки песнопений,
Когда мое навек замрет в могильной сени.
СXVІ.
Содействовать развитию ума
И любоваться радостей расцветом,
Следить, как ты знакомишься сама
С диковинным, неведомым предметом,
И поцелуем, нежностью согретым
Отцовскою – касаться нежных щек,
И видеть, как растешь ты – счастье в этом
Найти б я по своей природе мог,
Но этого всего меня лишает рок.
СXVІI.
Вражду ко мне пусть в долг тебе вменяют —
Любить меня тебе предрешено;
Пусть, как проклятье, имя устраняют,
Как тени прав, утраченных давно,
Могила разлучит нас, – все равно!
Хотя б всю кровь мою извлечь хотели
Из жил твоих и удалось оно,
Они и тут бы не достигли цели:
Отнять бы жизнь твою, но не любовь успели.
СXVІІІ.
Дитя любви, ты рождено в страданье
И вскормлено в борьбе: мои черты,
Их от меня наследуешь и ты,
Но только будут все твои мечтанья
Возвышенней, и чище – блеск огня.
Спи мирно в колыбели, дочь моя,
Из горных стран я шлю тебе прощанье,
Тебя благословеньем осеня,
Которым ты, увы! была бы для меня!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































