Текст книги "Памяти Каталонии. Эссе (сборник)"
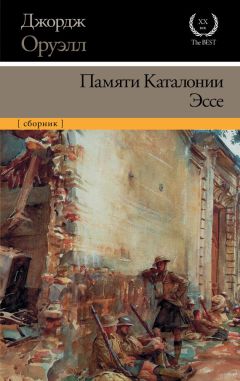
Автор книги: Джордж Оруэлл
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Тут кто-то крикнул, что фашисты на подходе. И точно – стрельба усилилась. Было ясно, что с правой стороны контратаки не будет, ведь в этом случае фашистам пришлось бы пересечь ничью землю и штурмовать собственный бруствер. Если у них остался здравый смысл, они пойдут на нас с тыла. Я обошел «позицию», приблизился к другой ее стороне. С некоторой натяжкой можно сказать, что фашистская «позиция» была подковообразной формы с блиндажами, расположенными в середине. Выходит, слева нас тоже прикрывал бруствер. Оттуда по нам били сильным огнем, но это особенно не беспокоило. Самое опасное место находилось прямо впереди, где не было никакого прикрытия. Над нашими головами проносился непрерывный поток пуль. Должно быть, стреляли с другой, отдаленной фашистской «позиции»: значит, наши ударные части не сумели ее захватить. Такой непрерывный оглушающий грохот множества стреляющих винтовок я прежде слышал только на расстоянии, а теперь оказался прямо в эпицентре. Стреляли по всему фронту. Дуглас Томпсон, чья раненая рука беспомощно свисала вдоль туловища, прислонился к брустверу и, держа в здоровой руке винтовку, стрелял по вражеским огневым вспышкам. А другой боец, у которого винтовка не действовала, заряжал ему оружие.
На этой стороне нас было пятеро или четверо. Что делать – ясно. Нужно перетащить мешки с песком с передней части бруствера на незащищенную сторону. И сделать это надо как можно быстрее. Пока пули летели поверх наших голов, но ситуация могла измениться в любой момент. По огневым вспышкам я прикинул, что против нас выступили сто, а то и двести человек. Мы выкручивали из бруствера мешки с песком, оттаскивали на двадцать метров в нужную сторону и складывали в кучу. Работенка не из легких. Мешки были большие, каждый – не меньше центнера, и требовалось напрягать все свои силы, чтобы сдвинуть его с места, а потом гнилая мешковина рвалась, и на тебя сыпалась сырая земля, попадая за ворот и набиваясь в рукава. Помню, какой ужас наводили на меня этот хаос, темнота, страшный грохот, грязь по колено, борьба с рвущимися мешками. Ружье страшно мешало, но я не решался его отложить, боясь потерять. Я даже крикнул кому-то, кто тащил вместе со мной мешок: «Ничего себе война! Это черт знает что такое!» Неожиданно несколько высоких мужчин перепрыгнули через передний бруствер. Когда они подошли ближе, нас охватила радость: на них была униформа ударных частей, и мы решили, что нам прислали подкрепление. Их оказалось всего четверо: три немца и один испанец.
Позднее мы узнали, что произошло с ударными частями. Они плохо ориентировались в местности, в темноте забрели не туда, куда надо, напоролись на фашистскую проволоку, и многих из них там положили. Эти четверо, к счастью для себя, потерялись. Немцы не говорили ни слова – ни по-английски, ни по-французски, ни по-испански. При помощи жестикуляции мы с большим трудом им объяснили, чем тут занимаемся, и предложили помочь нам в возведении баррикады.
На этот раз фашисты притащили пулемет. Было видно, как он извергает огонь в ста или двухстах метрах от нас, над нашими головами непрерывно с холодным треском пролетали пули. К этому времени мы уже натаскали достаточно мешков, чтобы сделать небольшой бруствер, за которым несколько человек могли стрелять из положения лежа. Я приготовился стрелять с колена. Минометный снаряд со свистом пронесся над нами и взорвался на ничейной земле. Еще одна опасность, но им потребуется несколько минут, чтобы нас нащупать. Теперь, когда закончилась возня с этими проклятыми мешками, все казалось не так уж плохо: шум, темнота, приближающиеся огоньки и лица товарищей, озаряемые вспышками. Можно было даже подумать. Помнится, я задался вопросом, страшно ли мне, и решил, что не страшно. А ведь снаружи, где меня не так остро подстерегала опасность, меня прямо подташнивало от страха.
Тут снова закричали, что фашисты подходят. Сомнений не было: ружейные вспышки заметно приблизились. Я видел вспышку всего в двадцати метрах. Они явно прошли смежной траншеей. Двадцать метров – подходящее расстояние для гранаты. Нас было восемь или девять человек, мы сбились в кучу, и метко брошенная граната разнесла бы нас в клочья. Боб Смилли, у которого из ранки на лице стекала кровь, привстал на одно колено и метнул гранату. Мы пригнулись, ожидая взрыва. Фитиль с шипящим звуком прочертил огненную черту в воздухе, но граната не разорвалась. (Примерно четверть всех гранат ни к черту не годилась!) У меня осталась только подобранная фашистская граната, но не было уверенности, что она сработает. Я крикнул, нет ли у кого лишней гранаты. Дуглас Мойл порылся в кармане и протянул мне одну. Я швырнул ее и упал ничком. Но по счастливой случайности, какая бывает раз в году, моя граната упала точно туда, где я видел вспышку выстрела. Прогрохотал взрыв, а потом сразу же раздались истошные крики и стоны. Одного, по крайней мере, мы вывели из строя. Не знаю, был ли он убит, но ранен точно тяжело. Несчастный бедолага! Услышав его вопли, я испытал к нему что-то вроде сочувствия. Но в то же время в слабом отблеске вспышек я увидел – или мне показалось, что увидел, – фигуру, стоящую возле того места, откуда блеснул выстрел. Я поднял винтовку и выстрелил. Еще один крик боли, но, возможно, это было следствием взрыва гранаты. Мы швырнули еще несколько гранат. Вспышки заметно отдалились – метров на сто или даже больше. Итак, мы их прогнали – во всяком случае, на время.
Послышались проклятия, все возмущались, что нам не прислали подмогу. С автоматом или двадцатью бойцами с исправными винтовками мы могли бы удерживать это место против целого батальона. В этот момент Пэдди Донован, помощник Бенджамина, которого посылали к нашим для получения дальнейших распоряжений, перелез через передний бруствер.
– Эй вы! А ну, вылезайте! Отходим!
– Как?
– Говорю – отходим. Выбирайтесь скорей!
– Почему?
– Это приказ. Мигом на старую «позицию».
Кое-кто уже перелезал через бруствер. Некоторые с трудом тащили ящик с боеприпасами. Я вспомнил о телескопе, который стоял, прислоненный к противоположной стороне бруствера. И в этот момент увидел, как те четверо из ударных частей, повинуясь, видимо, полученному ранее секретному приказу, побежали по соединительной траншее, которая вела к соседней фашистской позиции. А это путь к верной смерти! Они уже растворялись в темноте, когда я бросился за ними, пытаясь вспомнить, как по-испански «отступать». Наконец я крикнул: «Atrás! Atrás![37]37
Назад! (исп.)
[Закрыть]», что, по моему разумению, было правильным переводом. Испанец меня понял и вернул остальных. Пэдди ждал нас у бруствера.
– Скорей! Поторопитесь!
– А как же телескоп?
– К черту телескоп! Бенджамин ждет нас снаружи!
Мы выбрались из бруствера. Пэдди отвел передо мной проволоку. Только мы покинули наше временное убежище, как сразу оказались под ураганным огнем, окружившим нас со всех сторон. Не сомневаюсь, что и наша часть приложила к этому руку – обстреливалась вся линия фронта. Куда бы мы ни поворачивали, в нас тут же начинали стрелять, мы кружили в темноте, как заблудившаяся отара овец. К тому же мы тащили с собой захваченный ящик с боеприпасами, в один такой ящик входит 1750 обойм, весит он около пятидесяти килограммов, а в придачу – еще ящик с гранатами и несколько фашистских винтовок. Вскоре, несмотря на смешное – около двухсот метров – расстояние между нашими ограждениями, мы сбились с пути. Плелись куда-то, утопая в грязи и зная только то, что в нас стреляют с обеих сторон. Луна скрылась за облаками, но небо стало понемногу светлеть. Наши части стояли к востоку от Уэски. Я предпочел бы дождаться рассвета, стоя на месте, но остальные возражали. Мы продолжали месить непролазную грязь, несколько раз меняли направление и поочередно волокли ящик с боеприпасами. Наконец перед нами обозначилась линия невысокого бруствера. Наш или вражеский? Никто не имел понятия, где мы. Бенджамин пополз на животе через высокую выцветшую траву и, остановившись в двадцати метрах от бруствера, окликнул часового. «ПОУМ», – крикнули в ответ. Вскочив на ноги, мы бросились к брустверу, по дороге еще раз окунулись в оросительную канаву – бултых! – и наконец оказались в безопасности.
Копп с несколькими испанцами ждал нас за бруствером. Врача и носилок уже не было. Всех раненых уже унесли, кроме Хорхе и одного из наших по фамилии Хидлстоун. Белый как бумага Копп ходил взад-вперед, даже складки на его затылке побледнели. Он не обращал никакого внимания на пролетавшие над низким бруствером пули, некоторые – совсем рядом с его головой. Мы же, прячась от пуль, сидели на корточках. Копп бормотал: «Хорхе! Дружище! Хорхе!» И потом по-английски: «Если Хорхе погиб, это ужасно, ужасно!» Хорхе был его ближайшим другом и одним из лучших офицеров. Внезапно он повернулся к нам и попросил, чтобы пять добровольцев – два англичанина и три испанца – отправились на поиски пропавших людей. Вызвались мы с Мойлом и три испанца.
Когда мы вышли наружу, испанцы забормотали, что становится слишком светло, а это опасно. Действительно, небо светлело на глазах. Из фашистского редута доносились громкие, возбужденные голоса. Ясно, что теперь туда подтянулись дополнительные силы. Когда мы находились в шестидесяти или семидесяти метрах от бруствера, они, по-видимому, что-то увидели или услышали, и мощный огонь поверг нас на землю. Один из них швырнул гранату через бруствер – верный признак паники. Мы лежали в траве, дожидаясь, когда можно будет продолжить путь, но тут услышали, или нам показалось, что услышали – сейчас я не сомневаюсь: то был плод нашего воображения, но тогда это казалось вполне реальным, – что голоса фашистов звучат значительно ближе, чем раньше. Значит, они покинули бруствер и направляются к нам. «Беги!» – крикнул я Мойлу и вскочил на ноги. Боже, как я бежал! Ночью я думал, что невозможно бежать облепленным мокрой грязью и сгибаясь под тяжестью винтовки и патронов. Но теперь я понял, что можно бежать при любых обстоятельствах, если знаешь, что за тобой гонятся пятьдесят или сто вооруженных человек. Но если я бежал быстро, другие бежали еще быстрее. Что-то похожее на метеоритный дождь пронеслось мимо меня. То были три испанца. Они остановились только у нашего бруствера, там-то я их и нагнал. Правда заключалась в том, что нервы наши были ни к черту. Но я знал, что в предрассветной мгле одному человеку легче прокрасться незаметно, чем пятерым, и на этот раз один отправился к фашистскому брустверу. Я добрался до внешнего ограждения и постарался как можно тщательнее обследовать там землю, что было совсем не просто: ведь мне приходилось ползать на животе. Никаких следов Хорхе или Хидлстоуна не было, и я пустился в обратный путь. Впоследствии стало известно, что Хорхе и Хидлстоуна увезли на перевязочный пункт раньше. Хорхе легко ранили в плечо. У Хидлстоуна рана была серьезней: пронзившая левую руку пуля раздробила в нескольких местах кость. А когда он, беспомощный, лежал на земле, разорвавшаяся рядом граната нанесла ему дополнительные увечья. Я рад был услышать, что его вылечили. Позже он сам рассказывал мне, как пытался ползти, лежа на спине, а затем наткнулся на раненого испанца, и они чем могли помогали друг другу.
Становилось все светлее. Вдоль линии фронта на много миль вокруг гремела беспорядочная стрельба, напоминавшая дождь, который продолжает идти, когда буря уже пронеслась мимо. Помню, как безрадостно все выглядело: повсюду вязкая глина, мокрые тополя, желтая вода в траншеях, усталые лица бойцов – небритые, грязные, черные от копоти. Когда я вошел в свой блиндаж, трое ополченцев, с которыми я делил это убогое жилье, уже крепко спали. Они рухнули на землю, не раздеваясь, в полном обмундировании, прижав к груди грязные винтовки. В блиндаже было так же сыро, как и снаружи. Проявив изрядное упорство, я собрал несколько сухих щепок и развел крошечный костер. Потом закурил хранимую мной сигару, которая по счастливой случайности уцелела в эту бурную ночь.
Позднее мы узнали, что при сложившихся обстоятельствах наша вылазка удалась. Ее затеяли, чтобы фашисты отвели часть войск от Уэски, где анархисты опять начали наступление. По моим подсчетам, фашисты направили подкрепление из ста или двухсот человек, но дезертир позже сообщил, что их было не менее шестисот. Склонен думать, что он врал: дезертиры обычно по понятным причинам стараются приносить добрые вести. Жаль, что так получилось с телескопом. Даже сейчас мысль о том, что мы потеряли такую прекрасную и нужную вещь, терзает меня.
Глава 8
Дни становились все жарче, и даже ночи были довольно теплые. На изрешеченной пулями вишне перед нашим бруствером стали завязываться ягоды. Купание в реке теперь было не мукой, а почти удовольствием. Дикие розы с большими бутонами – каждый размером с блюдце – росли по краям воронок вокруг Торре Фабиан. За линией фронта можно было встретить крестьянок с дикими розами в волосах. Вечерами крестьяне расставляли зеленые сети на перепелов. Сети расстилались поверх травы, а сами охотники устраивались по соседству и издавали звуки, подражая самочке перепелки. Если недалеко оказывался самец, он подбегал ближе и забирался под сеть, тогда в него бросали камешки, чтобы испугать, и он, взлетая, запутывался в сети. Видимо, так ловят только самцов, что показалось мне несправедливым.
По соседству с нами теперь стоял отряд андалузцев. Не знаю точно, как они попали на фронт. Поговаривали, что андалузцы так быстро бежали из Малаги, что проскочили Валенсию, но это по версии каталонцев, привыкших видеть в жителях Андалусии почти варваров. Андалузцы действительно были очень невежественные. Мало кто из них умел читать, и, похоже, они не знали даже того, что было известно каждому испанцу, – к какой партии они принадлежат. Считали себя анархистами, но не были в этом твердо уверены – возможно, они коммунисты. С виду это были грубоватые сельские жители, пастухи или работники на оливковых плантациях, с лицами, загорелыми дочерна на жгучем солнце далекого юга. Они принесли нам большую пользу своим исключительным умением сворачивать из сухого испанского табака самокрутки. Сигарет нам больше не привозили, но в Монфлорите иногда можно было купить пачки дешевого табака, который и по виду, и по качеству напоминал измельченное сено. Вкус был еще куда ни шло, но из-за сухости попытка изготовить некое подобие сигареты была обречена на провал: табак высыпался, оставляя пустую оболочку. Однако андалузцы ухитрялись скручивать превосходные сигареты, применяя особую технику и ловко подворачивая концы бумаги.
Два англичанина слегли от солнечного удара. Самые яркие воспоминания этого времени: невыносимый дневной зной; мешки с песком, которые я таскал голый до пояса, натирая плечи, и так уже изрядно обгоревшие на солнце; наша ветхая одежда и ботинки-развалюхи; борьба с мулом, привозившим нам еду, – он не боялся ружейных пуль, но мигом обращался в бегство, услышав звук рвущейся шрапнели; москиты (только-только появившиеся) и крысы, ставшие настоящим бедствием, они пожирали даже кожаные пояса и патронные сумки. Ничего не происходило, если не считать случайных жертв от снайперской пули, случайных же залпов артиллерийского огня и воздушных налетов на Уэску. Теперь, когда деревья покрылись листвой, мы соорудили на ветвях тополей, растущих вдоль линии фронта, платформы для наших снайперов. На дальней стороне Уэски атаки понемногу стихали. Анархисты понесли тяжелые потери и не сумели полностью перекрыть дорогу на Хаку. Но им удалось расположиться вдоль дороги и, держа ее под пулеметным прицелом, не пропускать чужие машины. Однако фашисты воспользовались километровым прорывом в обороне и соорудили там полуподземную дорогу – что-то вроде огромной траншеи, по которой удавалось проскакивать грузовикам. По словам дезертиров, в Уэске было много боеприпасов, но очень мало продовольствия. Однако город не сдавался. Да и как его можно было взять, имея пятнадцатитысячную плохо вооруженную армию? Позже, в июне, правительственная коалиция перекинула часть войск с Мадридского фронта, сконцентрировав под Уэской тридцатитысячное войско и большое количество самолетов, но и тогда город взять не удалось.
Я отправился в отпуск, проведя на фронте сто пятнадцать дней, и тогда мне казалось, что проведенное там время – самое бесполезное время в моей жизни. Я вступил в ополчение, чтобы бороться с фашизмом, но то, что происходило до сих пор, вряд ли можно было так назвать: я просто существовал как пассивная единица и даже не отрабатывал положенное довольствие, только мучился от холода и недосыпа. Может, такова судьба многих солдат в большинстве войн. Но сейчас, оглядываясь назад, я уже не сожалею о потраченном времени. Конечно, хотелось бы принести испанскому правительству больше пользы, но с точки зрения моего собственного развития эти три или четыре месяца, проведенные на фронте, были не такими уж бесполезными. То была своеобразная пауза, очень отличавшаяся от всего прежнего в моей жизни и, возможно, от всего, что со мной еще произойдет. Это время научило меня вещам, которые я никогда не узнал бы другим путем.
Главное – все это время я находился в изоляции: на фронте практически все полностью изолированы от внешнего мира, даже о событиях в Барселоне мы имели лишь смутное представление, и это среди людей, которых можно в целом, хотя и не совсем точно, назвать революционерами. Во многом это было результатом системы ополчения, которая на Арагонском фронте не менялась кардинально до июня 1937 года. Рабочее ополчение, созданное на базе профсоюзов и объединившее людей приблизительно одинаковых политических убеждений, послужило тому, что в одном месте соединились самые революционные силы страны. По чистой случайности я оказался в единственном в Западной Европе объединении, в котором политическая сознательность и неверие в капитализм представлялись более нормальными, чем прямо противоположные взгляды. Здесь, в Арагоне, я был одним из десятков тысяч людей, не всегда рабочего происхождения, и все они жили в одних условиях, на принципах равноправия. В теории это было полное равенство, но и на практике было почти так же. Было ощущение, что мы находимся в преддверии социализма, то есть, я хочу сказать, что мы жили в атмосфере социализма. Многие из обычных предпочтений так называемой цивилизованной жизни – снобизм, жажда наживы, страх перед хозяином и так далее – просто перестали существовать. Классовое деление общества полностью исчезло, а такое даже вообразить нельзя в пропитанном запахом денег воздухе Англии. Существовали только крестьяне и все остальные, и никто ни над кем не властвовал. Конечно, такое положение дел не могло долго продолжаться. Это был временный, местный эпизод в гигантской игре, охватившей весь земной шар. Но он продолжался достаточно долго и потому оказал влияние на всех участников. И те, кто в свое время ругал все подряд, позднее осознали, что присутствовали при чем-то удивительном и ценном. Мы находились в сообществе, где преобладала надежда, а не апатия или цинизм, а слово «товарищ» действительно говорило о духовном единстве, а не являлось пустым словом. Мы вдыхали воздух равенства. Я хорошо знаю, что сейчас принято отрицать, что социализм имеет что-либо общее с равенством. Теперь в каждой стране огромная армия партийных функционеров и лощеных профессоров-недоумков занята тем, что «доказывает»: социализм – не что иное, как плановый государственный капитализм, в котором жажда наживы по-прежнему сохраняется. К счастью, существует и другое представление о социализме. Идея равенства – вот пресловутая «мистика» социализма, притягивающая простых людей, которые готовы рисковать за эту идею жизнью; для большинства социализм означает бесклассовое общество, без этого социализма нет. Именно поэтому месяцы в ополчении так важны для меня. Ведь испанское ополчение, пока оно существовало, было своего рода бесклассовым обществом в миниатюре. В этом коллективе, где никто не старался пролезть вперед, во всем ощущался недостаток, зато не было ни привилегированных особей, ни подхалимов, у каждого было предчувствие, какими могут стать первые этапы социалистического общества. И это не разочаровывало меня, а, напротив, чрезвычайно привлекало. Больше, чем раньше, мне хотелось видеть торжество социализма. Частично это могло быть связано с тем, что мне повезло жить среди испанцев с их врожденной порядочностью и вечным анархистским душком – они могут, если у них будет шанс, сделать привлекательными даже начальные стадии социализма.
В то время я вряд ли осознавал, какие во мне свершаются перемены. Как и все остальные, я мучился от скуки, жары, холода, вшей, грязи, нехватки почти всего и время от времени – опасности. Сейчас все воспринимается иначе. Теперь время, казавшееся таким пустым и бедным на события, приобрело для меня большое значение. Оно настолько разительно отличается от остальной моей жизни, что обрело некое волшебное свойство, которым окрашены только давние воспоминания. То время было действительно трудным, но теперь оно дает богатую пищу для размышлений. Хотелось бы мне суметь передать атмосферу тех дней. Надеюсь, в какой-то степени я сделал это в первых главах книги. Та прошлая жизнь навсегда связана в моей памяти с зимним холодом, потрепанной формой ополченцев, продолговатыми испанскими лицами, похожим на морзянку постукиванием пулеметных очередей, запахом мочи и гнилого хлеба и металлическим привкусом бобовой похлебки, жадно пожираемой из грязных мисок.
Этот период помнится с удивительной отчетливостью. Мысленно я еще раз проживаю события, которые могут показаться слишком незначительными, чтобы их вспоминать. Вот я снова в блиндаже на Монте-Посеро, лежу на выступе известняка, служащего постелью, а рядом похрапывает молодой Рамон, уткнувшись носом мне в лопатки. А вот я, спотыкаясь, бреду по грязной траншее в тумане, окутавшем меня, как ледяной пар. Или ползу по склону горы и, стараясь удержать равновесие, хватаюсь за корень дикого розмарина. А высоко над головой посвистывают случайные пули.
Или лежу, укрывшись в молодом ельнике в низине к западу от Монте-Оскуро вместе с Коппом, Бобом Эдвардсом и тремя испанцами. Справа от нас по голому серому склону карабкаются цепочкой, как муравьи, фашисты. Совсем близко из фашистского лагеря звучит горн. Подмигнув мне, Копп при этих звуках совсем по-мальчишески показывает фашистам нос.
А вот я на замусоренном дворе Ла-Гранха в окружении мужчин, которые, расталкивая друг друга, пробиваются с жестяными мисками к котлу с рагу. Толстый усталый повар отгоняет их половником. Рядом за столом бородач с большим автоматическим пистолетом за поясом режет буханки хлеба на пять частей. А за мной кто-то поет на кокни (как оказалось, Билл Чэмберс, с которым я крепко поругался и который потом был убит под Уэской):
Повсюду крысы, крысы, крысы,
Большие, как коты…
С ревом пролетает снаряд. Пятнадцатилетние мальчишки кидаются ничком на землю. Повар прячется за котлом. Все поднимаются со смущенными лицами: снаряд упал и разорвался в ста метрах от нас.
Я патрулирую по обычному маршруту, надо мной склоняются темные ветви тополей. Рядом в канаве, полной воды, плещутся крысы, шума от них не меньше, чем от выдр. Когда по небу разливается золото рассвета, часовой-андалузец, прикрывшись плащом, заводит песню. А по другую сторону ничьей земли, в ста или двести метрах от нас, запевает фашистский часовой.
25 апреля, после обычных manana – завтра, нас сменила другая часть, и мы, сдав винтовки и собрав рюкзаки, отправились в Монфлорите. Фронт я покидал без жалости. Вши плодились в моих штанах быстрее, чем я успевал их уничтожать. Уже месяц у меня не было носков, а ботинки так прохудились, что я ходил почти что босиком. Я мечтал о горячей ванне, чистой одежде, сне под нормальным бельем с такой страстью, с какой только может мечтать человек, привыкший к нормальной, цивилизованной жизни. В Монфлорите мы проспали несколько часов на сеновале, еще до рассвета прыгнули в попутный грузовик, успели на пятичасовой поезд до Барбастро, потом нам повезло сесть на скорый в Лериде, так что в три часа дня 26-го мы были в Барселоне. И тут начались неприятности.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































