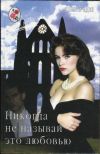Читать книгу "Дочь священника. Да здравствует фикус!"
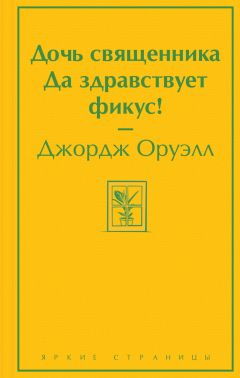
Автор книги: Джордж Оруэлл
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Оглядываясь впоследствии на эту «хмельную» авантюру, Дороти охотней всего вспоминала послеполуденные часы. Долгие трудовые часы на ярком солнце, под пение сорока голосов, в запахе хмеля и дыма от костров – все это оставило у нее неизгладимые впечатления. Ближе к вечеру от усталости подкашивались ноги, в волосы и уши набивалась тля, а исколотые в кровь руки чернели от едкого сока – и все равно ее охватывало счастье, беспричинное счастье человека, целиком и полностью отдающегося работе. Пусть то была монотонная, механическая, утомительная работа, изо дня в день ранившая руки, но она ей не надоедала; когда погода была ясной, а шишки – крупными, Дороти казалось, что она могла бы заниматься этим вечно. Обрывая час за часом увесистые гроздья и глядя, как высится в корзине нежно-зеленая горка хмеля (каждый бушель обещал ей еще два пенса), она ликовала и чувствовала, как по телу разливается приятное тепло. Солнце жгло ей кожу, а ноздри щекотал бодрящий, горьковатый, никогда не приедавшийся запах, навевавший мысли об океане прохладного пива. В ясную погоду все пели за работой, и плантации превращались в народный хор. Почему-то все песни той осенью были печальными – об отвергнутой любви и напрасной верности, – этакие трущобные варианты «Кармен» и «Манон Леско». Вот, к примеру:
Вон они-и идут вдвое-ом,
Она души-и не чает в не-ом.
Только я, одинокий, горюю-у!
А еще:
Я танцую, но слезы в глаза-ах,
Ведь не ты у меня в рука-ах!
И:
Колокола звонят для Салли,
Но не для Салли и меня-а!
Одна цыганская девочка пела снова и снова:
В заботах проходят года-а
На на-ашей ферме, ну да-а!
И хотя все ей говорили, что это «Ферма “Нужда”», она никого не слушала.
А старая торговка с внучкой Розой пели:
Хмель паршивый, распаршивый,
Вон уж мерщик к нам иде-от.
Подбирай скорей все шишки,
Будет добрый нам расче-от.
Соберем корзину с верхом,
Подавись ты, жадный че-орт!
Больше прочих сборщики любили «Вон они идут вдвоем» и «Колокола звонят для Салли». Эти песни никогда не теряли для них своей прелести – они пропели их за сезон не одну сотню раз. Эти напевы, разносившиеся по рядам пушистого хмеля, составляли неотъемлемую часть атмосферы хмельника, наравне с горьковатым ароматом и слепящим солнцем.
Возвращаясь в лагерь, ближе к семи вечера, Дороти садилась у ручья, протекавшего вдоль хижин, и споласкивала лицо, нередко впервые за день. Чтобы отмыть въевшуюся черную грязь, требовалось минут двадцать. Ни вода, ни даже мыло на нее не действовали; она боялась только двух вещей – ила и, как ни странно, сока хмеля. Затем Дороти готовила ужин, обычно состоявший из тех же хлеба с беконом и чая, если Нобби не успевал сходить в деревню и достать пару кусков мяса по пенни. Провизию всегда покупал Нобби. Он знал, как за два пенни купить четыре куска мяса, по пенни каждый, и был мастером по части хозяйственной экономии. К примеру, всем буханкам он предпочитал деревенский каравай, разламывавшийся как бы на две буханки.
Дожевывая ужин, Дороти проваливалась в сон, но большие костры, разжигаемые между хижинами, были до того притягательны, что она продолжала сидеть и смотреть на огонь. Разрешалось брать по две охапки хвороста в день на хижину, но сборщики брали, сколько считали нужным, добавляя к хворосту разлапистые корни вязов, курившиеся до утра. Бывало, костры получались до того большущими, что вокруг них свободно усаживалось до двадцати человек – они до поздней ночи распевали песни, рассказывали истории и пекли ворованные яблоки. Ребята с девушками уходили темными тропинками, лихие души, вроде Нобби, брали свои вещмешки и шли по садам, воровать яблоки, а дети играли в прятки и гонялись в полутьме за козодоями, крутившимися возле лагеря, принимая их за фазанов. Воскресными вечерами человек пятьдесят-шестьдесят из сборщиков напивались и шатались по деревне, горланя похабные песни, к неудовольствию местных жителей, смотревших на эти сезонные безобразия, как могли смотреть порядочные провинциалы римской Галлии на ежегодные нашествия готов.
Когда же Дороти наконец добиралась до своей хижины, прохладная солома не слишком ее радовала. После первой, блаженной ночи Дороти обнаружила, что спать на соломе – колючей и пропускавшей отовсюду сквозняки – не так уж приятно. Однако с полей можно было тащить сколько угодно мешков для хмеля, и Дороти устраивала себе гнездышко, складывая один поверх другого четыре мешка, достаточно теплое, чтобы проспать хотя бы пять часов.
4
Что же касалось заработка, его хватало лишь на то, чтобы не протянуть с голоду ноги – не более.
Расценки на ферме Кэрнс составляли два пенса за бушель, и, если хмель бывал хорош, опытный сборщик мог рассчитывать на три бушеля в час. Таким образом, в теории, за шестидесятичасовую неделю было возможно заработать тридцать шиллингов. Но на деле никто в лагере даже близко не подходил к этой цифре. Лучшие сборщики зарабатывали за неделю тринадцать-четырнадцать шиллингов, а худшие – едва ли шесть. Нобби и Дороти, складывая свой хмель и разделяя доход поровну, сделали за неделю около двадцати шиллингов на двоих.
Тому имелось несколько причин. Начать с того, что хмель на некоторых полях был неважного качества. Опять же, каждый день случались проволочки, отнимавшие час-другой работы. Закончив одну плантацию, приходилось перетаскивать рамы с корзинами на другую, иногда отстоявшую на милю; а там иной раз оказывалось, что вышла ошибка, и всей бригаде (включая тех, кто тащил рамы весом в центнер[67]67
(англ.) центнер = 112 фунтов = 50,8 кг.
[Закрыть]) приходилось еще полчаса ковылять до нужного места. Но хуже всего был дождь. Сентябрь в том году выдался скверный, дождь шел каждый третий день. Бывало, что все утро или с полудня до вечера приходилось сидеть под кустистым хмелем, накинув на плечи промокавший мешок и дрожа от холода. Собирать под дождем было невозможно. Шишки делались слишком скользкими, и срывать их было себе в убыток – мокрые, они скукоживались в корзине. Иногда за весь день в поле не удавалось заработать и шиллинга.
Но почти никто из сборщиков не жаловался, поскольку почти половину из них составляли цыгане, привыкшие жить впроголодь, а большая часть остальных являла собой респектабельных лондонцев, уличных торговцев, лавочников и т. п., приезжавших собирать хмель в выходные, и они были довольны, если им хватало заработанного на дорогу в обе стороны и оставалось еще немножко, чтобы гульнуть воскресным вечером. Фермеры это знали и извлекали свою выгоду. В самом деле, если бы сбор хмеля перестал считаться приятным занятием, почти никто не стал бы им заниматься, ведь расценки настолько малы, что никакой фермер не смог бы обеспечить сборщикам прожиточный минимум.
Дважды в неделю можно было «обналичить» половину своих заработков. Но тем, кто уходил до окончания сезона (фермерам это было невыгодно), могли выплатить по пенни за бушель вместо заявленных двух, то есть прикарманить половину обещанного заработка. Кроме того, ближе к концу сезона, когда всем сборщикам полагались круглые суммы, которыми они не хотели рисковать, сплошь и рядом бывало, что фермеры урезали расценки с двух пенсов за бушель до полутора. Забастовки были практически исключены. Профсоюза сборщиков не существовало, а бригадиры получали не по два пенса за бушель, как остальные, а еженедельный оклад, который автоматически удерживался в случае забастовки; поэтому бригадиры были готовы лечь костьми, лишь бы предотвратить такое. В целом фермеры держали сборщиков в ежовых рукавицах; но винить следовало не фермеров – проблема коренилась в нищенской оплате труда сборщиков. К тому же, как Дороти отметила впоследствии, очень немногие сборщики обладали более-менее четким представлением о величине своего заработка. Система сдельной оплаты скрывала низкие расценки.
Первые несколько дней, до того, как они смогли «обналичиться», Дороти с Нобби еле ползали от голода, и вряд ли бы выжили, если бы другие сборщики их не подкармливали. Но все были невероятно добры. В одной из больших, семейных хижин жила компания из двух семей: продавца цветов Джима Берроуза и его друга, Джима Тарла, дезинсектора в большом лондонском ресторане, чьи жены были сестрами; и эти люди прониклись теплыми чувствами к Дороти. Они следили, чтобы им с Нобби не приходилось голодать. Каждый вечер первые несколько дней к Дороти подходила Мэй Тарл, пятнадцати лет, с полной кастрюлей рагу и предлагала угоститься в самой непринужденной манере, отметавшей всякие подозрения о милостыне. Предложение всегда оформлялось следующим образом:
– Прошу, Эллен, мама говорит, она уже хотела выбросить это рагу, а потом подумала, может, ты не откажешься. Говорит, оно ей ни к чему, так что ты сделаешь ей одолжение, если возьмешь его.
Просто поразительно, какую уйму всякого добра Тарлы с Берроузами «уже хотели выбросить» в течение тех дней. Один раз они даже отдали Нобби с Дороти половину тушеной свиной головы; а помимо еды, несколько кастрюль и оловянную тарелку, на которой можно было жарить, как на сковородке. И, что особенно радовало, они не задавали неудобных вопросов. Они не сомневались, что в жизни Дороти кроется некая тайна («Видно же, – говорили они, – Эллен не просто так сошла в народ»), но из деликатности решили не смущать ее своим любопытством. Она прожила в лагере больше двух недель, прежде чем ей пришлось выдумать себе фамилию.
Как только Дороти с Нобби смогли «обналичиться», их денежные невзгоды остались позади. Им вполне хватало полутора шиллингов в день на двоих. Четыре пенса уходили на табак для Нобби, четыре с половиной – на буханку хлеба; и еще порядка семи пенсов в день на чай, сахар, молоко (на ферме можно было купить полпинты за полпенни), а также маргарин и нарезку бекона. Но, конечно, всякий день тратились еще пенни-другой на какую-нибудь ерунду. Большинство сборщиков вечно голодали, вечно подсчитывали фартинги[68]68
Фартинг = ¼ пенни; самая мелкая английская монета.
[Закрыть], чтобы понять, могут ли они себе позволить воблу или пончик, или жареной картошки за пенни, и, при всей скудости их заработков, возникало впечатление, что половина населения Кента сговорилась выудить деньги из их карманов. Местные лавочники выручали за хмельной сезон больше, чем за весь остальной год, что не мешало им смотреть на сборщиков как на грязь под ногами. День за днем к хмельникам тянулись люди с ферм, продавать яблоки и груши по пенни за семь штук, и лондонские лоточники с пончиками, фруктовым мороженым и леденцами по полпенни. А по вечерам лагерь наводняли торгаши из Лондона с фургонами небывало дешевой бакалеи, рыбы с жареной картошкой, заливных угрей, креветок, заветренных пирожных и худосочной позапрошлогодней крольчатины из ледников, продававшейся по девять пенсов за тушку.
Строго говоря, питались сборщики из рук вон плохо, да иначе и быть не могло, ведь даже если у кого и были деньги, времени на готовку, кроме как по воскресеньям, не оставалось. Вероятно, только благодаря изобилию ворованных яблок в лагере не вспыхивала эпидемия цинги. Яблоки воровали едва ли не все, а кто не воровал, все равно выменивал их. Кроме того, по выходным фруктовые сады подвергались набегам ребят (поговаривали, что их нанимали лондонские торговцы фруктами), прикатывавших из Лондона на велосипедах. Что же касалось Нобби, он возвел это дело в науку. В течение недели он собрал шайку юнцов, смотревших на него как на героя, ведь он когда-то был настоящим взломщиком и четырежды сидел в тюрьме, и каждую ночь они шли на промысел с вещмешками и приносили – страшно сказать – по два центнера фруктов. Вблизи хмельников располагались обширные сады, и яблоки там – особенно мелкие, не годившиеся на продажу – лежали и гнили кучами. По словам Нобби, грех было не взять их. Пару раз он со своей шайкой даже украл курицу. Как им удавалось проворачивать такое, никого не разбудив, оставалось загадкой; по всей вероятности, Нобби знал, как накинуть мешок на курицу, чтобы та могла «без муки узкользнуть из бытия»[69]69
Цитата из «Оды соловью» Джона Китса в переводе Г. Кружкова.
[Закрыть], во всяком случае без шума.
Так прошла неделя, за ней – другая, а Дороти все никак не могла понять, кто же она такая. Да что там, она была далека от решения этой задачи как никогда – лишь урывками она вспоминала о ней. Все больше она свыкалась со своей участью и все меньше задумывалась о прошлом и будущем. Ее текущая жизнь не оставляла ей выбора – не давала сознанию простираться дальше настоящего момента. Невозможно заниматься своими туманными внутренними проблемами, когда постоянно хочется спать и нужно что-нибудь делать – даже в свободное от работы время приходилось либо готовить, либо идти за чем-нибудь в деревню, либо разжигать костер из влажных веток, либо носить воду. (В лагере имелась только одна водоразборная колонка, в двух сотнях ярдов от хижины Дороти, и на таком же расстоянии кошмарное отхожее место.) Такая жизнь изнашивала, выжимала все соки, но взамен дарила всеохватное, безоговорочное счастье. Не жизнь, а мечта идиота. Долгие дни в поле, грубая пища и постоянный недосып, запах хмеля и древесного дыма создавали своеобразный животный рай. Не одна лишь кожа дубела от непрестанного воздействия стихий, но и сама личность человека.
По воскресеньям, конечно, в поле не работали; но воскресное утро проходило в делах: в первый раз за неделю люди готовили приличную еду и занимались стиркой и штопкой. По всему лагерю, под колокольный звон из ближайшей церкви и нестройный напев «О, Господь, помощник наш» – службы для сборщиков, которые почти никто не посещал, проводили различные христианские миссии – взвивались большие костры из хвороста, и кипела вода в ведрах, жестяных банках, кастрюлях и прочих емкостях, за неимением лучшего, а на всех хижинах полоскалась по ветру стирка. Дождавшись воскресенья, Дороти попросила у Тарлов таз и первым делом вымыла голову, а потом постирала свое белье и рубашку Нобби. Ее белье имело жуткий вид. Она не знала, как давно не снимала его, но, судя по всему, дней десять. Чулки на ступнях расползлись, а туфли держались только из-за ссохшейся грязи.
Развесив стирку, Дороти приготовила обед, и они с Нобби вдоволь наелись половиной тушеной курицы (ворованной), вареной картошкой (ворованной) и печеными яблоками (ворованными) с чаем из настоящих чашек с ручками, позаимствованных у миссис Берроуз. Пообедав, Дороти почти до вечера просидела, привалившись к солнечной стене хижины, с охапкой сухого хмеля на коленях, чтобы ветер не трепал юбку, когда она проваливалась в сон. Так же проводили свободное время две трети людей в лагере – просто дремали на солнце или тупо смотрели в пространство словно коровы. После шести дней работы на износ ни на что другое сил не оставалось.
Часа в три – Дороти в который раз клевала носом – мимо неспешно прошел Нобби, голый выше пояса (его рубашка сохла), с воскресной газетой, взятой у кого-то. Газета была «Еженедельник Пиппина», грязнейшая из всех воскресных газетенок. Нобби бросил ее на колени Дороти.
– Почитай-ка, детка, – сказал он с улыбкой.
Она взяла газету, но читать желания не было – так хотелось спать. В глаза бросался крикливый заголовок: «КИПЕНИЕ СТРАСТЕЙ В ДОМЕ СЕЛЬСКОГО РЕКТОРА». Ниже размещались еще несколько заголовков, жирные строчки и фотография девушки. Секунд пять Дороти в упор смотрела на темную, размытую, но вполне узнаваемую фотографию самой себя.
Под фотографией была колонка текста. К тому времени большинство газет уже перестали мусолить историю «дочери ректора», ведь прошло больше двух недель, и читателям эта новость приелась. Но «Пиппина» мало заботила свежесть новостей (лишь бы они были достаточно сальными), и поскольку та неделя оказалась небогатой на убийства и изнасилования, газета последний раз сделала ставку на «дочь ректора» – статья о ней размещалась на почетном месте в верхнем левом углу первой полосы.
Дороти безразлично смотрела на фотографию. Лицо девушки, темное и зернистое, ничего не пробуждало в ней. Она механически перечитала слова «КИПЕНИЕ СТРАСТЕЙ В ДОМЕ СЕЛЬСКОГО РЕКТОРА», не понимая их смысла и не испытывая к ним ни малейшего интереса. Она отметила, что совершенно неспособна читать; даже смотреть на фотографию требовало неимоверных усилий. Она неумолимо проваливалась в сон. Ее слипавшиеся глаза скользнули по фотографии то ли лорда Сноудена, то ли какого-то типа, отказавшегося носить нагрыжник, и в следующий миг она провалилась в сон, с газетой на коленях.
Так у нагретой солнцем стенки из рифленого железа Дороти продремала до шести вечера, когда ее разбудил Нобби и сказал, что готов чай. Газету – позже она пойдет на растопку – Дороти, не глядя, смахнула с колен. Иными словами, она упустила возможность разгадать загадку своего прошлого. Эта загадка могла бы оставаться неразгаданной еще не один месяц, если бы не происшествие, случившееся неделю спустя, которое напугало ее и выбило из колеи привычного существования.
5
Ночью следующего воскресенья в лагерь нагрянули двое полисменов и арестовали Нобби и еще двоих за воровство.
Это случилось так внезапно, что Нобби не мог бы сбежать, даже если бы его предупредили, ведь вся округа кишела «специальными констеблями»[70]70
Лица, назначаемые мировым судьей для выполнения специальных поручений в качестве констеблей.
[Закрыть]. В Кенте их пруд пруди. Они присягают каждую осень, образуя этакое гражданское ополчение для пресечения мародерства среди сезонников. Фермерам надоели набеги на их сады, и они решили проучить негодяев, чтобы другим неповадно было.
В лагере, разумеется, возник жуткий переполох. Дороти вышла из хижины, выяснить, что случилось, и увидела в отсветах костров круг людей, к которому сбегались остальные. Она побежала со всеми, дрожа от страха, словно уже зная, в чем дело. Протиснувшись сквозь толпу, она увидела то, чего боялась.
Здоровенный полисмен обхватил за плечи Нобби; второй полисмен держал за руки двух напуганных юнцов. Один из них, не старше шестнадцати лет, ревмя ревел. Неподалеку над уликами преступления, извлеченными из соломы в хижине Нобби, стоял мистер Кэрнс, подтянутый мужчина с седыми усами, и двое рабочих. Улика «A» представляла собой горку яблок; улика «Б» – испачканные кровью куриные перья. Нобби заметил Дороти в толпе, усмехнулся ей, показав крупные зубы, и подмигнул. Раздавались приглушенные голоса:
– Гляньте, как слезами заливается, сучоныш несчастный! Пустите его! Стыд и срам, такого мальца хватать!
– Будет засранцу наука – устроил нам веселую ночку!
– Пустите его! Вечно, млять, докапываетесь до нас, сборщиков! Не можете, млять, яблока недосчитаться, чтобы на нас не подумать. Пустите его!
– Ты бы помалкивал тоже. Что, если б это были твои, млять, яблоки? Тогда бы ты, млять, по-другому…
И т. д., и т. п.
А затем:
– Отойди, приятель! Вон евоная мать идет.
Сквозь толпу протиснулась здоровая бабища, с огромными грудями и длинными распущенными волосами, и начала крыть полисмена и мистера Кэрнса, а потом Нобби, который сманил ее сына на кривую дорожку. Рабочие насилу ее оттащили. За криками несчастной матери Дороти слышала, как мистер Кэрнс сердито допрашивал Нобби:
– А теперь, парень, давай колись, с кем делил яблоки! Мы намерены прекратить эту воровскую забаву раз и навсегда. Давай, колись, и даю слово, мы это примем во внимание.
Нобби ответил с обычной беспечностью:
– Засунь свое внимание поглубже!
– Не смей хамить мне, парень! Или огребешь по полной, когда предстанешь перед судом.
– Засунь свой суд поглубже! – усмехнулся Нобби.
Собственное остроумие очень его радовало. Он поймал взгляд Дороти и снова подмигнул ей. Затем его увели, и больше Дороти его не видела.
Гомон не прекращался, и за стражами порядка, уводившими преступников, увязались несколько десятков человек, ругая полисменов и мистера Кэрнса, но обошлось без рукоприкладства. Дороти незаметно скрылась; она даже не попыталась выяснить, сможет ли попрощаться с Нобби, – она была слишком напугана и подавлена, чтобы убежать. Колени у нее ужасно дрожали. Вернувшись к хижине, она увидела других женщин, возбужденно обсуждавших арест Нобби. Она зарылась поглубже в солому, стараясь отгородиться от их голосов. Они не смолкали полночи и сокрушались за Дороти, считая ее, разумеется, «мамзелью» Нобби. То и дело они обращались к ней с вопросами, но она притворялась спящей и молчала. Хотя прекрасно понимала, что не заснет до рассвета.
Случившееся напугало ее и выбило из колеи, причем ее испуг выходил за разумные рамки. Лично ей арест Нобби ничем не грозил. Рабочие с фермы не знали, что она ела ворованные яблоки (уж если так, их ели почти все в лагере), а Нобби никогда бы не выдал ее. Да и за него она не очень волновалась – месяц в тюрьме для него ничего не значил. Дело было в том, что творилось у нее в голове – в ней назревала какая-то жуткая перемена.
У нее возникло ощущение, что она уже не та, какой была час назад. Все изменилось – как внутри нее, так и вовне. Словно бы у нее в мозгу лопнул пузырь, исторгнув мысли, чувства и страхи, о существовании которых она давно забыла. Сонная апатия прошедших трех недель оставила ее. Она вдруг поняла, что жила все это время как во сне, ведь только во сне человек принимает все происходящее как должное. Грязь, лохмотья вместо одежды, бродяжничество, попрошайничество, воровство – все это казалось ей естественным. Даже потеря памяти казалась ей чем-то естественным; во всяком случае, до настоящего момента ее это не слишком волновало. Вопрос «кто я?» занимал ее все реже и реже, так что она иногда не вспоминала о нем по несколько часов. Зато теперь он требовал ответа самым решительным образом.
Не считая отдельных минут забытья, этот вопрос изводил Дороти ночь напролет. Впрочем, ее тревожил не столько сам вопрос, как осознание того, что совсем скоро она сможет ответить на него. К ней возвращалась память – в этом она не сомневалась, – и ее одолевало нехорошее предчувствие. Мысль о возвращении своей прежней личности внушала ей страх. Пелена забытья скрывала нечто, о чем ей не хотелось вспоминать.
В полшестого Дороти встала как обычно и нащупала туфли. Вышла из хижины, разожгла костер и поставила жестянку с водой для чая на горячие угли. И тут у нее в уме возникла как будто никак с этим не связанная сцена. Привал на лужайке в Уэйле, пару недель назад, когда они познакомились со старой ирландкой, миссис Макэллигот. Дороти вспомнила это очень отчетливо. Себя, лежавшую на траве в полудреме, закрывая рукой лицо; разговаривавших Нобби и миссис Макэллигот; и Чарли, читавшего заголовок, смакуя каждое слово: «Тайная любовная жизнь дочери ректора»; и как она спросила из любопытства, но без особого интереса: «А кто это, ректор?»
Едва она об этом вспомнила, сердце ее тронул мертвящий холод. Она развернулась и бросилась к хижине, а там стала рыться в соломе, где лежали ее тряпки, и шарить под ними. В этом море соломы терялись любые вещи, медленно погружаясь на самое дно. И все же, за несколько минут рытья, под аккомпанемент проклятий полусонных товарок, Дороти нашла то, что искала. Это была газета «Еженедельник Пиппина», которую ей дал Нобби неделю назад. Выудив газету, она вышла из хижины, села у костра и раскрыла ее у себя на коленях.
На первой полосе была фотография и три крупных заголовка. Да! Вот оно!
КИПЕНИЕ СТРАСТЕЙ В ДОМЕ СЕЛЬСКОГО РЕКТОРА
ДОЧЬ ВИКАРИЯ И ПОЖИЛОЙ СОБЛАЗНИТЕЛЬ
СЕДОВЛАСЫЙ ОТЕЦ СРАЖЕН ГОРЕМ
(Особый еженедельный репортаж Пиппина)
«Я бы скорее увидел ее в могиле!» – восклицает уязвленный в самое сердце преп. Чарлз Хэйр, ректор Найп-Хилла, в Суффолке, узнав, что его двадцативосьмилетняя дочь убежала со своим тайным любовником, пожилым холостяком по фамилии Уорбертон, называющим себя художником.
Мисс Хэйр, покинувшая городок ночью двадцать первого августа, все еще не найдена, и все попытки выследить ее оказались безрезультатны. По слухам, пока еще неподтвержденным, ее недавно видели с мужчиной в одном венском отеле сомнительной репутации.
Читатели «Еженедельника Пиппина» помнят, что побег сопровождался драматическими обстоятельствами. Незадолго до полуночи двадцать первого августа миссис Эвелина Сэмприлл, вдова, живущая по соседству с домом мистера Уорбертона, случайно выглянула из окна спальни и увидела мистера Уорбертона, стоявшего у своих ворот, беседуя с молодой женщиной. Поскольку ночь была лунной, миссис Сэмприлл смогла узнать в этой молодой женщине мисс Хэйр, дочь ректора. Пара простояла у ворот несколько минут, а перед тем как войти в дом, они обнялись, по словам миссис Сэмприлл, пылая страстью. Примерно через полчаса они появились уже в машине мистера Уорбертона, выехавшей из ворот его дома, и удалились в направлении Ипсвичской дороги. Мисс Хэйр была едва одета и, по всей вероятности, находилась под воздействием алкоголя.
Теперь стало известно, что с некоторых пор мисс Хэйр тайно наносила визиты в дом мистера Уорбертона. Миссис Сэмприлл, которую с большим трудом удалось убедить поделиться сведениями о таком болезненном предмете, сообщила также…
Дороти гневно скомкала газету обеими руками и бросила в огонь, повалив жестянку с водой. Поднялся едкий дым, и Дороти почти сразу выхватила газету, не дав ей загореться. Ни к чему отворачиваться от этого – лучше узнать худшее. Она продолжила читать, движимая болезненным любопытством. Никому бы не понравилось прочитать о себе такое. Как ни странно, у нее исчезли последние сомнения в том, что эта девушка, о которой она читала, и есть она. Дороти всмотрелась в фотографию. Изображение было размытым, туманным, но она признала свои черты. Хотя отнюдь не фотография убедила ее в том, что речь в статье идет о ней. Она все вспомнила – всю свою жизнь в подробностях, вплоть до того вечера, когда пришла домой от мистера Уорбертона и, вероятно, заснула в теплице. Все это представилось ей с такой ясностью, что она поразилась, как могла не помнить этого.
Она не стала завтракать в то утро и даже не подумала приготовить еду на день; но в положенное время, подчиняясь привычке, вышла в поле вместе с остальными. С трудом она одна установила тяжелую раму с корзиной, взяла очередной побег и начала собирать шишки. Но через несколько минут поняла, что это бесполезно; даже механический труд был ей не по силам. Ужасная, лживая статья в «Еженедельнике Пиппина» до того взбудоражила ее, что она ни на секунду не могла сосредоточиться ни на чем другом. У нее в уме без конца крутились эти похабные фразочки: «обнялись, пылая страстью»… «едва одета»… «под воздействием алкоголя», и каждая из них причиняла ей такие мучения, что она с трудом сдерживалась, чтобы не закричать от боли.
Вскоре она перестала даже делать вид, что работает, уронила побег на корзину и опустилась на землю, привалившись к одному из столбов, державших проволочный навес. Другие сборщики глядели на нее с сочувствием.
– Расклеилась Эллен, – говорили они. – А чего вы хотели, когда ее милого замели?
Все в лагере, разумеется, не сомневались, что Нобби был ее любовником. Они советовали ей пойти на ферму и сказать, что ей нездоровится. А ближе к полудню, когда должен был прийти мерщик, все стали подходить к ее корзине и бросать горстями шишки хмеля.
Когда пришел мерщик, Дороти все так же сидела на земле. Под слоем грязи и загаром она очень побледнела; лицо у нее осунулось и казалось сильно старше. Ее корзина стояла в двадцати ярдах от остальных, и хмеля в ней было меньше чем на три бушеля.
– В чем дело? – спросил мерщик. – Заболела?
– Нет.
– Ну а чего ж тогда не собираешь? Тебе что здесь, пикник, что ли? Ты, знаешь ли, не для того сюда пришла, чтобы рассиживаться.
– Харе уже пилить ее! – прокричала неожиданно старая торговка. – Нельзя, что ль, бедняжке отдохнуть спокойно, раз так хочется? Не вы ли постарались с вашими проклятыми доносчиками, чтобы ее милого в кутузку упекли? У нее забот хватает, чтобы еще каждый, млять, стукач в Кенте до нее докапывался!
– Закрой-ка варежку, мамаша! – сказал мерщик грубо.
Но взглянул на Дороти мягче, узнав, что это ее любовника арестовали ночью. Когда торговка вскипятила воду, она позвала Дороти, налила ей крепкого чаю и дала ломоть хлеба с сыром; а после обеденного перерыва к Дороти направили другого сборщика, сухощавого старичка по прозвищу Глухарь, работавшего без пары. От чая Дороти слегка взбодрилась, а пример мистера Глухаря – он оказался отличным сборщиком – помог ей продержаться до вечера.
Она успела все взвесить и сумела взять себя в руки. Ей было все так же противно вспоминать фразочки из «Еженедельника Пиппина», но она старалась свыкнуться с этой ситуацией. Она догадывалась, как все вышло и на чем основывалась клевета миссис Сэмприлл. Миссис Сэмприлл увидела, как мистер Уорбертон поцеловал Дороти у ворот; а потом, когда они оба покинули Найп-Хилл, у нее возникло естественное подозрение – естественное для миссис Сэмприлл, – что они уехали вместе. Что же касалось живописных подробностей, она придумала их позже. Или просто додумала? Никогда нельзя было сказать наверняка насчет миссис Сэмприлл, врала ли она сознательно, чтобы ввести всех в заблуждение, или ее извращенный ум заставлял ее действительно верить в это.
Что ж, так или иначе, она сделала свое черное дело – теперь придется с этим жить. А пока Дороти предстояло обдумать возвращение в Найп-Хилл. Ей нужно будет запросить свою одежду и два фунта на билет на поезд. Домой! От этого слова у нее екнуло сердце. Домой, после стольких недель грязи и голода! Как же ей хотелось домой, как ярко ей представлялся родной дом!
Однако…
В душе у нее шевельнулось сомнение. Она вдруг увидела всю ситуацию с другой, внешней стороны. Сможет ли она вернуться домой после такого? Посмеет ли?
Сможет ли ходить по улицам Найп-Хилла после всего случившегося? Об этом следовало подумать. Стоило представить первую полосу «Еженедельника Пиппина» – «едва одета»… «под воздействием алкоголя» – ой, лучше не вспоминать! Но, когда тебя с ног до головы облили грязью, сможешь ли ты вернуться в городок с населением в две тысячи, где все знают, что у кого, и судачат дни напролет?
Она не могла решить, сможет ли справиться с этим. Сперва она подумала, что вся эта история с тайной любовью настолько абсурдна, что никто не мог в нее поверить. К тому же мистер Уорбертон будет на ее стороне и подтвердит ее слова – в этом она не сомневалась. Но затем вспомнила, что мистер Уорбертон сейчас за границей и, если только эта история не попала в континентальные газеты, он вряд ли слышал о ней; и ее охватили сомнения. Она знала, каково это, жить в маленьком городке после скандала. Косые взгляды и насмешки тебе вслед! Злые кумушки, следящие за тобой из-за занавесок! Юнцы на всех углах завода Блайфил-Гордона, похотливо обсуждающие тебя!
«Джордж! Слышь, Джордж! Видал вон ту фифу? Белобрысую?»
«Ту, что ли, воблу? Да. Кто она?»
«Дочка ректора, вот кто. Мисс ‘Эйр. Слышь, чё скажу! Знаешь, чё она выкинула два года назад? Замутила с хахалем, который ей в отцы годился. То и дело моталась с ним кувыркаться в Париж! А так по ней не скажешь, а?»
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!