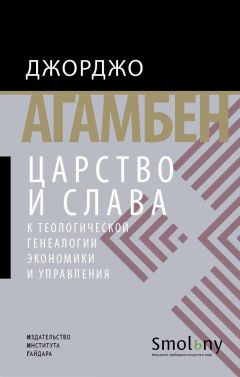
Автор книги: Джорджо Агамбен
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Проводимое в патристике разграничение между теологией и экономикой настолько устойчиво, что его можно обнаружить у современных теологов в виде оппозиции имманентной Троицы и Троицы экономической. Первая отсылает к Богу в его бытии-в-себе и потому также называется «сущностной»; вторая же означает Бога в его отношении к делу искупления, через которое он открывается людям (поэтому ее также называют «Троицей откровения»). Сочленение этих двух троиц, различных и в то же время неразделимых, составляет апоретическую задачу, которую тринитарная экономика оставляет в наследие христианской теологии, в особенности – учению о провиденциальном управлении миром, предстающему в этой связи как биполярная машина, единство которой постоянно рискует распасться и каждый раз должно быть завоевано заново.
3.5. Радикальное разделение и вместе с тем необходимое единение теологии и экономики, возможно, нигде так ярко не проявилось, как в спорах вокруг монофелитства, разделивших Святых Отцов в VII веке. Существует текст, в котором полностью проясняется стратегический смысл этого сложного сочленения: речь идет о «Диспуте с Пирром» Максима Исповедника. Согласно монофелитам, манифестом которых является «Эктезис» Ираклия (638), предстающего в диалоге в роли Пирра, у Христа две природы, но единая воля (thelēsis) и единая деятельность (energeia), «которая направлена на выполнение как божественных дел, так и дел человеческих» (Simonetti, P. 516). Монофелиты опасаются того, что доведенный до крайности диофизитизм приведет в конечном итоге к расколу в экономике – то есть в божественном праксисе, полагая в Христе «две воли, которые противоположены друг другу, будто божественное Слово желает привести в жизнь искупительное страдание, а человеческая его часть препятствует и противостоит его воле» (Ibid. P. 518). Поэтому Максиму, утверждающему, что двум природам в Христе могут соответствовать лишь две воли и два различных действия, Пирр отвечает, что «это говорилось Святыми Отцами согласно теологии, а не согласно экономике. Недостойно мысли, любящей истину, переносить в область экономики то, что утверждалось согласно теологии, создавая подобную нелепицу» (PG, 91, 348).
Ответ Максима категоричен и свидетельствует о том, что сочленение двух дискурсов является частью проблемы, во всех смыслах определяющей. Если то, что было сказано Святыми Отцами по поводу теологии, пишет он, не относилось бы также и к экономике, «то после воплощения Сын не подлежал бы теологическому рассмотрению [syntheologeitai] вместе с Отцом. А ежели этого не происходит, его имя не может звучать во время призывания Святого Духа при крещении; а значит, вера и проповедь будут тщетными» (Ibid.). В другом своем сочинении Максим, подчеркивая неразделимость теологии и экономики, утверждает следующее: «Воплощенное [то есть представляющее экономику] Слово Божье обучает теологии» (PG, 90, 876).
Неудивительно, что радикальный «экономизм», который, различая в сыне две воли, ставит под угрозу само единство христологического субъекта, нуждается в утверждении единства теологии и экономики, – тогда как «теологизм», который пытается любой ценой удержать это единство, решительно противопоставляет два дискурса. Различение между двумя рациональностями непрерывно пересекает область теологических диспутов, и, подобно тому, как тринитарный догмат и христология сформировались одновременно и не могут быть разделены, так и теология и экономика не могут быть разграничены. Две природы, согласно стереотипной формуле, сосуществуют в Христе «без разделения и без смешения» (adiairetos kai asynchytos): точно так же два дискурса должны совпадать не смешиваясь – и различаться не разделяясь. Ведь на кону в их отношениях не только цезура между человечностью и божественностью в Сыне, но и в более широком плане – разрыв между бытием и праксисом. Экономическая рациональность и рациональность теологическая должны действовать, если можно так выразиться, «в разделяющем согласии» так, чтобы не отрицалась экономика Cына и чтобы при этом не был допущен сущностный раскол в Боге.
И все же экономическая рациональность, через которую христология получила свою первую, неточную формулировку, будет непрестанно отбрасывать свою тень на теологию. После того как вокабуляр гомоусии и гомоиусии[73]73
У А.: homoousia и homoiousia.
[Закрыть], ипостаси и природы почти окончательно подменит собой первую формулировку догмата о Троице, экономическая рациональность со своей прагматико-управленческой, а не научно-онтологической парадигмой будет продолжать скрыто действовать в качестве силы, стремящейся подорвать и разрушить единство онтологии и праксиса, божественности и человечности.
ℵ Разрыв между бытием и действием и анархический характер божественной ойкономии являют собой логическое место, в котором проясняется сущностное отношение, связывающее в нашей культуре управление и анархию. Не только нечто вроде провиденциального управления миром возможно лишь потому, что действие не имеет никакого основания в бытии; но и само это управление, которое, как мы увидим, имеет свою парадигму в Сыне и в его ойкономии, глубоко анархично. Анархия есть нечто такое, что управление должно предположить и присвоить в качестве собственного истока – и в то же время в качестве цели, к которой направлено движение. (Беньямин в данном смысле был прав, когда писал о том, что нет ничего более анархичного, чем буржуазный порядок; а реплика, которую Пазолини вкладывает в уста одного из сановников в фильме «Сало», – «Единственная подлинная анархия – это анархия власти», – не несет в себе и тени иронии.)
Отсюда несостоятельность попытки Райнера Шюрмана, предпринятой в его все же знаковой книге «Принцип анархии», помыслить «экономику анархическую», то есть безоснóвную, в перспективе преодоления метафизики и истории бытия. Среди постхайдеггерианских философов Шюрман единственный, кто понял связь, объединяющую теологический концепт ойкономии (который он, однако, оставил без внимания), проблему онтологии, и в особенности хайдеггерианское прочтение онтологического различия и «эпохальной» структуры истории бытия. Именно в этой перспективе он пытается помыслить праксис и историю без какого-либо основания в бытии (то есть совершенно ан-архическим образом). Но онтотеология всегда уже мыслит божественное действие как необоснованное в бытии и, по сути дела, задается целью выявить сочленение между тем, что она всегда разделяла. Иначе говоря, ойкономия всегда уже анархична, лишена основания, а переосмысление проблемы анархии в нашей политической традиции становится возможным лишь исходя из осознания скрытой теологической связи, объединяющей ее с управлением и с провидением. Управленческая парадигма, генеалогию которой мы здесь выстраиваем, в действительности изначально является «анархо-управленческой».
Это не означает, что за пределами управления и анархии невозможно помыслить Неуправляемое – то есть нечто такое, что никогда не сможет принять форму той или иной ойкономии.
Порог
На закате классической культуры, когда единство античного космоса разрушается, а пути бытия и действия, онтологии и праксиса будто бы окончательно расходятся, мы наблюдаем, как в лоне христианской теологии вырабатывается сложное учение, в котором сочетаются элементы иудаизма и язычества, – учение, силящееся осмыслить этот разрыв и вместе с тем восполнить его посредством управленческой и не-научной [non-epistemico. – Примеч. пер.] парадигмы, которой и является ойкономия. Согласно этой парадигме, божественное действие, от сотворения мира до искупления, не имеет основания в бытии Бога и до такой степени расходится с ним, что осуществляется в отдельном лице – в Слове или в Сыне; тем не менее, это анархичное и безоснóвное действие должно каким-то образом согласовываться с единством сущности. С помощью идеи свободного и добровольного действия, объединяющего в себе творение и искупление, эта парадигма должна была преодолеть как гностическую антитезу между чуждым миру богом и творцом-демиургом и правителем мира, так и присущее язычеству тождество между бытием и действием, которое делало малоубедительной саму идею творения. Вызов, который христианская теология таким образом бросает гнозису, состоит в том, чтобы увязать трансцендентность Бога и сотворение мира, а также непричастность Бога к миру и стоическое и иудаистское представление о Боге, который заботится о мире и осуществляет над ним провиденциальное управление. Перед лицом этой апоретической задачи ойкономия в ее управленческом и административном истоке предлагала гибкий инструмент, который представал одновременно как логос, рациональность, избавленная от каких бы то ни было внешних уз, и как действие, не обусловленное какой бы то ни было онтологической необходимостью или предзаданной нормой. Являясь одновременно дискурсом и реальностью, не-научным знанием и анархичным действием, ойкономия на протяжении многих веков позволяла теологам определять то принципиально новое, что несла в себе христианская вера, и в то же время сочетать в ней плоды позднеантичной, стоической и неопифагорийской мысли, уже ориентированной в «экономическом» направлении. Именно в лоне этой парадигмы сформировались узловые моменты тринитарной догматики и христологии: от этого своего истока они так и не освободились окончательно, продолжая отдавать дань как его апориям, так и его преимуществам.
Таким образом, становится понятно, в каком смысле возможно говорить о том, что христианская теология с самых своих истоков является экономико-управленческой, а не политико-государственной: именно таков тезис, от которого мы отталкиваемся в полемике со Шмиттом. Что христианская теология содержит в себе экономику, а не только политику, все же не означает, что ее значение для истории идей и политических практик на Западе маловажно; напротив, теолого-экономическая парадигма обязывает заново переосмыслить таковую историю в новой перспективе c учетом ключевых моментов пересечения политической традиции в узком смысле с традицией «экономико-управленческой», которая, ко всему прочему, как мы увидим, обретает наиболее полное выражение в средневековых трактатах de gubernatione mundi[74]74
Об управлении миром (лат.).
[Закрыть]. Две парадигмы существуют бок о бок и пересекаются друг с другом таким образом, что формируют собой биполярную систему, понимание которой оказывается предпосылкой к любой попытке истолкования политической истории Запада.
В своей объемной монографии о Тертуллиане Муант в одном месте справедливо указывает на то, что наиболее точным переводом выражения unicus deus cum sua oikonomia – и, возможно, единственным, способным обнять разные значения термина «экономика», – является «единый Бог со своим правительством[75]75
Cлово «governo», использованное Агамбеном, наделено семантической двойственностью, так как означает «управление», но также и «правительство».
[Закрыть], в том смысле, в котором „правительство“ означает министров короля, чья власть которых в распространении королевского могущества, не являясь ему равноценной, хотя при этом она необходима для его проявления»; понятая таким образом, «экономика означает способ управления посредством множественности проявлений божественного могущества» (Moingt. P. 923). В этом своем изначальном «управленческом» значении аполитическая парадигма экономики обнаруживает, помимо прочего, и свои политические импликации. Разрыв между теологией и ойкономией, между бытием и действием, делая свободным и «анархичным» праксис, по сути, одновременно утверждает возможность и необходимость управления этим праксисом.
В исторический момент, когда имел место кризис классической системы представлений – как в политическом, так и в онтологическом плане, – гармония трансцендентного вечного начала и имманентного миропорядка разрушается и проблема «управления» миром и его легитимации становится во всех смыслах основополагающей политической проблемой.
4. Царство и правление
4.1. Один из самых запоминающихся образов в цикле романов о рыцарях Круглого стола – образ Roi mehaignié, раненого или изувеченного короля (слово mehaignié соответствует итальянскому magagnato[76]76
Зд.: искалеченный, изувеченный.
[Закрыть]), который правит terre gaste, опустошенной землей, «где пшено не растет, а деревья не дают плодов». Согласно Кретьену де Труа, во время сражения король был ранен в пах и изувечен до такой степени, что не был в состоянии держаться на ногах и ездить верхом. Поэтому, когда он хотел предаться досугу, он приказывал своим слугам поместить его в лодку и отправлялся удить рыбу (отсюда прозвище Король-рыбак), пока его сокольничие, лучники и охотники хозяйничали в его лесах. Дело, однако, идет о некоей диковинной рыбалке: ниже Кретьен уточняет, что король уже пятнадцать лет не покидает своих покоев и питается гостией, которую ему подают в святом Граале. Согласно другому, не менее авторитетному источнику, напоминающему кафкианский сюжет об охотнике Гракхе, во время охоты в лесу король потерял своих собак и охотников. Добравшись до берега моря, он обнаружил на корабле сверкающий меч: в тот момент, когда он пытался вытащить его из ножен, по какому-то магическому стечению обстоятельств он оказался поражен в пах копьем.
Как бы то ни было, изувеченный король исцелится лишь тогда, когда Галахэд в конце quête[77]77
Поиски, розыски, искания (фр.).
[Закрыть] смажет его рану кровью с копья, пронзившего бок Христа.
Образ изувеченного и немощного короля получил самые разнообразные толкования. В своей книге, оказавшей значительное влияние не только на артурианские исследования, но и на поэзию ХХ века, Джесси Уэстон связывает образ Короля-рыбака с «божественным началом жизни и плодородия», с тем самым «Духом Растительности», который автор, вслед за Фрезером и англосаксонскими фольклористами, с немалой долей эклектизма обнаруживает в ритуалах и мифологических образах, восходящих к самым разнообразным культурным традициям, – от вавилонского Таммуза до греко-финикийского Адона.
Во всех этих толкованиях в тени остается тот факт, что легенда, помимо всего прочего, несомненно содержит в себе подлинно политическую мифологему, которая без особых натяжек может быть истолкована как парадигма разделенной и бессильной верховной власти. Ничуть не утратив своей легитимности и сакральности, король действительно по какой-то причине оказался отделен от своих полномочий и дел, доведенный до бессилия. Он не только не может охотиться или ездить верхом (занятия, которые, по всей видимости, символизируют здесь светскую власть), но вынужден оставаться взаперти в своих покоях, пока его министры (сокольничие, лучники и охотники) осуществляют управление от его имени и вместо него. В этом смысле раскол верховной власти, воплощенный в образе короля-рыбака, будто бы отсылает к дуальности, которую Бенвенист усматривает в индоевропейском институте царской власти, между функцией преимущественно религиозно-магической и функцией непосредственно политической. Однако в легендах о Граале акцент скорее делается на бездеятельном и отделенном характере изувеченного короля, который – по крайней мере до тех пор, пока его не исцелит прикосновение магического копья, – исключен из всякой конкретной деятельности, связанной с правлением. Roi mehaignié, стало быть, являет собой своего рода прообраз современного правителя, который «царствует, но не правит»; и в этом плане легенда, возможно, заключает в себе смысл, который касается нас более непосредственным образом.
4.2. Прежде чем обратиться к проблеме божественной монархии в начале своей книги «Монотеизм как политическая проблема», Петерсон дает краткий анализ псевдоаристотелевского трактата «О мире», в котором он видит нечто вроде переходного звена между аристотелевской политикой и иудаистской концепцией божественной монархии. Если у Аристотеля Бог представлен как трансцендентное начало всякого движения, которое правит миром подобно тому, как стратег ведет свою армию, – то здесь, по наблюдению Петерсона, Бог уподобляется кукловоду, который, оставаясь невидимым и дергая за нитки, приводит в движение свою куклу, – или же великому царю персов, который, скрываясь в своем дворце, правит миром посредством бесчисленных иерархий министров и чиновников.
Первостепенным в отношении образа божественной монархии здесь является не вопрос о том, наделена ли она одной или несколькими властями (Gewalten), но вопрос о том, причастен ли Господь силам [Mächten], которые действуют в космосе. Автор хочет сказать следующее: Бог есть предпосылка к тому, чтобы сила (он пользуется термином из стоической терминологии dynamis, но имеет в виду аристотелевское kynesis) действовала в космосе, но именно по этой причине он сам не является силой: le roi regne, mais il ne gouverne pas[78]78
«Король царствует, но не правит» (фр.).
[Закрыть]. [Peterson 1. P. 27.]
По мысли Петерсона, в псевдоаристотелевском трактате метафизико-теологические и политические парадигмы тесно переплетены между собой. Окончательное оформление метафизического образа мира, – пишет он, почти буквально воспроизводя тезис Шмитта, – всегда обусловлено политическим решением. В этом смысле «различие между Macht (potestas, dynamis) и Gewalt (archē), которое автор трактата постулирует в отношении Бога, представляет собой метафизико-политическую проблему», которая может принимать различные формы и значения и быть развернута как в направлении разграничения между auctoritas и potestas, так и в направлении гностического противопоставления бога и демиурга.
Прежде чем рассмотреть стратегические причины этого необычного экскурса в область теологического значения, заключенного в противопоставлении царства и правления, – для подтверждения обоснованности такого обращения будет весьма кстати более подробно изучить текст, послуживший его основой. Неизвестный автор трактата – по мнению большинства ученых, он мог принадлежать к тому же кругу эллинистических иудеев-стоиков, из которого вышли Филон и Аристобул, – в действительности не столько проводит различие между archē и dynamis в Боге, сколько (совершая таким образом жест, который сближает его со Святыми Отцами, разрабатывающими христианскую парадигму ойкономии) вводит разграничение между сущностью (ousia) и могуществом (dynamis). Древние философы, – пишет он, – утверждавшие, что весь чувственный мир полон богов, выражали суждение, применимое не к бытию Бога, а к его могуществу[79]79
В существующем русском переводе: «Тем самым древние смогли дать надлежащее понятие о силе Бога, но не о его сущности».
[Закрыть] (Aristot. Mund., 397b). В самом деле, если Бог пребывает в высшей из небесных сфер, то его могущество «пронизывает весь космос, являясь причиной сохранения [sōtērias, „спасения“] всех вещей, что ни есть на земле» (ibid., 398b). Он является одновременно спасителем (sōtēr) и породителем (generatōr) всего, что ни происходит во вселенной. И все же он «не трудится единолично и самостоятельно [autourgou], но пользуется неисчерпаемой мощью, посредством которой господствует также в далеких от него областях» (ibid., 397b). Стало быть, могущество Бога, которое становится будто бы независимым по отношению к его сущности, можно уподобить – и здесь очевидна отсылка к десятой главе книги Λ «Метафизики» – главе армии на поле боя («все приводится в движение по единому знаку главнокомандующего, наделенного высшими полномочиями», Mund., 399b) или же внушительному административному аппарату персидского царя:
Сам царь, как сказывают, жил в Сузах или Эктабанах, скрытый от посторонних глаз за оградой великолепного царского дворца [basileion oikon], сверкающей золотом, янтарем и слоновой костью. К дворцу вела анфилада величественных ворот, далеко отстоявших друг от друга. Все ворота были медные и имели особые преддверия, вправо и влево уходили высокие стены. Снаружи по порядку размещались знатнейшие и славнейшие мужи: копьеносцы и слуги вокруг самого царя, а затем стражи каждой ограды, называемые привратниками и слухачами, – выходило, что сам царь, величаемый господином и богом, все видел и слышал. Отдельно размещались сборщики пошлин, военачальники и распорядители охоты, приемщики подарков, а также люди, приставленные ко всему остальному. […] Также были скороходы, сторожи, гонцы [aggeliaforoi] и наблюдатели сигнальных огней. И так все было идеально устроено, что царь узнавал обо всем происходящем в Азии в тот же день (в этом особенно помогали сигнальные огни). Но необходимо разуметь, что персидскому царю так же далеко до властвующей в космосе божественности, как до него самого – слабой и ничтожной твари. И если нечестиво полагать, что Ксеркс лично всем занимается и сам осуществляет управление, во все вникая, то тем менее подобает мыслить такое в отношении Бога[80]80
За основу перевода данного отрывка принят перевод И. И. Маханькова: внесены лишь некоторые изменения в соответствии с вариантом перевода, представленным Агамбеном.
[Закрыть]. [Ibid., 398a–398b.]
Так, характерным образом административный аппарат, с помощью которого земные правители обеспечивают сохранность своего царства, становится парадигмой божественного управления миром. Однако автор трактата тут же спешит уточнить, что аналогия между Божьим могуществом и бюрократическим аппаратом не должна приводить к окончательному разделению между Богом и его могуществом (точно так же, по мысли Святых Отцов, ойкономия не должна предполагать расщепления божественной сущности). В отличие от земных правителей, Бог не нуждается во «множестве чужих рук» (polycheirias), но «через простое движение первой небесной сферы он передает свою мощь вещам за ней следующим, а от них постепенно доводит ее и до вещей самых отдаленных». Если истинно то, что король царствует, но не правит, в таком случае его правление – то есть его могущество – не может быть полностью от него отделено (ibid., 398b). В данном смысле налицо почти полное соответствие между стоико-иудаистской концепцией божественного управления миром и христианской идеей провиденциальной экономики, что подтверждается пространным отрывком из шестой главы, в котором это правление описывается в терминах самого настоящего провиденциального устроения вселенной:
Из этих движений, согласно звучащих и кружащихся по небу словно в танце, возникает единая гармония, происходящая из единого источника и разрешающаяся также в едином, поэтому воистину мироздание называется «космосом» [устроением], а не «акосмией» [безобразием]. Как вслед за корифеем, запевающим песню, ее подхватывает мужской или также женский хор, из разных высоких и низких голосов составляющий стройную гармонию, то же происходит и с устраивающим мироздание Богом: по знаку этого нарицаемого корифеем божества вечно движутся звезды и небо. Движется двойным обращением и яркое Солнце: своими восходами и заходами оно разделяет день и ночь, а смещаясь то севернее, то южнее, – устанавливает четыре времени года. В определенное время идет дождь, дует ветер, выпадает роса, происходят все явления – все вследствие первой и изначальной причины[81]81
Перевод на русский язык И. И. Маханькова.
[Закрыть]. [Ibid., 399a]
Аналогия, связывающая образы трактата «О мире» и образы, использованные теоретиками ойкономии, такова, что применение термина oikonomeō в отношении божественного управления миром, которое сравнивается с действием закона в городе («закон, оставаясь неподвижным, устрояет все вещи, panta oikonomei», ibid., 400b), не представляется неожиданным. Тем большее удивление вызывает тот факт, что и в этом случае Петерсон воздерживается от малейшего намека на экономическую теологию, что тем не менее позволило бы рассматривать этот текст в его связи с иудейско-христианской политической теологией.
4.3. В своем запоздалом, полном негодования ответе Петерсону Карл Шмитт с особой тщательностью анализирует контекст, в котором теолог использовал «пресловутую формулу» le roi règne, mais il ne gouverne pas в своем трактате 1935 года. «Я полагаю, – не без иронии пишет он, – что включение этой формулы в данный контекст представляет собой наиболее примечательный вклад, который Петерсон – возможно, неосознанно – внес в политическую теологию» (Schmitt 4. P. 42). Шмитт прослеживает истоки этой формулы, обнаруживая ее у Адольфа Тьера, который использует ее в качестве лозунга парламентарной монархии, а еще раньше – в ее латинском варианте (rex regnat, sed non gubernat) – в полемике, разгоревшейся в XVIII веке вокруг фигуры польского короля Сигизмунда III. Тем большее удивление вызывает у Шмитта то, насколько решительным жестом Петерсон смещает происхождение формулы в прошлое, возводя ее к самым истокам христианской теологии. «Это доказывает, сколько раздумий и какая работа мысли могут быть вложены в формулирование приемлемой теолого-политической или метафизико-политической доктрины…» (Ibid. P. 43). Таким образом, подлинный вклад Петерсона в политическую теологию состоит не в том, что ему удалось доказать невозможность христианской политической теологии, но в том, что он сумел усмотреть аналогию между либеральной политической парадигмой, которая разделяет царствование и правление, и парадигмой теологической, разграничивающей в Боге archē и dynamis.
Однако даже здесь кажущееся разногласие между двумя противниками скрывает под собой более сущностное единодушие. Как Петерсон, так и Шмитт по сути являются убежденными противниками этой формулы: Петерсон – потому, что она определяет иудейско-эллинистическую теологическую модель, лежащую в основе политической теологии, которую он намеревается подвергнуть критике; Шмитт – поскольку она служит эмблемой и лозунгом либеральной демократии, против которой он ведет свою борьбу. Для того чтобы понять стратегические импликации проводимой Петерсоном аргументации, принципиально важно прояснить не только то, что в ней озвучено, но и то, что в ней замалчивается. Как мы уже имели возможность убедиться, разграничение между царствованием и правлением действительно имеет свою теологическую парадигму не только в иудаизме эллинистического толка, как полагает Петерсон, казалось бы, принимая это за некую данность, – но также и в трудах христианских теологов, которые между III и V веком обосновывают разграничение между бытием и ойкономией, между теологической рациональностью и рациональностью экономической. Иными словами, причины, по которым Петерсон стремится удержать парадигму Царствование/Правление в пределах иудаистской и языческой политической теологии, суть те же, в силу которых он обходит молчанием изначальную «экономическую» формулировку тринитарной доктрины. Иначе говоря, речь шла о том, чтобы, отринув, вопреки Шмитту, теолого-политическую парадигму, всячески воспрепятствовать (и здесь Петерсон действует созвучно Шмитту) тому, чтобы ей на смену пришла теолого-экономическая парадигма. Тем более безотлагательным в этом свете представляется новое, углубленное генеалогическое исследование предпосылок и теологических импликаций разграничения Царство/Правление.
ℵ По мысли Петерсона, «экономическая» парадигма в узком смысле является неотъемлемой частью иудаистского наследия Нового времени, в котором банк стремится занять место храма. Лишь голгофская жертва Христа ознаменует собой конец жертвоприношений в еврейском храме. Действительно, по Петерсону, изгнание торговцев из храма свидетельствует о том, что за голгофской жертвой Христа стоит «диалектика денег и жертвоприношения». После разрушения храма евреи попытались подменить жертвоприношение милостыней.
Жертвуемые Богу и накапливаемые в храме деньги превращают храм в банк […]. Евреи, которые отвергли политический порядок, когда заявили, что над ними нет никакого царя […], осуждая Христа за его высказывания против храма, стремились спасти экономический порядок. [Peterson 2. P. 145.]
Именно эта подмена политики экономикой в результате жертвы Христа стала невозможной.
Наши банки превратились в храмы, но именно они делают очевидным в так называемом экономическом порядке превосходство кровавой голгофской жертвы и доказывают невозможность спасти то, что исторично […]. Подобно тому как в политическом порядке светские царства народов земли после эсхатологической жертвы не могут быть «спасены», «экономический порядок» евреев не может быть сохранен в форме связующего отношения между храмом и деньгами [Ibid.].
Таким образом, как политическая, так и экономическая теология исключаются из христианства как чисто иудаистское наследие.
4.4. Враждебность Шмитта в отношении любых попыток разграничить Царство и Правление, и в частности его неприятие либерально-демократической доктрины разделения властей, которая тесно связана с этим разграничением, часто проступает в его работах. Уже в «Verfassungslehre»[82]82
«Теория конституции» (нем.).
[Закрыть] 1927 года он употребляет эту формулу в отношении «парламентской монархии в бельгийском стиле», в которой управление делами находится в руках министров, тогда как король представляет своего рода «нейтральную власть». Единственное положительное значение, которое Шмитт, по видимости, признает за разделением Царства и Правления, – восходит к разграничению между auctoritas и potestas:
Вопрос, который задал великий знаток общественного права, Макс фон Зайдель: «Что остается от regner, если убрать gouverner?» – может быть разрешен лишь в рамках разграничения между potestas и auctoritas: тогда проясняется и особый смысл авторитета перед лицом политической власти [Schmitt 4. P. 382–383].
Этот смысл раскрывается в эссе 1933 года «Государство, движение, народ», в котором Шмитт, пытаясь сделать набросок новой конституции националистического рейха, по-новому переосмысляет разграничение между Царством и Правлением. Хотя во время обостренных социально-политических конфликтов в Веймарской республике он энергично выступал за расширение полномочий рейхспрезидента как «гаранта конституции», Шмитт теперь утверждает, что президент «вновь занял своего рода „конституционную“ позицию авторитарного главы Государства, qui règne et ne gouverne pas» (Schmitt, 5. P. 10). Теперь перед этим неправящим сувереном предстает, в лице Адольфа Гитлера, не просто функция управления (Regierung), но новая фигура политической власти, которую Шмитт называет Führung и которую как раз-таки следует отличать от традиционного правления. В этом контексте он намечает генеалогию «управления людьми», которая, кажется, в головокружительной перспективе предвосхищает генеалогию, которая в середине 1970-х составит предмет занятий Мишеля Фуко в рамках его лекционных курсов в Коллеж де Франс. Как и Фуко, Шмитт видит в пастырстве католической церкви парадигму современной концепции управления:
Вести [führen] не означает повелевать. […] Во имя укрепления своей власти над верующими римско-католическая церковь превратила образ пастуха и стада в догматико-теологическую идею. [Ibid. P. 41]
Точно так же в знаменитом пассаже из диалога «Политик» Платон
говорит о различных метафорах, применяемых в отношении правителя: последний сравнивается с врачом, пастухом и кормчим; в итоге в качестве наиболее удачного утверждается сравнение с кормчим. Через слово gubernator оно проникло во все романские и англосаксонские языки, формировавшиеся под влиянием латыни, и в итоге стало означать управление [Regierung]: gouvernement, governo, government, или же gubernium старой Габсбургской монархии. История слова gubernator являет собой замечательный пример того, каким образом причудливое сравнение может лечь в основу узкоюридического понятия. [Ibid. P. 41–42.]
ℵ Именно на фоне этих размышлений об управлении Шмитт пытается подчеркнуть «исконно немецкий смысл» (Ibid. P. 42) националистического концепта Führung, который «берет свое начало не в барочных аллегориях и представлениях [аллюзия на теорию суверенитета, которую Беньямин развивает в работе „Происхождение немецкой барочной драмы“] или „в общей картезианской идее“, а „непосредственно в настоящем, и связан он с реальным присутствием“ (Ibid.). Однако такое обособление не очень убедительно, поскольку „исконно немецкого смысла“ термина попросту не существует, а слово Führung, как и глагол führen и существительное Führer (в отличие от итальянского „дуче“, которое в истории уже претерпело сужение значения до военно-политической области – например, в случае венецианского „дож“), отсылает к чрезвычайно обширной семантической сфере, включающей в себя любую ситуацию, в которой некто направляет и ориентирует движение живого существа, транспортного средства или объекта (включая, разумеется, случай губернатора, то есть кормчего). Впрочем, чуть ранее анализируя троичное расчленение национал-социалистической материальной конституции на „Государство“, „движение“ и „народ“, Шмитт определил народ как „аполитичную сторону“ [unpolitische Seite], которая формируется под защитой и в тени политических решений» (Ibid. P. 12), тем самым недвусмысленно закрепляя за партией и за Фюрером характерную пастырскую и управленческую функцию. Специфику же Führung в отношении пастырско-управленческой парадигмы, по мысли Шмитта, составляет то, что если в рамках последней «пастырь остается абсолютно трансцендентным по отношению к стаду» (Ibid. P. 41), то первая, напротив, определяется исключительно «исходя из абсолютного видового равенства [Artgleichheit] между Фюрером и его последователями» (Ibid. P. 42). Концепт Führung выступает здесь в качестве секуляризации пастырской парадигмы, в рамках которой упраздняется трансцендентный характер последней. Однако для того, чтобы высвободить Führung из тисков управленческой модели, Шмитт вынужден придать конституционный статус понятию расы, благодаря которому аполитичный элемент – народ – политизируется единственно возможным, согласно Шмитту, образом, то есть благодаря превращению племенного равенства в критерий, который, отделяя чужое от тождественного, всякий раз служит основой для принятия решения о том, кто есть друг, а кто есть враг. Не без аналогии с анализом, который разовьет Фуко в «Il faut défendre la societé»[83]83
Речь идет о работе Фуко «Нужно защищать общество».
[Закрыть], расизм таким образом становится диспозитивом, посредством которого суверенная власть (которая для Фуко совпадает с властью над жизнью и смертью, а у Шмитта – с решением о чрезвычайном положении) вновь включается в биовласть. Таким образом экономико-управленческая парадигма возвращается в подлинно политическую сферу, в которой разделение властей теряет свой смысл, а акт управления (Regierungakt) уступает место уникальной деятельности, посредством которой «Фюрер утверждает свое высшее Führertum».









































